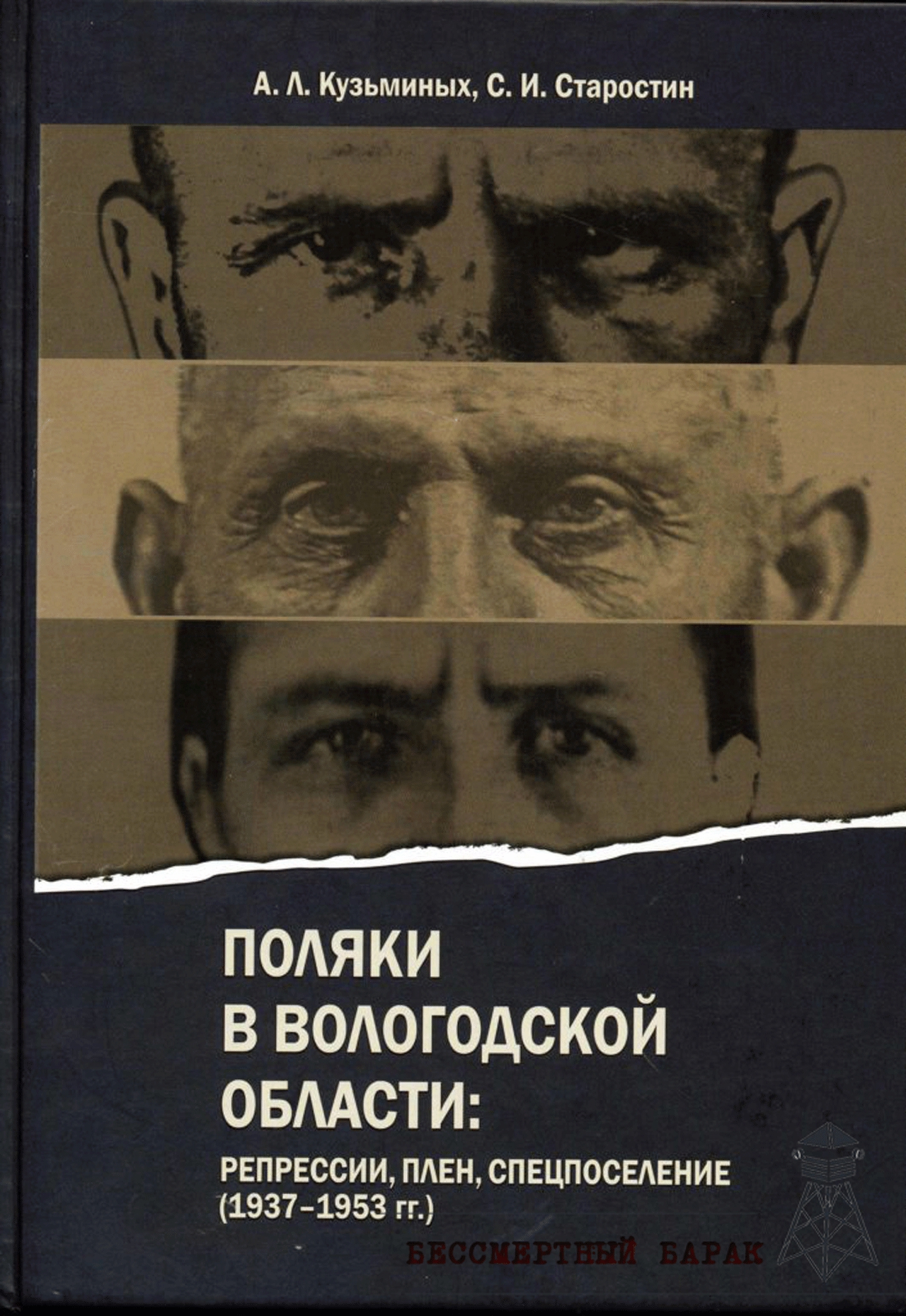Книга повествует о трагических страницах истории поляков и польских граждан на территории Вологодской области в эпоху сталинизма. В исторических очерках, документах и биограммах освещаются судьбы репрессированных, военнопленных и депортированных. Книга основана на уникальных документах государственных и ведомственных архивов, большинство из которых публикуются впервые.
Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
А. Блок
Предисловие
История советско-польских отношений – одна из наиболее сложных и противоречивых страниц прошлого. Долгое время в отечественной историографии господствовал принцип «непогрешимости» политики советского государства в отношении своего славянского соседа. Акцент делался на помощь СССР польскому народу в освобождении от нацистской оккупации, братское сотрудничество в период Великой Отечественной войны и становление новой, социалистической польской государственности. И только благодаря «архивной революции» 1990-х гг., ставшей следствием распада советской системы, историки получили возможность исследовать доселе запретные темы советско-польских отношений. К числу таких тем, безусловно, относится история репрессий против поляков и польских граждан в период сталинизма.
В 1937–1938 гг. поляки стали одной из самых многочисленных национальных групп, на которую обрушился маховик «Большого террора». Эта репрессивная кампания получила наименование «польская операция». Любой советский гражданин, имевший польскую фамилию или польские корни, оказывался потенциальной жертвой карательной машины НКВД. Практически во всех регионах СССР, в столичных городах и глубокой провинции, проходили массовые аресты и допросы, выносились приговоры, содержание которых было заранее предопределено. В целом по польской операции было осуждено 139 835 чел., из которых 111 091 чел. были расстреляны и 28 744 чел. направлены в исправительно-трудовые лагеря.
Новый виток репрессий обрушился на польский народ после раздела Польши между гитлеровским и сталинским режимами в начале Второй мировой войны. Официальным поводом для «освободительного похода» Красной армии стали пропагандистские тезисы об оказании братской помощи украинцам и белорусам, изнывающим под «игом польских панов» и «несостоятельности польского государства». Военнослужащие польской армии, захваченные на занятых территориях (248 тыс. чел.), были обезоружены, а половина из них (125 тыс. чел.) – направлена в лагеря НКВД. Большинство солдат вскоре были освобождены (42 тыс. чел.) или переданы германским властям (43 тыс. чел.). Остальные (около 25 тыс. чел.) удерживались в советском плену и привлекались к труду на советских предприятиях и стройках.
Наиболее трагическая судьба выпала на долю офицеров польской армии, сотрудников полиции, пограничной охраны (15 тыс. чел.), которые на основании секретного решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. были расстреляны под Калинином, Смоленском и Харьковом, как «заклятые враги советской власти». Та же участь постигла 11 тыс. польских узников тюрем УНКВД Западной Украины и Западной Белоруссии.
Массовой депортации подверглось польское население с присоединенных к СССР территорий. Около 320 тыс. чел. были высланы в северные и восточные регионы страны. В местах принудительного поселения они были обязаны трудиться на лесозаготовках, объектах местной промышленности и не имели права возвращения на родину. Многие погибли во время долгого пути, от голода и холода на чужбине, брошенные на произвол судьбы и лишенные средств к существованию. Тем, кто уцелел, приходилось ютиться в грязных и тесных бараках, привыкать к тяжелому, неквалифицированному труду, регулярно проходить регистрацию в поселковых комендатурах.
Переломным моментом в судьбах поляков стало начало Великой Отечественной войны. 30 июля 1941 г. СССР и эмигрантское польское правительство в Лондоне подписали соглашение об установлении дипломатических отношений и формировании на территории Советского Союза польской армии. Почти 390 тыс. польских граждан, находившихся в местах заключения и ссылки, в результате амнистии, объявленной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 г., получили свободу. Свыше 100 тыс. чел. выехали к местам формирования армии генерала В. Андерса. Однако советско-польское сотрудничество оказалось непродолжительным. Сокрытие сталинским руководством информации о «пропавших без вести» польских офицерах, вывод польской армии из СССР в 1942 г. по решению правительства В. Сикорского, а затем опубликование немцами материалов с результатами раскопок в Катынском лесу – всё это привело к разрыву дипломатических отношений между вчерашними союзниками.
Третья волна репрессий против поляков пришлась на завершающий период Второй мировой войны, когда советские войска освободили территорию Польши от гитлеровских захватчиков. Органы военной контрразведки «Смерш» и НКГБНКВД арестовывали лиц, сотрудничавших с немецкими оккупантами, членов польского движения Сопротивления и всех, кто представлял потенциальную опасность для советской власти. Главный удар был направлен против подпольной Армии Крайовой, напрямую подчинявшейся польскому правительству в Лондоне. По данным исследователей, от 39 до 48 тыс. поляков были арестованы и интернированы на территорию СССР. В местах лишения свободы они содержались наравне с заключенными и военнопленными гитлеровской армии и были возвращены на родину спустя несколько лет после окончания войны, за исключением тех, кто был осужден и переведен в лагеря ГУЛАГа.
Беспрецедентный масштаб репрессий против поляков и польских граждан со стороны сталинского режима, затронувший, по разным оценкам, от 700 тыс. до 1 млн чел., а также попытка советского руководства на протяжении долгого времени скрывать историческую правду негативно отразились на взаимоотношениях между народами России и Польши. По убеждению авторов данной книги, только признание моральной ответственности за преступления сталинского режима современным российским обществом и правдивое изложение истории способны преодолеть вражду и конфронтацию, оставшиеся нам в наследство от сталинской эпохи. Только взаимопонимание и стремление к честному и открытому диалогу являются надежной предпосылкой для сближения между нашими странами в обозримом будущем.
* * *
Ссыльная Вологда – уникальный исторический феномен. «Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца... – писал Варлам Шаламов. – Много столетий этот город – место ссылки или кандальный транзит для многих деятелей сопротивления – от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметьева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до Луначарского». Особая роль вологодской земли в карательной политике Российского, а затем и Советского государства, во многом объяснялась спецификой ее природно-географического положения, а именно: обширной территорией, суровым климатом, малонаселенностью, бездорожьем, удаленностью от административно-политических центров страны. В XVI–XVIII вв. вологодские монастыри являлись одним из ключевых звеньев в системе исполнения наказаний. Ссылке и заключению в монастырские тюрьмы подлежали государственные преступники, еретики, раскольники, сектанты, лица духовного сана, приговоренные к тюремному заключению, участники крестьянских выступлений и даже члены царствующей династии . В числе поднадзорного контингента традиционно были иностранцы, среди которых особую группу составляли поляки.
Первые упоминания о пребывании поляков на Вологодчине относятся к началу XVII в., периоду «Смутного времени». Именно тогда Василий Шуйский определил «дальние города» – Белозерск, Великий Устюг, Вологду и Устюжну в качестве мест поселения поляков, взятых в заложники в мае 1606 г. за оказание поддержки самозванцу Лжедмитрию I. По указанию царя 37 пленников («Дворжицкого с товарищами его и со всеми, которые под его началом») в апреле 1607 г. доставили в Вологду и разместили под охраной на «литовском дворе, в опальной тюрьме и в дьячьей избе Спасского Прилуцкого монастыря вотчины» . Пленные поляки неоднократно жаловались на недостаток пищи, тесноту помещений и притеснения вологодского воеводы Н.М.Пушкина. В августе 1608 г. несколько пленных даже совершили побег из Устюжны. На их поимку из Вологды был направлен отряд стрельцов. В конце концов, 3 октября 1608 г. «польских панов и их слуг» освободили, снабдив их на дорогу деньгами и подводами . Гораздо более сурово обошлись вологжане с захваченными в плен представителями следующего самозванца – Лжедмитрия II, которые подвергли город разорению и грабежам. Последним отрубили головы и бросили на съедение собакам и свиньям.
После Отечественной войны 1812 г. Вологодская губерния стала пристанищем около 2 тыс. солдат наполеоновской армии . Среди них были уроженцы Польши, воевавшие под знаменами Великого герцогства Варшавского . С пленными поляками власти обращались не как с военнопленными, а как с мятежниками. В частности, утвержденное 21 января 1813 г. императором Александром I постановление Комитета министров гласило: «Пленных поляков обратить на укомплектование полков, на Кавказе, в Грузии и даже на Сибирской линии находящихся, чем не только уменьшится число пленных, на содержании казны остающихся, но сохранятся еще собственные рекруты для усиления армий, против французов действующих» . В XIX в. вологодскую ссылку отбывали представители польского национально-освободительного движения. Одними из первых стали участники Ноябрьского восстания 1831–1832 гг., проходившего под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой». После подавления восстания в Вологду были доставлены 13 польских генералов и полковников. Среди них особо выделялись вице-губернатор г. Варшавы К.Неселовский, начальник Главного штаба Польской армии О.Морозинский, военный министр Ф.Моравский. Император Николай I оказался не слишком жестокосердным к мятежникам: к середине 1830-х гг. все они вернулись на родину. В 1840-е гг. плеяду польских ссыльных на вологодской земле пополнили участники тайной патриотической организации «Содружество польского народа». Среди них были дворяне А.Буховицкий, С.Дроздовский, Э.Ромер и другие – всего около десятка человек. Некоторые из них оставили заметный след в культурной жизни северной провинции, занимаясь музыкальным и литературным творчеством.
В 60-е гг. XIX в. на поселение в Вологду прибывают участники польского восстания 1863–1864 гг. (около 80 чел.). По данным Н.И.Голиковой, их социальный состав отличался пестротой: дворяне (43%), крестьяне (22%), мещане (9%), католическое духовенство (8%), прочие (18%). Возраст ссыльных выглядел следующим образом: до 20 лет – 12 чел., от 21 до 30 – 26 чел., от 31 до 40 – 16 чел., от 41 до 50 – 17 чел., старше 50 – 8 чел. Большинство были уроженцами Гродненской, Виленской и Ковенской губерний. Причинами ссылки являлись вооруженное участие в восстании (24%), активное косвенное участие (24%), пассивное косвенное участие (14%), политическая неблагонадежность (14%), политические дела (19%), прочие (5%).
Чтобы не допустить сплочения польской диаспоры, ее представители направлялись в наиболее отдаленные уезды: Сольвычегодский, Усть-Сысольский, Никольский, Великоустюгский. Ссыльные находились под постоянным (гласным и негласным) надзором полиции, а их переписка подвергалась перлюстрации. Не имея достаточных средств к существованию , поляки работали в качестве учителей, писцов, врачей, занимались торговлей и хлебопашеством. По признанию самих вологжан, ссыльные поляки представляли наиболее просвещенную группу провинциального общества . По свидетельству писателя В.А.Гиляровского, им покровительствовал сам вологодский губернатор С.Ф.Хоминский (с 1861 по 1878 гг.), имевший польское происхождение.
Первоначально ссыльные вели довольно замкнутый образ жизни, их контакты с представителями русского общества имели сугубо официальный и служебный характер . Однако со временем отношения между поляками и местным населением перерастали в дружеские и даже романтические, о чем свидетельствуют случаи заключения браков. Так, вдовец Ярослав Свиртун женился на усть-сысольской красавице Любови Воронцовой. Браком закончился и роман между идеологом народничества, ученым и философом П.Л.Лавровым и польской ссыльной, уроженкой г.Варшавы А.П.Чаплицкой, которые познакомились в Тотьме.
Одним из представителей польской диаспоры в Вологде был поэт, драматург и переводчик Аполлон Коженёвский. Он был сослан в Вологду в 1862 г. за участие в освободительном движении. Его супруга Эвелина Коженёвская (Бобровская) вместе с четырехлетним сыном Юзефом – будущим всемирно известным писателем Джозефом Конрадом – разделила тяготы ссылки. В 1863 г. в связи с болезнью жены А.Коженёвский добился перевода в Чернигов.
Некоторые из поляков предпринимали попытку побега. Так, в апреле 1872г. из Сольвычегодска бежал Адам Подгурский, находившийся в ссылке с октября 1871 г. Беглеца удалось задержать в Архангельске, где он намеревался на иностранном корабле попасть за границу. После поимки Подгурский был этапирован в Сольвычегодск под постоянный надзор полицейских смотрителей.
Конец XIX – начало ХХ в. – период расцвета вологодский ссылки. Именно в это время Вологодчина получает неофициальный статус «подстоличной Сибири». Здесь находились известные революционеры и общественные деятели: Н.А.Бердяев, А.А.Богданов, В.В.Воровский, В.А.Карпинский, А.В.Луначарский, В.М.Молотов, Б.В.Савинков, И.А.Саммер, И.В.Сталин, П.Л.Тучапский, П.В.Точисский, М.И.Ульянова, М.С.Урицкий и многие другие. Среди политссыльных активную роль играли поляки. По данным краеведов, во второй половине XIX в. последние составляли до 80% «политических преступников», в начале ХХ в. – от 5 до 7% .
Ссыльным полякам-католикам было предоставлено право отправления религиозных обрядов. В 1866 г. настоятелем Римско-католического прихода Успения Божией матери в Вологде стал бывший ссыльный Юзеф Ковальский, который был одновременно настоятелем прихода в Архангельске. В 1871–1873 гг. эту должность занимал Михаил Ручинский, в 1874–1889 гг. – Тит Красовский.
В конце XIX в. в Вологодском исправительном арестантском отделении проводил службы ксендз городского костела Ф.Чарковский. В 1892 г. он организовал соборование больных заключенных и говенье 152 арестантов. В 1915 г. заключенных арестантского отделения посещали ксендз и пастор. В смете на 1917 г. на оплату духовенству иных конфессий было предусмотрено 50 рублей.
После революционных событий 1917 г. Вологда, как и вся страна, была охвачена пламенем Гражданской войны. Чрезвычайные органы советской власти развернули борьбу с контрреволюционным подпольем. В начале августа 1918 г. сотрудниками Губчека был раскрыт заговор польских легионеров, которые якобы намеревались при поддержке стран Антанты превратить Вологду в очаг сопротивления большевистской власти. Двести польских военнослужащих были направлены в Москву, а их руководители – офицеры Мосальский, Цесельский, Кобас и еще трое – расстреляны.
«Красный террор» явился прологом массовых политических репрессий конца 1920-х – 1930-х гг. И. В. Сталин превратил страну в гигантскую тюрьму, и Вологодчина, место его дореволюционной ссылки, стала в 1930-е гг. одной из огромных лагерных зон, хотя и несколько меньших размеров, чем Колыма или Воркута. Нескончаемый поток заключенных и спецпереселенцев, разного возраста и национальности, политических убеждений и вероисповедания, наводнил Северный край. Польские граждане стали составной частью лагерного «интернационала».
* * *
Сегодня, кажется, уже ничто не напоминает о трагедии польского народа на вологодской земле. От спецпоселков, в которых жили сотни и тысячи людей, не осталось и следа. Лагерные бараки разобраны или истлели от времени. Кладбища заросли лесом и сорной травой, могильные знаки упали и вросли в землю. Да и память людей дала трещину. Редко какой вологжанин знает о том, что творилось на его малой и большой родине семьдесят-восемьдесят лет назад... Тем не менее пожелтевшие от времени страницы архивных документов хранят сведения о людских трагедиях сталинской эпохи. И находятся исследователи, которые делают прошлое достоянием современности. В отличие от других регионов России, в Вологодской области история репрессивной политики советского государства в отношении польских граждан стала предметом специального исследования лишь недавно. Первые очерки вологодских ученых, содержащие сведения о пребывании поляков на спецпоселении и в заключении, были опубликованы в книге «Эхо минувшей войны», вышедшей в Вологде в 1994 г. Ее авторы – В.Б.Конасов и В.В.Судаков – повествовали о пребывании польских военнопленных в Грязовецком лагере НКВД и польских спецпоселенцев в различных уголках Вологодчины.
Наиболее глубоко и всесторонне историю польской ссылки в Вологодской области изложил в своих трудах один из авторов настоящей книги – Сергей Игоревич Старостин. В 2005 г. в Варшаве вышла подготовленная при его участии книга, повествующая о судьбах польских осадников и беженцев на вологодской земле. В ней опубликован полный список польских граждан, находившихся на спецпоселении в Вологодской области. История Грязовецкого лагеря НКВД в 1939–1941 гг., в котором были размещены уцелевшие после катынской расстрельной акции польские военнослужащие и гражданские лица, подробно исследована в работах В.Б. Конасова и А.Л.Кузьминых. . Проблема военного плена в ее региональном измерении нашла отражение в книге А.Л.Кузьминых, С.И.Старостина и А.Б.Сычева «Теперь я прибыл на край света…». Данное издание включает очерки по истории лагерей и спецгоспиталей для военнопленных и интернированных, а также документы, воспоминания и свидетельства, освещающие различные аспекты жизни за колючей проволокой. Большой интерес представляет полный список «узников войны» (в том числе польских граждан), погребенных в различных уголках Вологодчины.
Среди работ по репрессивно-лагерной тематике, затрагивающих польскую тему, следует отметить монографию В.Б.Конасова «История политических репрессий и пенитенциарной практики в Вологодском крае (1918–1953)». В ней проанализирован механизм массовых политических репрессий в Вологодской области, выделены его региональные особенности, описана деятельность мест лишения свободы и трудовых поселений. В книге также повествуется о процессе реабилитации жертв политических репрессий. В целом анализ региональной историографии позволяет сделать вывод, что, несмотря на активное изучение в последние годы репрессий против поляков на вологодской земле, до сих пор отсутствует обобщающий труд по данной теме. Именно эту задачу и призвана решить книга, которую читатель держит в руках. Авторы рассматривают подготовленное издание не только как дань памяти пострадавшим от сталинского террора польским гражданам, но и как попытку разобраться в собственном тоталитарном прошлом.
* * *
Предлагаемая книга состоит из трех глав, выстроенных в проблемно-хронологическом порядке и связанных с массовыми репрессивными кампаниями по отношению к польским гражданам. В первой главе раскрыты нормативно-правовые основы, механизм проведения и итоги «польской операции» на территории Вологодской области. Во второй главе освещена история пребывания военнопленных и интернированных поляков в лагерях и спецгоспиталях Вологодской области в 1939–1949 гг. В третьей главе повествуется о судьбах польских спецпереселенцев в Вологодской области в 1940–1946 гг.
Книга основана на комплексе документов из центральных и местных государственных и ведомственных архивов: Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, архива Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, архива Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области, Государственного архива Вологодской области, Государственного архива Кировской области, Вологодского областного архива новейшей политической истории, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Наиболее ценные архивные документы, выявленные в процессе подготовки книги, авторы сочли необходимым опубликовать в оригинале.
Нашли отражение на страницах книги и документы личного происхождения – воспоминания и письма репрессированных. Они позволяют ощутить человеческое измерение жизни в условиях несвободы, увидеть описываемые события глазами их непосредственных участников.
Архивные материалы, представленные в документальных приложениях, публикуются в соответствии с принятыми правилами издания исторических документов. Документы имеют сквозную нумерацию и располагаются в хронологическом порядке. Ряд документов публикуется с сокращениями, что обусловлено их большим объемом или наличием сведений личного характера, не подлежащих публикации. Если документ приводится в извлечении, то сделанные в нём пропуски обозначаются отточиями в квадратных скобках, а заголовок документа начинается предлогом «из». Некоторые имена и фамилии по этическим соображениям в текстах документов обозначены буквами, а оперативные псевдонимы заменены троеточием в кавычках В редакционных заголовках кратко раскрывается содержание документа, при этом указывается тип, авторство и дата его создания. Все архивные документы сопровождаются соответствующей легендой, включающей название архива, номер фонда, описи, дела, листа, указание на характер документа (копия или подлинник). Некоторые документы, содержание которых требует дополнительных пояснений, сопровождаются примечаниями.
При публикации полностью сохранены язык и стиль документов, а текст приближен к современным нормам орфографии и пунктуации. Явные опечатки и грамматические ошибки исправлены без оговорок. Места рождения и жительства в биограммах приводятся в соответствии с документами архивно-следственных дел и протоколов внесудебных органов (троек). Пропущенные в тексте и вставленные по смыслу слова или части слов взяты в квадратные скобки. Встречающиеся в тексте сокращенные слова и аббревиатуры раскрываются в списке сокращений, публикуемом в конце книги.
Авторы благодарят за помощь в подготовке данного издания А.Э.Гурьянова, Т.В.Карташову, Н.Л.Кучумову, Е.Д.Макушину, Л.Ю.Маркову, А.Б.Сычева, Т.Н.Шпаковскую.
Издание адресовано специалистам-историкам, сотрудникам правоохранительных органов, преподавателям, студентам и всем, кто интересуется историей эпохи сталинизма.
Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге Северное отделение
Центра военной истории России Института российской истории РАН
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний
Международное общество «Русский плен»