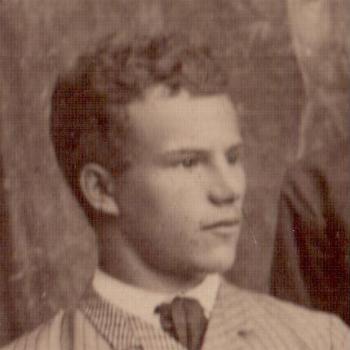
Пресняков Петр Иванович
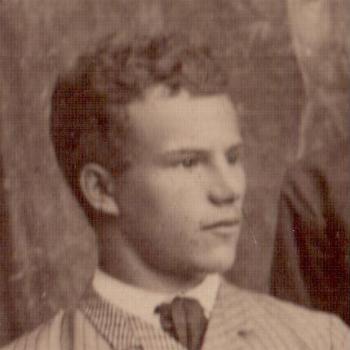
- Фотокартотека
- От родных
Рассказывает внучка Петра Ивановича - Елена Серафимовна Преснякова-Артищева
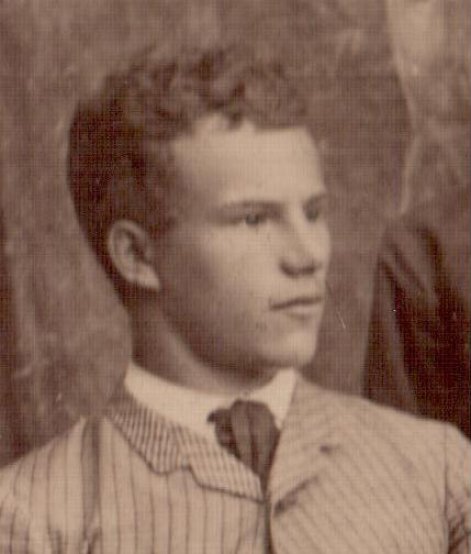 Когда я бралась за рассказ о Пресняковых, меня одолевали душевные муки. Я ведь и старые фотографии не люблю рассматривать - грустно! Но, окунувшись в воспоминания, я как-будто наблюдала за дорогими моему сердцу Пресняковыми со стороны и прониклась к ним такой любовью и щемящей нежностью, какую, возможно, не ощущала при их жизни.
Когда я бралась за рассказ о Пресняковых, меня одолевали душевные муки. Я ведь и старые фотографии не люблю рассматривать - грустно! Но, окунувшись в воспоминания, я как-будто наблюдала за дорогими моему сердцу Пресняковыми со стороны и прониклась к ним такой любовью и щемящей нежностью, какую, возможно, не ощущала при их жизни.
Из носителей фамилии осталась я одна, да еще Беба - приемный сын дяди Кости, - урожденный Гайдар-Бек Тарковский, который стал Евгением Константиновичем Пресняковым и не захотел уже в наше время восстановить свою фамилию, чем очень огорчил и обидел своих дагестанских сородичей. У него есть внук Илья Пресняков, носитель фамилии русского священника, моего деда. Но это уже другая история.
Петр Иванович Пресняков родился на Кубани близ Ростова в 1870 (предположительно) в семье священника. В детстве в результате несчастного случая потерял один глаз, на всех оставшихся карточках он старается позировать в пол оборота.
После окончания духовной семинарии получает направление в станицу Успенка Краснодарского края, куда и направляется уже женатым священником.
Бабушка - Мариамна Александровна (в девичестве Кравченко) тоже была из семьи священнослужителей. Прежде всего, я хочу сказать несколько слов о бабушке, супруге Петра Ивановича. Мариамна (так по святцам) Александровна в девичестве Кравченко родилась в 1874 г. в Ростовской области. Окончила церковно-приходскую школу и гимназию.
После замужества всецело занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. А их было шестеро, Ваня умер в младенчестве, а Наташа уже подростком. Осталось четверо.
В ту пору, когда родилась я, весь дом практически держался на ее плечах. От былой большой квартиры остались только три комнаты. В них жили бабушка с дедушкой, тетя Лида с Мариной и мои родители.
Дедушка после разрушения церкви был немного не в себе, все бразды правления держала в своих руках Мариамна Александровна. Она ходила на рынок, готовила обеды на всю ораву, да еще умудрялась подрабатывать шитьем, была отличной портнихой.
Моя мама многому научилась у свекрови. Мама была из простой деревенской семьи, но бабушка никогда ни словом, ни делом не обидела её. Последние свои годы бабушка Марьяша жила с нами в Бузовнах, где скончалась в 1959 г. на руках моей матери.
В станице жил богатый помещик немец Бишлер, с которым дед вскоре подружился. Оба большие меломаны они музицировали по вечерам и вели светские беседы. Бишлер настолько проникся к деду дружбой и уважением, что вскоре построил для его семьи большой светлый дом.
В этом доме и появились все дети четы Пресняковых, а их было пятеро. Бабушка всегда говорила, что это были самые счастливые их годы. Бишлер подарил деду и скрипку, о которой я расскажу попозже.
Станица была богата, жили неплохо. Старшие дети учились в Новочеркасске, младшие находились при родителях. В 1918 г. революционная суета докатилась и до Кубани. Бишлер поспешно уехал в Германию, а дедушка получил из епархии новое назначение - в Баку, куда и отправился со всей семьей. Дом крепко закрыли, надеясь со временем туда вернуться, но увы…
![На открытке с изображение этой Церкви, рукой Петра Ивановича было написано: В этой церкви служим мы с дядей Васей [Кравченко] На открытке с изображение этой Церкви, рукой Петра Ивановича было написано: В этой церкви служим мы с дядей Васей [Кравченко]](/files/1/images/story/St_Ilji_gorod_Osbrink.jpg) [1] В Баку дедушка служил в церкви в Черном городе, затем в Балаханах (между Забратом и Сабунчами) и окончательно осел в Сабунчах.
[1] В Баку дедушка служил в церкви в Черном городе, затем в Балаханах (между Забратом и Сабунчами) и окончательно осел в Сабунчах.
Там была большая православная церковь, а жила семья неподалеку в большом доме, выделенном деду церковью. Переулок, где был дом так и назывался поповским, так как там жило несколько священнослужителей со своими семьями. Переулок потом переименовали в «Красный», но старое название бытует и до сих пор.
Со временем дом дедушки стал коммунальным, туда без конца подселяли новых жильцов, и к моему появлению на свет семье деда принадлежало три небольших комнаты. А после того, как мой папа получил коммунальную квартиру в Амираджанах, то у деда отобрали еще одну комнату.
Где-то в году в 1933 церковь была взорвана, и на ее месте был возведен сквер.
Дед остался без работы, а так как священнослужителям не полагалась пенсия, он зарабатывал на жизнь уроками музыки. Революционно настроенная молодежь проводила в ту пору всякие театрализованные мероприятия. Одним из них был так называемый суд над попами, где комсомольцы заставляли священников «добровольно» при всем честном народе отречься от сана и веры.
Дед не пошел на него и был единственным, кто не отказался от своей веры (хотя, нужно сказать, он никогда не был таким уж фанатиком). Да и бабушка всегда говорила, что вера в Бога должна быть в душе, а не на показ. Дедушка заявил агитаторам, что он слишком стар, чтобы отказываться от своих убеждений. Вот, видно тогда он и попал в число неблагонадежных.
Об этом судилище я узнала случайно от матери друга моего мужа Марахтанова Славы, с которым он учился в институте. Ее муж был тогда партийным работником и рассказывал об этом, явно сочувствуя священникам. В 1937 году он был арестован и расстрелян как враг народа. А наши об этом никогда не вспоминали, они вообще были немногословны, когда речь шла о семье.
Моего отца не принимали в комсомол, так как он был сыном попа. Не брали в армию, хотя когда грянула война, его тут же призвали.
В 1941 в начале июня дедушка с бабушкой и Мариной поехали в Москву к старшей дочери - Калерии, и там их застала война. Лишь в сентябре им с большим трудом удалось приобрести 2 билета на поезд в Баку, и на семейном совете было решено отправить домой Марину с дедом. А бабушка оставалась в Москве. Лучше бы наоборот. Возможно не было бы ссылки и искалеченной жизни тети Лиды и Марины.
Дед умер и похоронен в селе Пресновка. [2]
Когда в начале 1942 г. деда отправляли в Казахстан, дядя Костя был длительной командировке, а тетя Лида пыталась объяснить, что дед уже стар и болен. Но ей «любезно» посоветовали сопровождать его в ссылку. Лидия Петровна вернулась в Баку только в 1946 г, и то, только благодаря хлопотам дяди Кости. Марина уже училась в Москве, тщательно скрывая факт высылки в Казахстан.
В Баку стали восстанавливать церкви, и служители зачастили к нам, уговаривая продать оставшиеся от деда книги и церковные принадлежности. Что бабушка и сделала. Лишь долго сохраняла большой серебряный крест и скрипку. Деньги были нужны, пришла и их очередь. Бабушка отнесла скрипку в консерваторию на комиссию и вскоре ее вызвали и сообщили, что скрипка является творением Гварнери. Нужна была тщательная экспертиза, которая, в конце концов, признала, что это очень и очень хорошая подделка. За скрипку хорошо заплатили, но бабушка была уверена, что ее надули.
Я очень хорошо помню эту историю, мне было уже 12 лет, и я не раз держала скрипку в руках. На задней стенке дедушкой были вписаны имена детей и внуков, а последним именем было имя «Лена». Я в то время была самой младшей. Бабушка скончалась в 1959 году. Уже нет в живых наших родителей, и мы с Мариной самые старшие в семье.
[1] На открытке с изображение этой Церкви, рукой Петра Ивановича было написано: В этой церкви служим мы с дядей Васей [Кравченко]
[2] Пресновка — село (станица), административный центр Пресновского (с 1997 года — Жамбылского) района Петропавловской области Казахстана. Основана более двухсот лет назад, в 1752 году, первоначально, как военная крепость Новоишимской линии. Это одно из старейших, так называемых линейных русских поселений не только в Северном Казахстане, но и в Западной Сибири.
Короткие или отрывочные сведения, а также возможные ошибки в тексте — это не проявление нашей или чьей-либо небрежности. Скорее, это обращение за помощью. Тема репрессий и масштаб жертв настолько велики, что наши ресурсы иногда не позволяют полностью соответствовать вашим ожиданиям. Мы просим вашей поддержки: если вы заметили, что какая-то история требует дополнения, не проходите мимо. Поделитесь своими знаниями или укажите источники, где встречали информацию об этом человеке. Возможно, вы захотите рассказать о ком-то другом — мы будем вам благодарны. Ваша помощь поможет нам оперативно исправить текст, дополнить материалы и привести их в порядок. Это оценят тысячи наших читателей!





