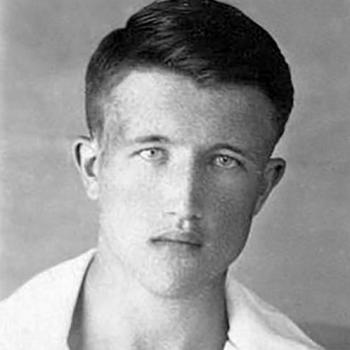Митина Валентина Георгиевна

- Фотокартотека
- От родных
Мои УНИВЕРСИТЕТЫ
Автор этих строк. Валентина Георгиевна Митина, родилась в Харбине в 1918 году. В 1932-м приехала в Советский Союз с семьей из 10 человек, из которых в 1937 году было арестовано 8. Из них, в свою очередь, трое погибли в лагерях, двое расстреляны, один пропал без вести. Отец умер через 5 месяцев после освобождения в 1948 г. Так из восьми арестованных в живых осталась одна Валентина Георгиевна, которая и ведет на наших страницах свой скорбный рассказ.
Когда я уехала из Харбина, мне шел 15-й год, но я так ясно все помню улицы, дома, людей, события. Мне очень часто снится мой Харбин до сих пор. Я не думаю, что описание моей жизни будет интересным как воспоминания харбинки. Дело в том, что я была "советская харбинка". Мы, "советско-подданные" харбинцы, были особой кастой в пестром населении Харбина. Общались мы, в основном, среди своих совподданных. У них были свои школы с советскими программами обучения, свои собрания-клубы со своими советскими мероприятиями, свои организации - пионеры, комсомольцы, свои летние лагеря Нас воспитывали в духе враждебности и недоверия ко всем остальным русским как к белогвардейцам. Я просто любила, как всякий человек, свою родину - Харбин, этот уютный, чистый город. И уж потом, когда я попала в Советский Союз, то остро ощутила, чего же лишилась, столкнувшись с советской действительностью. Будучи от рождения наблюдательной и здравомыслящей, сразу поняла, что я потеряла в жизни и что меня сейчас окружает. Я поняла, что незаметно и независимо от меня я впитывала харбинскую культуру, эстетику, благовоспитанность, порядочность, презрение к трусости, лжи. В отличие от хамства, нечистоплотности, лживости, убожества, бескультурья, ограниченности советских людей. И тут моя любовь к Харбину стала практически священной. Я по-другому вспоминала всю свою жизнь в Харбине. Меня удивляло, что в Советском Союзе в основном заняты тем, чтобы достать чтонибудь из съестного, работают до одури. Потом, после работы, какие-то бессмысленные собраниязаседания, мероприятия. Они понятия не имеют, что значит отдохнуть почеловечески. Все дерганные, злые. После отбытия 10-летнего срока заключения (об этом я расскажу дальше) мне разрешили жить только в районных городах. Кроме того, материально было не так легко менять местожительство. Вот так я и прожила до 1993 года в районном небольшом городе Талица в Свердловской области. И только после смерти мужа в 1993 году рискнула приехать в Томск, в город, где училась, где полюбила, где меня арестовали и дали 10 лет исправительно-трудовых лагерей.
О наших предках в семье говорили, но я мало что помню. А когда захотела узнать по настоящему, то уже не у кого было спрашивать. Прадед мой по материнской линии был украинец, жил на Украине, был крепостным. По какой причине - не знаю, но он пытался заколоть вилами помещика, за что был сослан в Сибирь. Его дочь (моя бабушка, Ирина Ефимовна) в восьмидесятых годах 19-го столетия вышла замуж за моего деда - татарина Василия Типугина. И в 1892 году у них родилась в Чите моя мать. Анисья Васильевна Типугина. В 1900-х годах дед с семьей переехал в Северную Маньчжурию нa постройку КВЖД. Отец - уроженец Владимирской губернии, коренной крестьянин Георгий Васильевич Митин. Было у него несколько братьев и сестра. Конечно же, он рассказывал о своей родне, но я ничего не запомнила. Его братьев и сестру мы никогда не видели и ничего о них не знали. В каком году - тоже не знаю, но отец был призван на военную службу в Маньчжурию. Так судьба свела моих мать и отца в Маньчжурии, там они и поженились. К тому времени мать была уже очень хорошей портнихой. У матери был очень сильный характер, а ее отец сильно выпивал и бил мою бабушку. Мать, убедившись, что сама сможет прокормить семью, выгнала отца из дому. Так на ее руках остались моя бабушка Ирина Ефимовна, два брата (Михаил и Виктор) и сестра Конкордия. Вот с таким "приданым" в четыре человека моя мать вышла замуж за моего отца. Все мои дяди и тетя были ненамного старше нас. В 1916 году родилась старшая сестра Лариса, потом я, брат Юра и младшая сестра Марина. Вот такая у нас была семья в десять человек. Работал отец на КВЖД. Мать всех растила и воспитывала, а также шила на дому.
Маминого брата - Михаила - мальчиком отдали Чурину. Он жил у Чурина, учился, вырос и работал в этой фирме, не помню кем. Осталось в памяти, что я очень любила бывать в праздники, особенно на Пасху и Рождество, у Михаила, где у него были чудесные подарки Чурина, где в большом количестве был шоколад. Особенно запомнились большие шоколадные яйца с сюрпризом внутри. Михаил в совершенстве владел английским, китайским, немецким и японским. Потом, кажется, по настоянию моего отца Михаил ушел от Чурина и стал работать на КВЖД. Женился он на подруге своей сестры Конкордии, Раисе Александровне. Последнее время Михаил жил в Мукдене, а в 1934 году приехал в Союз. Здесь его не использовали как знающего иностранные языки, и он пробивался случайными заработками, ездил по многим местам, вплоть до севера. Последним местом его пребывания был г. Актюбинск, где его в 1937 году арестовали и расстреляли. Жена его Раиса и дочь Конкордия, родившаяся уже без него, до сих пор живут в Актюбинске. Второй мамин брат Виктор и сестра Конкордия жили с нами, Виктор до 1932 года уехал из Харбина в Союз и больше о нем мы ничего не слышали. Конкордия тоже до 1932 года уехала в Союз, жила со своей матерью, Ириной Ефимовной, в Москве. Там вышла замуж за Николая Пищикова, в 1936 год родила дочь Ирину, а в 1937-м ее арестовали, отправили на 10 лет в Ивдельлаг (Свердловская область), где она умерла в 1938 году. Муж Николай от нее отказался и выгнал бабушку Ирину Ефимовну, со своей дочерью из дома. Бабушка с внучкой Ирой почти пешком пришли в Томск, куда уже приехала моя мама с сестрой Мариной. Отец работал на КВЖД. В 1918 г вступил в коммунистическую партию (она на Дальнем Востоке называлась как-то по-другому), и вот так мы и стали советскими подданными.
Прожили мы (6 человек - отец, мать, и четверо детей) в Харбине до 1932 года, когда японцы заняли Харбин. Летом советское консульство тайком переправило отца в Советский Союз, а в августе этого же года остальных пять человек так же тайком отправило и нас остальных - в товарном, специально оборудованном вагоне (2 комнаты и кухня). В этом вагоне мы в Союзе прожили почти год. Приехали мы во Владивосток, где встретились с отцом, которого послали строить железнодорожную ветку на Сучан, и мы жили на колесах до весны 1933 года. Во Владивостоке я проучилась год в Дальневосточном электротехникуме. Отца в 1934 году перевели под Благовещенск на ст. Куйбышевка-Восточная. на строительство Байкало-Амурской магистрали, которую в то время еще строили вербованные. В ноябре 1937 года отца там арестовали, дали без суда и следствия 10 лет ИТЛ. Сидел он в Соликамских лагерях, вернулся из лагеря в конце 1947 года в Томск, где прожил без прописки 5 месяцев и умер.
После ареста отца его друзья помогли матери с моей 13-летней сестрой уехать ко мне в Томск, не зная о том, что я и брат уже арестованы. А старшая сестра Люся к этому времени вышла замуж и уехала с мужем на погранзаставу. Именно благодаря такому стечению обстоятельств, мать и две мои сестры избежали неминуемого ареста. Когда мы жили в Куйбышевке-Восточной, я поступила в Хабаровский техникум слаботочников. В ноябре 1934 года нас всех студентов, кто был каким-то образом связан с заграницей, из техникума отчислили. Приехав домой на Куйбышевку-Восточную, сразу же поступила на рабфак, который успела окончить. Весной туда приехал представитель Томского электромеханического института инженеров транспорта (ТЭМИИТ), агитировал поступать в этот вуз, и в сентябре 1935 года я стала студенткой ТЭМИИТа. В 1936 году на рабфаке ТЭМИИТа стал учиться и мой брат Юра. В этот же институт перевели 10-15 студентов их Харбинского политехнического института после продажи КВЖД в 1935 году. Туда же прибыл из ХПИ профессор Семен Николаевич Петров, который родился 1872 году в Ленинграде. В 1937 г его приговорили к расстрелу, но затем заменили 10-ю годами ИТЛ. В институте я впервые в Союзе встретилась с бывшими харбинскими студентами, которые очень сильно отличались от советской молодежи. Годы учебы в институте я считаю самыми счастливыми годами моей жизни в Союзе. Я любила, была любима. Он - Валентин Васильевич Якушев, был харбинцем, учился на курс старше меня в ТЭМИИТЕ. А в сентябре 1937 года его и всех харбинцев, переведенных из ХПИ, в том числе и профессора С.Н. Петрова, арестовали, почти всех расстреляли. В.В. Якушеву дали 10 лет ИТЛ, отправили в Магадан, где он умер.
В ноябре 1937 года арестовали меня и брата. Мне дали 10 лет ИТЛ, а брата в январе 1938 года расстреляли. А был он в то время 17-летним, еще "нецелованным" мальчиком. О его расстреле я узнала только в 1995 году, когда по приезде в Томск приобрела книги "Боль людская", в четырех томах которых перечислены тысячи фамилий томских репрессированных, в том числе и харбинцев. Посетила я КГБ, где познакомилась со своим и брата "делами". Брата я разыскивала с 1947 года. В 1956 мне сообщили только, что он реабилитирован.
Но вернусь к нашей жизни в Харбине. Мы жили до 1928 года на 8-м участке Пристани - в конце Участковой улицы Недалеко от нашего дома стояла японская гимназия. С другой стороны была улица Полицейская, которая вела к Сунгарийской мукомольной мельнице. А в конце Участковой находились детская площадка и аптека. Перед нашими домами располагался теннисный корт, принадлежавший Ковальскому. Мы, дети, подрабатывали на этом корте, поднося мячи. Задняя часть наших домов примыкала к Городскому саду, к стене летнего деревянного театра "Колизей". В стене этого "Колизея" мы проделывали дырки и смотрели кинокартины, а также слушали эстрадных артистов Помню Леву Блюменталя и его куплеты: 'Мне политики не надо - надоела хуже ада ..' Пели там "жестокие" романсы, помню "Шумит ночной Марсель", "Это было в таверне под названьем "Франциско" и т.д. Странно, но до сих пор помню все слова этих романсов и песен. Помню и некоторых соседей по дому; Гладченко (дети Афоня, Вера, Вася - с Верой встретились в КуйбышевкеВосточной в 1934 году), Шадрины, Хронюк, Укрепчак (сын Борис). Училась я во 2-й Сунгарийской начальной школе на Полицейской улице. Из учеников помню Веру Боброву, Сергея Скороходченко. Михеевых - брата Костю и сестру Лелю, которую в 1962- 63 годах встретила в Свердловске, где она работала парикмахером. Рассказывала, что из Харбина уезжала на Яву, а потом в Союз. Из учителей запомнила Михаила Ивановича Забейду. У него был хороший тенор, выступал в школьной самодеятельности. В 1928 году переехали в Новый Город Жили на Столярной улице, позади метеорологической станции недалеко от Коммерческого училища. Улица это упиралась в бульварные садики. После окончания своей Сунгарийской начальной школы стала учиться в Коммерческом училище на Большом проспекте. С большим интересом прочитала в "НСМ" N» 74 воспоминания об этом учебном заведении. Ко времени моей учебы там уже были другие учителя, но с каким восторгом я встретила в очерке Ю. Арбузовой "Коммерческое училище" фамилию Мисс Кол. Она и нам преподавала английский. Ее уроки были такие интересные - мы учили и пели песни, ставили маленькие пьесы. Она сумела привить нам любовь к английскому языку. Китайский язык нам преподавал Иван (отчества не помню) Козлов. Его я встретила в заключении в Ивдельлаге в 1944 году. Естествознание преподавал Скворцов. Директором училища был Кожевников. Его арестовали и, кажется, расстреляли. После возвращения из лагеря в Томск я общалась с его женой Еленой. До сих пор там живет их дочь Анна Кожевникова, с которой я училась в 6-7 классах КУ. Работала она в томском вузе преподавателем английского. Ко времени моей учебы в нем было перестроено. Два корпуса (мужской и женский) соединены коридором. Обучение было 10-классным и смешанным - девочки и мальчики вместе. Не было церкви, уроков Закона Божьего, вместо него мы учили советскую конституцию. Но была сохранена форма мужская и женская. Сохранены также две 30-минутные перемены с горячими завтраками, экскурсии. А летом мы уезжали в пионерские лагеря на станции Эхо, Барим и другие.
Кого я помню из своих соучеников? Это мои две подруги - Ира Терентьева и Зоя Кузьменко, а также Дуня Хуторова, Лида Дренова, Тоня Симагина, Лида Чекалина, Ася Пумпянская, Тамара Тарновская (в 1937-м арестовали в Томске), Лена Рудная (ее отец Рудный был последним управляющим КВЖД), Борис Омельчук, Саша Емшанов (сын заместителя управляющего КВЖД). Алла Васильева, Галя Хоменко. Кто жив - откликнитесь! В 1932 году я окончила 7 классов КУ и семья наша уехала в Союз. Хотя Люся родилась в 1916 году, но и она, и все мы были некрещеными, никаких икон в доме не было. Официально праздновали только советские праздники, которые отмечали посещением Желсоба и Мехсоба, где шли концерты с произведениями Горького и Маяковского. Пьесы смотрели только советские. Очень была развита самодеятельность. Мне было всего 5 лет, а я уже выходила на сцену. Я ни разу не была в церкви, не слышала церковного пения (но слушала Кармелинского, С Реджи, М.А. Садовскую, драматическую актрису Веру Гр Савицкую, которую потом встретила в Ивдельлаге). Я считаю, что нас, детей, в какой-то степени духовно обворовывали. Но, несмотря на такой атеизм, у нас в семье отмечали Рождество, которое приурочивали к празднованию Нового года. Украшали елку, под подушкой утром я находила мандарины и кулечек с орехами. Приходила знакомая детвора, водили хоровод, нам дарили подарки, устраивали чаепитие. Не было только Деда Мороза. Праздновали и Пасху. К этому дню в доме проводили генеральную уборку, на кровати лежали свежеиспеченные куличи, в доме очень вкусно пахло. Боже, как я любила этот праздник. Под подушкой уже лежали новенькие ленты, носочки, туфельки и, конечно, шоколадный заяц или шоколадное яйцо. Знала, что день будет теплый и солнечный, и мы, детвора, будем во дворе катать яйца и играть в бабки под несмолкаемый малиновый звон колоколов. Как я уже писала, в церковь мы никогда не ходили, куличи, пасху не святили, не знали ни Всенощной, ни Заутрени, а те советские харбинцы, кто отваживался на это, потом подвергался жестокой "чистке" и "промыванию мозгов" от "ереси".
Забыла, что когда я училась в Коммерческом училище, в 10 классе было 5 мальчиков, которые все время играли в баскетбол. Это Юра Иванов, Женя Сидельников, Юзик Фамицкий и два брата - Мунер и Камил Деушевы. Камил был моей тайной детской любовью, я тайком провожала после школы его домой. Он жил на Китайской улице недалеко от Чурина, на 2-м этаже над какой-то редакцией. У него была еще сестра. Это детское чувство было настолько велико, что когда он болел и не приходи в школу, заболевала и я с высокой температурой. Я пронесла это чувство до встречи с Валентином. Если кому-нибудь напоминает что-нибудь фамилия Камил Деушев - прошу сообщить мне Его судьба мне небезразлична.
Кого я встретила, начиная со дня ареста, из харбинцев? Зою Сергеевну Рожкину (1914 г р.). В Новосибирской пересылке - Марию Глушенко - жила она на Пристани, работала с папой в Управлении КВЖД на Большом проспекте, Лизу Курочкину (ее вызывали из лагеря на передосмотр: в прошлом ей давали срок 5 лет, которые заканчивались, а в 1937 добавят еще 10). В Ивдельлаге встретила Ольгу Пекарскую - она работала в Управлении дороги (в 1962-м мы встретились в г. Рудном, в Казахстане), харбинскую драматическую актрису Веру Георгиевну Савицкую, Марию Смолову, Николая Трошина, Владимира Миронова, Юлию Мироновну Фурман, Сергея Какаулина. Мы, харбинцы, не теряли связи друг с другом по выходе "на волю" и по мере возможности встречались. И у нас была заздравная, которую пели при встрече:
«Если случается, в жизни встречаются
Несколько старых друзей,
То, как проклятие, припоминаются
Страшные дни лагерей.
Выпьем за тех, кто погиб в лихолетие
При коммунистах в стране.
Чашу поднимем за их бессмертие -
Много лежит их в земле.
Выпьем за то, что людьми мы осталися -
Нас всех считали за скот,
Гадили в душу, топтали достоинство
День уносил жизни год.
Выпьем за внуков и правнуков наших.
Жить им в свободной стране,
Без коммунистов-тиранов, чекистов,
Без лагерей на земле»
Но нет давно уже встреч: я осталась одна, все умерли. 1937-38 годы. Это были страшные годы, которые напоминали эпидемию чумы. Город Томск - студенческий город. До 1937 года утром улицы заполнялись нескончаемым потоком студентов (транспорта в городе не было). Эти людские реки текут и вливаются в двери многочисленных вузов. Их коридоры шумят от говора и смеха. А в 1937 году город вымер. Улицы почти пустые, в коридорах - ни шума, ни смеха. Ночью мечутся по городу "черные вороны". Тишина. За окнами и стенами с тревогой слушают: остановится машина или пойдет дальше. И вот, в один из сентябрьских дней "ворон" остановился около общежития ТЭМИИТа. Зашли в одну из комнат "Кто харбинцы? Выходите!" Без предъявления ордеров, каких-либо документов. Вывели и повезли. Всѐ! Кто следующий? Забирали всех подряд: студентов, преподавателей, служащих, домохозяек, безработных, 70-80-летних стариков, парикмахеров, уборщиц, сапожников, сторожей, продавцов, колхозников и т.д и т.д Надо спешить, нужны бесплатные рабочие руки. План спущен. Выполнять!
Выписка и оперативного приказа Народного комиссара внутренних дел СССР Ежова, г. Москва No 00593, 20 сентября 1937 года: Органами НКВД учтено до 25 тысяч так называемых харбинцев. «Аресту подлежат все харбинцы». "О ходе операции доносить мне каждые пять дней". Ежов. (Полный текст приказа см. в "НСМ" №6-Ред.). Мне очень неприятно вспоминать годы с 1937 по 1947. Годы непосильного каторжного труда, годы унижений, оскорблений, голода... Про лагерную жизнь уже много написано. Была поставлена правительством задача - истреблять! Вот и истребляли с различными вариантами. Надежда умирает последней. И эта надежда, что нас вот-вот освободят, разберутся - мы же не совершили никакого преступления, нас не судили. Ведь вызвали на допрос всего два раза и сфабриковали немыслимое, неправдоподобное дело - шпионаж, диверсии, агитация. И эта надежда давала возможность выдержать эту лагерную жизнь. Летом - гнус. Если оставить на несколько минут руки спокойными, то они становятся черными от гнуса. Зимой - мороз до 60, снег до пояса. Подъем в 6 утра. Завтрак – черпак жидкой каши. В 6-30 развод всех собирают к вахте, считают и выводят на работу за зону. Летом на ноги - лапти, на голову накомарник. Зимой на ноги бахилы, несмотря ни на какой мороз, залатанный бушлат. До работы идти от 3 до 5 километров. Вся дорога по целине, снег выше колена. Летом конвой по своей прихоти может приказать лечь в лужу с предупреждением: "Не вертухаться! Расстрел!". Работа в лесу - валишь лес продольнопоперечной пилой. Обрубка, сжигание сучьев, разделка древесины, трелевка леса. Самая тяжелая и опасная работа - штабелевка. Большой тяжелый валан надо поднять на высоту, в штабеля. А вдруг он сорвется, не хватит сил его удержать - тогда покалечит или раздавит. Самое легкое было в лесу в жару разносить бригаде воду для питья. На каких только еще работах я не побывала. Месила ногами глину, штукатурила, белила, заготовляла "чурку" для тракторов, была прачкой в прачечной (самая отвратительная), починяла ночами рукавицы и бахилы (огромную кучу надо было успеть починить к разводу). Иногда перепадало на 2-3 дня поработать на кухне. Для этого вставать надо было в 5 утра, работы много, и тяжелая, но можно сытно поесть. А потом, после 5 лет, в основном, работы в лесу, освоила курсы десятника по приемке древесины - стало полегче. А когда знание английского языка дало мне возможность справиться с латынью - последние три года работала медсестрой.
Я хорошо вышивала и вязала. Знакомство в больнице с вольнонаемными врачами, медсестрами и с их знакомыми дало возможность принимать от них заказы. Появился "приварок" к пайке хлеба. Однако мой талант чуть не сгубил меня. Начальник ОЛТ, желая поднять свой престиж, к каким-то сталинским датам решил представить начальству вышитый моими руками портрет Сталина. Я наотрез отказалась. И был издан приказ (причину найти не трудно) - отправить меня на штрафной лагерный пункт, где, в основном, содержались бандиты. И только заступничество знакомых вольнонаемных спасло меня - я была переведена на другой ОЛТ. Так как характер у меня колючий, то мне очень часто приходилось сидеть в карцере, где, кроме холода зимой, ползал миллион клопов. Часто задумывалась - а стоит ли жить?.. Воспоминания терзают мою душу...
Не менее страшное ожидало нас и после освобождения. Брали расписку, что в случае разглашения сведений о лагерной жизни - срок 10 лет. Местожительство давали только на 101 километре от городов. Документы на руках - только справка об освобождении и 3-месячный паспорт. Каждые 3 месяца ты обязан являться в милицию за новым паспортом. Все документы, отобранные при аресте, даже метрика о рождении, не возвращались. Учиться нигде нельзя, на работу - только на "общие" работы. Хозяева частных квартир, куда удавалось прописаться, вскоре выражали недовольство частой заменой паспорта. Человек без специальности, без образования, без трудового стажа... Поэтому многие возвращались жить в места, где отбывали "срок" (в том числе и я). Немного обживались, как-то устраивали свою жизнь. Через год я уехала в городок Талица Свердловской области. Чтобы иметь хоть какой-нибудь документ об образовании, так как не брали учиться даже на курсы, я за полгода окончила вечернюю школу, заочно поступила в плановый институт (скрыв прошлое) и одновременно – в очное медицинское училище при Центральной больнице, где я уже в это время работала операционной сестрой, а в дальнейшем – статистиком. Так я выбилась "в люди". В больнице проработала 30 с лишним лет до самого отъезда (уже в старости) в Томск. Муж также работал в центральной больнице рентген лаборантом, пройдя такой же путь, как и я.
Талица - небольшой городок, и мы были известны всему городу. Наш дом называли "Малой Третьяковкой". Мы собрали богатую библиотеку по искусству, более трех тысяч репродукций - открыток русских, советских и иностранных художников, 8 больших альбомов репродукций, вырезанных из журналов "Огонек", "Работница" и др. Мы читали лекции в общественных местах, в школах, учебных заведениях, но чаще всего - в своей больнице. И чаще всего читали лекции о русских художниках с демонстрацией репродукций их картин. В общем, мы с мужем внесли немалый вклад в культурный рост нашего городка. Организовали самодеятельность. У мужа был хороший тенор, он играл на аккордеоне. Привили слушателям интерес к классической музыке. Часто устраивали вечера, концерты, ставили пьесы. Кроме того, коллекционировали марки, деньги, были связаны с коллекционерами других городов. В больнице устраивали интересные выставки к знаменательным датам. Наш дом посещало много людей. Мы торопились наверстать украденные у нас годы жизни. Нас неоднократно награждали подарками и грамотами
Короткие или отрывочные сведения, а также возможные ошибки в тексте — это не проявление нашей или чьей-либо небрежности. Скорее, это обращение за помощью. Тема репрессий и масштаб жертв настолько велики, что наши ресурсы иногда не позволяют полностью соответствовать вашим ожиданиям. Мы просим вашей поддержки: если вы заметили, что какая-то история требует дополнения, не проходите мимо. Поделитесь своими знаниями или укажите источники, где встречали информацию об этом человеке. Возможно, вы захотите рассказать о ком-то другом — мы будем вам благодарны. Ваша помощь поможет нам оперативно исправить текст, дополнить материалы и привести их в порядок. Это оценят тысячи наших читателей!