«Мы - дети страшных лет России -
Забыть не в силах ничего».
А.Блок
Владимир Всеволодович Яковлев был осужден на десять лет по 58-й, статье пункты 8 (террористические акты, направленные против представителей советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций) и 11 (всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, приравнивается к совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям).
15 февраля 1929 арест, помещен в ДПЗ в Ленинграде
23 февраля 1929 из ДПЗ этап в Москву на Лубянку
24 февраля 1929 помещен во Внутреннюю тюрьму на Лубянке
5 марта 1929 переведен в Бутырскую тюрьму
23 июля 1929 (вторник) этап
28 июля 1929 прибыл в Кемперпункт
30 июля 1929 прибыл на Соловецкий остров
30 июня 1933 прибыл в Кемь на Вегеракшу
В начале октября 1934 переведен на Медвежью Гору
В середине первой декады марта 1935 стал заключенным в ОЛП «Пушсовхоз» Белбалтлага
8 июня 1936 освобожден
Всего находился в заключении 2718 дней
Краткая биография Яковлева В. В.:
Дед Владимира Всеволодовича, Яковлев Григорий Михайлович (1852-1922), был генералом от артиллерии. Хорошая биография Яковлева Г.М. есть на сайте выпускников Михайловского Артиллерийского училища:
30 сен 1852 — Родился ген.от артиллерии Григорий Михайлович Яковлев, выпускник 1870 г.
Генерал от артиллерии Григорий Михайлович Яковлев родился 30 сентября 1852 года, в царствование Николая I и умер своей смертью уже при Ленине в 1922-м году, пережив многих и повидав многое. Окончив кадетский корпус на Орловщине, он в 1868-м году поступил, а в 1870-м году окончил Михайловское Артиллерийское Училище. Войсковую службу начал в 33-й артиллерийской бригаде, и уже через шесть лет блестяще окончил Михайловскую Академию. С этого момента и до конца дней, судьба его будет связана с армейским образованием.
Григорий Михайлович Яковлев среди служащих Главного управления военно-учебных заведений
В Главном Управлении военно-учебных заведений он прослужит до окончания свой карьеры. Попутно будет преподавать в Павловском военном училище, шесть лет будет возглавлять Николаевский Кадетский корпус.
Вершиной его карьеры будет должность помощника начальника Главного управления военно-учебных заведений и звание генерала от артиллерии. В июне 1917-го, устав от интриг и «реформ» временного правительства, Яковлев подаст в отставку «по болезни». 70-ти летним стариком, он скончается голодной весной 1922-го 3 апреля на Пасху.

Григорий Михайлович Яковлев среди служащих Главного управления военно-учебных заведений. Кадетская линия, 1
Григорий Михайлович был женат на дочери протоиерея Никанора Ильича Смолича (некролог Церковные ведомости, 1900, №35, стр. 404 ), Фомаиде. 21 марта 1882 года у них родился сын Всеволод.
В начале 1900-х годов в Петербург из Нежина Черниговской губернии приехала Маргарита Николаевна Шаула и поступила на курсы. Отец Маргариты Николаевны был юристом. Маргарита Николаевна Шаула и Всеволод Григорьевич Яковлев познакомились на концерте в Филармонии. Через некоторое время они поженились, в 1905 году у них родился сын Владимир.
В 1914 году ушел добровольцем на фронт. В журнале «Разведчик» № 1325 от 29 марта 1916 г. написано, что полковник Яковлев Всеволод Григорьевич был контужен, но остался в строю.
Осенью 1919 года Яковлев Всеволод Григорьевич был арестован Петроградской ЧК в рамках ликвидации контрреволюционной организации. Проходил по делу французской шпионской группы Бажо. Предъявленных обвинений не признал. Постановлением Коллегии Петербургской ГубЧК от 14 января 1920 г. приговорён к расстрелу. В последних числах декабря 1919 года был издан декрет об отмене смертной казни. Зиновьев (настоящая фамилия Радомысльский), бывший тогда председателем Северных коммун с центром в Петрограде отдал распоряжение о немедленном расстреле всех арестованных политзаключенных находящихся в петроградских тюрьмах приговоренных чекой или находящихся еще под следствием, чтобы поставить центральные власти перед совершившимся фактом.
Массовые расстрелы проводились чекой в январе 1920 года. Погибли сотни людей, цвет русской нации.
Расстрелом руководил и лично принимал участие комендант расстрела петроградской чека (существовала такая должность, камуфлировавшее всем известное понятие палач) Бозе: «В кожаной куртке, кожаных брюках, кожаных сапогах и кожаном авиаторском шлеме, застегнутом под подбородком, с которого спускалась на грудь большая рыжая борода, с маузером в руках, всегда пьяный».

Маргарита Николаевна Шаула
Иван Иванович Бозе (Ян Янович, латыш по национальности, из стрелков) к середине 1920-х с трудной службы в ЧК перешел на более спокойную хозяйственную работу и возглавлял совхоз "Красный Пограничник". Возмездие настигло Бозе – он был арестован 30 августа 1937 г., расстрелян в Ленинграде 18 января 1938 г. Поразительно, но он был реабилитирован 17 ноября 1956 года и сейчас числится в списках жертв политических репрессий.
Возмездие настигло и Зиновьева в 1938 году, вероятно он вспомнил свое распоряжение, когда его самого расстреливали.
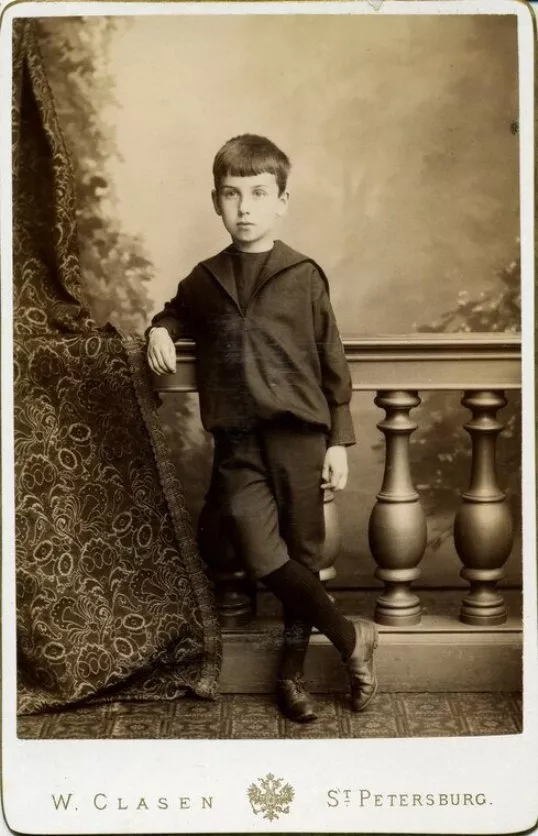
В это же самое время, в 1919 году, в Нежине был арестован отец Маргариты Николаевны, Шаула Николай Захарьевич. Он был арестован в числе многих интеллигентов Нежина, как заложник при приближении Добровольческой армии к городу, вывезен в Чернигов, где всех заложников расстреляли в конце августа 1919 года после взятия Нежина частями Добровольческой армии.

В 1920 году Маргарита Николаевна Яковлева вместе с сыном уехала из голодного Петрограда в Нежин. В том же году Владимир Всеволодович поступил в нежинскую комиссариатскую школу, которую окончил в 1923 году. В результате перенесенного голода Владимир Всеволодович заболел костным туберкулезом, ходить мог только на костылях. В 1926 году Маргарита Николаевна вывезла Владимира Всеволодовича на лечение в Евпаторию. После возвращения из Евпатории он поступил в нежинскую кооперативную школу, которую окончил в 1928 г. В июне 1928 года он вместе с Маргаритой Николаевной приехал в Ленинград, где они поселились на Кадетской линии,3, В.О. на квартире Фомаиды Никаноровны Яковлевой. Владимир Всеволодович поступил на математический факультет университета, проректором которого в то время был А.А. Иванов .
15 февраля 1929 года Владимира Всеволодовича Яковлева арестовали за то, что он был сыном расстрелянного и внуком расстрелянного.

8 июля 1929 года Владимир Всеволодович был приговорен по 58-й статье п. 8 и п. 11 к десяти годам заключения в концлагере.
На Соловках Владимир Всеволодович работал на кремлевской электростанции, затем до сентября 1930 рабочим при кладовой электростанции, потом ответственным кладовщиком, параллельно обучался на курсах электромонтеров, с июня 1931 контролер электросетей, параллельно обучаясь зимой 1931-1932 на курсах электротехников, с мая 1932 года стал начальником электросетей.
В июне 1933 года был переведен на материк в Кемь. С этого времени до начала октября 1934 года был заведующим Кемской электростанцией (КЭС).
В октябре 1934 года переведен в Медвежью Гору, где работал в должности инспектора-электротехника Инспекции ГУЛАГа.
В начале марта 1935 был переведен в отделение Повенецкий Пушсовхоз на должность главного механика отделения. Затем работал в должности заведующего электростанции Пушсовхоза.
После освобождения 8 июня 1936 года приехал в Новгород, где в то время проживала мать, Маргарита Николаевна Яковлева. Устроиться на работу было невозможно, так как с выданным ему после освобождения «волчьим» паспортом никуда не брали.
После нескольких лет мытарств, безуспешных поисков работы, наконец удалось устроится в Рыбинске, куда Владимир Всеволодович переехал вместе с Маргаритой Николаевной.
В Рыбинске Владимир Всеволодович Яковлев работал рентген-механиком в поликлинике в рентгеновском кабинете. Там он познакомился с врачом-рентгенологом Марией Михайловной.
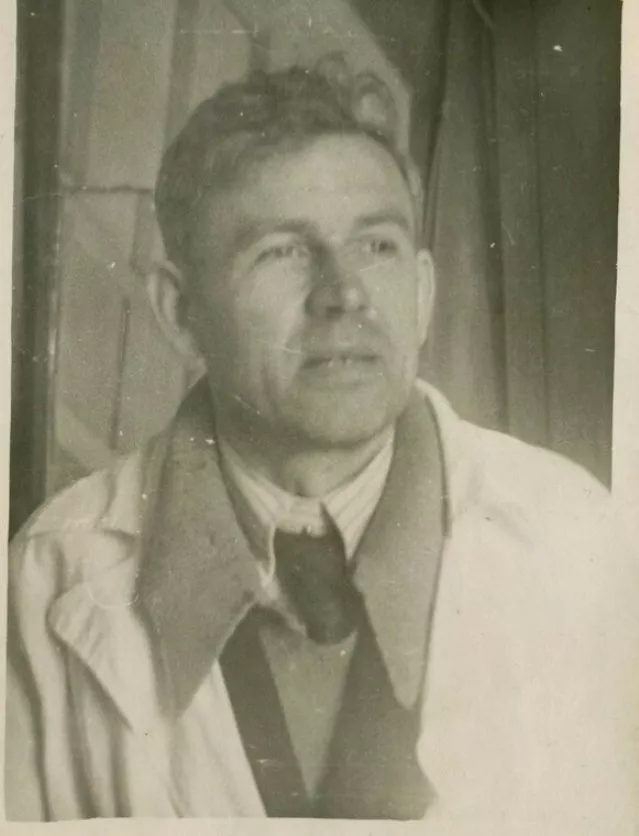
Скончался Владимир Всеволодович в канун Нового года. 13 января 1980 года наряжал елку, устал, прилег отдохнуть, заснул….

Свои воспоминания «Так было» Владимир Всеволодович Яковлев писал в 1960-х годах в Рыбинске. Весь текст написан исключительно по памяти, так как, находясь в концлагере, записывать было нельзя, хранить записи было смертельно опасно. Разумеется, во время работы над воспоминаниями у автора не было доступа в архивы. Воспоминания раскрывают те стороны жизни в нашей стране в тридцатых годах ХХ века, которые так упорно у нас замалчивались, и живых свидетелей которых к середине 1970-х годов почти не осталось.
Воспоминания В.В. Яковлева не передают не только никаких вымыслов, не только не преувеличивают потрясающие моменты его испытаний, но как-то даже сглаживают кошмарную действительность, испытанную им. В воспоминаниях рассказано только то, что он сам лично видел или проверил полученное из нескольких источников.
«Меня могут спросить, зачем я взялся за тему, которая замалчивается, а, следовательно, эти очерки не могут быть напечатаны и не принесут мне ни почестей, ни денег?
Мне кажется, что будущий историк из этих рассказов почерпнет много материала для воссоздания правдивой истории первых сталинских пятилеток с их концентрационными лагерями. Каждый гражданин несет долг перед Историей, перед будущими поколениями. Я вспомнил о нем, и этот долг повелел мне записать эти рассказы, чтобы наши потомки, изучив допущенные их предками ошибки, не повторили бы их во вред и себе.
Вот мой ответ на поставленный вопрос».
В.В. Яковлев. Рыбинск, ул. Пушкина, 43, кв. 12. 1966 год
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ОТ ДОМАШНЕГО УЮТА ДО СОЛОВКОВ
«РУКИ ВВЕРХ»
Поезд мчится в Соловки –
Дальняя дорога.
Сердце ноет от тоски –
На душе тревога.
Из тюремной песни 20-х годов нашего столетия.
«Руки вверх!» - звенели детские, а порой уже и ломавшиеся голоса в кустах небольших приусадебных садочков, тянувшихся сплошной лентой вдоль улочек одного бывшего уездного городка в северной части Украины. В каждом домике жили мальчишки, спаянные дружбой с раннего детства, образовавшие дружную компанию. Детский возраст требует подвижных игр, детское воображение требует «опасного», героического. Хлебнувшая много ужасов в гражданскую войну, наша компания не увлекалась революционной тематикой, подсознательно исключив ее из своего обихода. Наши детские умы тянулись к далекому от действительности и нашли богатую пищу для своего воображения в приключенческой литературе, наводнявшей в дореволюционной России книжные прилавки. Зачитавшись Шерлоком Холмсом Конан Дойля, низкопробными приключениями американских сыщиков Дика и Ника Картера, мы «творчески» их перерабатывали, носились по садикам с самодельными игрушечными револьверами, с восторгом исполняя попеременно роли сыщиков и бандитов, подстерегая в кустах, разоружая зазевавшихся.
«Руки вверх!» было для каждого из нас триумфом.
Годы шли, дети мужали; закончив семилетнюю школу, постепенно разлетались из родных гнезд по другим городам для продолжения образования или поисков работы. И только собираясь на Рождественских или Пасхальных каникулах, отмечая радость свидания старых друзей на какой-нибудь вечеринке с любимыми девушками, в разгар веселья кто-либо, вставая за столом, вдруг складывал пальцы руки в виде пистолета и, направляя на кого-нибудь руку, с комизмом восклицал «Руки вверх» и все дружно улыбались, с грустью и благодарностью вспоминая неповторимо счастливые детские годы, когда нас могла увлекать такая «чепуха».
Закончив летом 1928-го года Профессиональную кооперативную школу, я уехал продолжить образование в Ленинград, где тогда жила моя бабушка. Здесь жизнь заглянула мне в глаза со всей жестокостью и бессмыслием, заглянула черными дулами пистолетов, наведенных на меня, не игрушечных пистолетов. «Руки вверх!» не исходило от моего друга, не было детской игрой, а соблюдением устава оперативными органами всемогущего ОГПУ (Объединенное Государственное Политическое Управление, как была переименована Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом /ЧК/, - секретная полиция СССР с неограниченными полномочиями).
Посещение лекций и семинаров в Университете поглощало почти все мое время, и новых знакомств, а тем более дружеских связей пока у меня в Ленинграде не было. Жизнь текла размеренно, мать и бабушка радовались моим успехам; первое полугодие я закончил весьма успешно, ничто не предвещало крутого перелома в моей жизни, перелома, сломавшего мне жизнь в двадцать три года, сломавшего меня на всю жизнь.
15 февраля 1929 года в одиннадцатом часу вечера в нашей комнате внезапно распахнулась дверь из коридора. «Руки вверх!» - услышал я, удивленный, и увидел два пистолета, направленные на меня двумя ворвавшимися в комнату людьми с искаженными от нервного напряжения лицами. «Налет!» - мелькнуло у меня в голове, я поднял руки. В дверях показалось испуганное лицо председателя нашего жилищно-арендного кооперативного товарищества (ЖАКТа). Мне стало ясно. Я понял, что со мной случилось то, что может случиться с каждым гражданином СССР, не взирая ни на возраст, ни на пол, ни на занимаемое положение, связи с высокопоставленными лицами, в любое время дня и преимущественно ночи. Я был арестован. И хотя я не чувствовал за собой ни тени вины перед советской властью, мне стало не по себе. Внутренний голос подсказал: это конец всему. Моя догадка оказалась правильной. Стоя под дулом пистолета одного из непрошенных гостей, я был быстро обшарен по карманам другим, и мне предложили сесть на подставленный стул посередине комнаты. Окончательно убедившись в моей полной покорности, успокоившийся старший уполномоченный ОГПУ предъявил мне ордер на мой арест и обыск, ордер был подписан полномочным представителем ОГПУ при Ленинградском военном округе. Затем уполномоченные сняли свои гражданские пальто и предстали перед нами в форме ОГПУ, старший - с тремя шпалами в петлицах, младший - с двумя, что соответствовало по армейским званиям командиру полка и его помощнику. Мне было нелегко, но мне становилось во сто крат тяжелее, когда я смотрел на растерянные, ничего не понимающие лица моей матери и бабушки. Они еще не осознали катастрофы, постигшей их сына и внука, а, следовательно, и всех их надежд.
Уполномоченные деловито приступили к обыску. Старший занялся библиотекой, младший вещами. Председатель ЖАКТа сидел с окаменевшим лицом, выполняя обязанности статиста в развертывающейся трагедии, то есть понятого при обыске. Он переживал за всех нас, будучи хорошим человеком, относившимся к нашей семье по-дружески. Забегая вперед, не могу без слез вспомнить, как меня, уже совсем седого, он узнал и принимал у себя в том же доме спустя двадцать восемь лет, искренне радуясь, видя меня оставшимся в живых.
Каждая книга (а библиотека, оставшаяся от деда и отца, была весьма обширная) тщательно перелистывалась, перещупывались мягкие вещи. Обыск затянулся до двух часов ночи, но результатов не дал, что видно было по разочарованным лицам уполномоченных. Утомленные и обозленные неудачей чекисты могли набить портфель лишь письмами от моих друзей детства и записями университетских лекций. Портфель вышел тоненьким.
Мне приказали одеться. Настала тягостная минута прощания с родителями. Меня вывели на лестницу, мы стали спускаться. Снова пистолеты поблескивали в руках тех, кто творил злую волю, кто разрушал семьи, уничтожал невинных людей, тех, кто сами были безголосыми винтиками дьявольской машины уничтожения все убыстрявшей свой ход и сминавшей вместе с жертвами и сносившиеся собственные винтики.
Когда мы вышли на улицу, тюремной машины, «черного ворона», как называли ее в народе, не оказалось. То ли шофер, соскучившись затянувшимся обыском, уехал, то ли, выполняя уплотненный график арестов, машина потребовалась в других местах, но факт оставался фактом, везти меня в тюрьму было не на чем. Посовещавшись между собой, разочарованные уполномоченные отвели меня в конторку ЖАКТа во дворе, куда вместе с председателем ЖАКТа пришла моя мать, чтобы лишние минуты побыть со мной. Старший уполномоченный стал звонить по телефону. На другом конце провода, очевидно, оказался его приятель, который, по-видимому, поинтересовался результатами обыска. «Малина» (на уголовном жаргоне означает не только притон уголовников, который более точно обозначается словом «шалман», но главным образом означает склад краденых вещей; в данном случае уполномоченный имел в виду находку у меня обильного количества вещественных доказательств преступления, уличающих меня), сказал уполномоченный, но тут же, спохватившись, что и приятеля при исполнении служебных обязанностей нельзя вводить в заблуждение, нехотя прибавил: «Да так ничего особенного», сделав кислую мину.
Тянулись тягостные минуты, на мать мою нельзя было смотреть без содрогания. Разговаривать не разрешали. Да и что можно было сказать в такие минуты. Почему-то мне на ум пришло попросить ее положить в масло мою опасную бритву, чтоб не заржавело лезвие, точно не было более важных к ней просьб или слов. Или действительно я тогда считал, что меня забирают надолго. Тогда я еще был настолько наивен, что верил во всеобъемлющую осведомленность и правосудие ОГПУ, а потому считал, что тот час же утром, когда выяснится ошибка, я вернусь домой.
Вошел приехавший на машине шофер, еще одно краткое прощание с матерью, и меня повели на улицу. Вторично я выходил из дома под дулами пистолетов, из дома, где жили мои родители, и на этот раз уже в последний раз.
У ворот стояла крытая полуторка, в какой развозились товары из складов ЛСПО (Ленинградский Союз Потребительских Обществ) в магазины потребительской кооперации Ленинграда. Но в конце 1928 - начале 1929 годов, когда вступила в действие первая сталинская пятилетка, началось строительство социализма, все меньше стало требоваться машин для доставки продовольствия в магазины, все больше понадобилось машин для доставки арестованных, не хватало черных воронов, и все больше крытых полуторок, в особенности в ночное время, курсировало по городу с одушевленным грузом. Таким грузом оказался и я в сопровождении двух уполномоченных. Один из них подсадил меня сзади в кузов и сел напротив меня, другой сел рядом со мной, и машина тронулась.
Поворот налево, и машина выкатилась на пустынный в четвертом часу ночи Средний проспект. Остановка у шестой линии, и младший уполномоченный слез, отправившись к себе домой с чувством глубокого удовлетворения от благополучно закончившейся «операции по захвату опасного преступника». А машина повезла меня дальше. Куда? Снова поворот налево на 9-ю линию, и снова налево, и сквозь болтавшиеся на ходу занавески переда кузова передо мною предстала величественная панорама освещенных берегов Невы. Поворот направо и машина стремительно несется по мосту Лейтенанта Шмидта. Прощай, родной Васильевский остров, где я родился, где счастливо протекало мое раннее детство!
«ЭТО МАШИНА ЛСПО»?
«Это машина ЛСПО?», - вдруг раздался незнакомый голос, когда машина, замедлив ход, стала сворачивать с моста налево, и какая-то фигура, вскочив на подножку кабины, просунула голову в теплой ушанке в кузов машины. Не знаю, что в этот момент пережил мой конвоир. Специфическое его мышление, воспитанное на сугубой бдительности по отношению к врагам революции, несомненно, могло породить только одну реакцию - налет единомышленников, чтоб отбить арестованного преступника. Ствол пистолета уперся в лоб незнакомца, неистовым голосом уполномоченный выкрикнул: «Слезай!». Фигура загулявшего кооператора, хотевшего воспользоваться ведомственным транспортом, чтоб сократить время пути домой, мгновенно исчезла. Не знаю, попал ли он под колеса или нет, но даже и в первом случае он мог себя считать родившемся в сорочке. Не было еще случая, чтобы из «черного ворона» высаживали человека на свободу, чтоб человек сам добровольно садился в него. Процесс всегда был обратным.
По набережной Невы машина прибавила скорости. Резкий ветер пронизывал фургончик насквозь, было минус тридцать пять градусов по Цельсию, но холода я не ощущал. В моем разгоряченном мозгу снова и снова вертелся один и тот же вопрос: «За что? За что? Что я сделал, что подвергся аресту?». Я начал перебирать в памяти все свои поступки, даже отдельные слова, сказанные мной когда-нибудь в течение моей короткой сознательной жизни. Я не находил ничего, за что бы можно было зацепиться, предположительно уяснить себе причину ареста.
Получивший образование в советской трудовой школе, впитавший всеми фибрами души преподаваемое нам марксистское мировоззрение, принявший пролетарскую революцию и строительство социализма как закономерный исторический процесс, я органически не мог быть контрреволюционером, противником советской власти.
«За что, за что?», - снова вставал один и тот же навязчивый вопрос, и я мучительно не мог найти ответа. И вдруг в вихре проносившихся воспоминаний передо мной предстал Борис Варшавский, еврейский юноша, сын нэпмана, с которым я учился вместе в кооперативной профшколе, с которым сидел за одним столом в аудиториях и подружился на последнем курсе. Достойно удивления была эта дружба сына кадрового военнослужащего Русской армии с сыном еврея-торговца. Но на самом деле эта дружба у меня была и возникла в той специфической обстановке разнузданного украинского шовинизма, сознательно разжигавшегося властями на Украине в двадцатых годах с целью облегчения управления разрозненными нациями и умиротворения украинцев, все еще с трудом подчинявшихся большевикам. Травля меня, как русского по национальности, загнала меня в один лагерь с более чем недолюбливаемыми украинцами евреями. В их кагале легче было противостоять нападкам украинских националистов, я пользовался защитой евреев.
Однажды в начале марта 1928 года Варшавский на занятия не пришел, не пришел он и на другой день. В те годы не было особого контроля за посещением учащимися занятий, пропуски мало кого беспокоили, но для аккуратного Бориса это было ново. На второй день после занятий мне как старосте курса заведующий школой сообщил, что Варшавского надо вычеркнуть из списка курса, так как он арестован местными органами ОГПУ по обвинению в сионистской деятельности.
Арест Бориса ошеломил меня. Я нисколько не испугался за себя, чувствуя свою приверженность к Советской власти. Я не знал тогда, что у нас арестовываются совершенно невиновные люди, поводом к аресту которых является их знакомство с уже посаженным человеком. Я был совершенно сбит с толку, так как, хорошо зная Бориса, не мог допустить, чтобы он был замешан в какой-либо контрреволюционной деятельности, и, кроме того, в те годы молодежь еще не подвергалась репрессиям, в том числе и еврейская, а имевшие место в предыдущие годы аресты отдельных пожилых евреев за сионистскую деятельность в начале 1928 года совершенно прекратились.
Чтобы понятнее была моя растерянность, необходимо сделать обзор исторических событий, приведших к переломным 1927-1928 годам.
Если в период Октябрьской революции и первых последующих лет в правящей верхушке, в Политбюро партии большевиков преобладали евреи: Троцкий-Бронштейн, Зиновьев-Радомысльский, Каменев-Розенфельд, а на местах: в Ленинграде Урицкий и Володарский, на Украине Раковский, в Ярославле Нахимсон и т.д., то с усилением, а потом и переходом к абсолютной личной власти Сталина влияние евреев в управлении государством стало падать. Еще провозглашение НЭПа - новой экономической политики было подлинным триумфом евреев, так как по существу это была реставрация еврейского и только еврейского капитализма. Передача еврейским капиталистам, под видом арендованных, предприятий дало им возможность развернуть бурную деятельность по получению баснословных прибылей в сфере производства товаров широкого потребления, в которых так нуждалось население огромной страны, разоренной гражданской войной, а приложение припрятанных евреями капиталов в сфере торговли еще более повысило получаемую ими сверхприбыль. Оказавшись монополистами в сфере производства и распределения товаров ширпотреба, евреи обирали население как только могли. Обладая высокоразвитым чувством национализма, вся эта сверхприбыль стала уплывать широким потоком в Палестину, куда эмигрировали многочисленные еврейские семьи. Пароходы один за другим, перегруженные евреями до отказа, отходили от причалов южных портов.
Устранение Троцкого, замена в Политбюро Каменева и Зиновьева Орджоникидзе, Орахелашвили и Микояном привели к переменам в соотношении сил. Еврейская монополия заменялась кавказской. Евреи с огорчением передавали анекдот, весьма точно передававший складывающееся новое соотношение сил: «Чем занимается политбюро? - Танцует лезгинку под плач изгоняемого Израиля». В действительности евреи заплакали в 1926 году, когда был запрещен выезд в Палестину, чем был прекращен вывоз капитала за границу. Кое-кто из нэпманов-евреев, хотя это и были единицы, были высланы в «места не столь отдаленные» - в Нарымский край в Сибирь.
Евреи перешли в контрнаступление, пытаясь вернуть монопольное положение в управлении государством. В большевицкой партии развернула деятельность оппозиция, состоявшая во всех партийных ячейках преимущественно из евреев и возглавлявшаяся Троцким, Зиновьевым и Каменевым. Одновременно евреи атаковали «в лоб», развернув деятельность сионистских организаций. Эти организации существовали испокон веков. Не проявлявшие себя ранее открыто, с 1926 года развернули широкую кампанию против советской власти вне рамок партии большевиков, вследствие чего были единичные случаи начавшихся арестов пожилых сионистов.
В то же время этот напор вне и внутри большевицкой партии заставил Сталина пойти на компромисс, введя в Политбюро Кагановича, который затем в течение двадцати лет направлял политику Сталина в благожелательную для евреев сторону. Правда, Сталин не отказался от ликвидации НЭПа, прикрыл капиталистические еврейские предприятия, но дал возможность евреям спокойно перестроиться в новой обстановке и другими путями получать львиную долю общественного прибавочного продукта. Вместо арестов сионистов террор был направлен в другую сторону. Настал печальной памяти 1927 год. Сосредоточив в своих руках очень большую долю власти, Сталин, воспользовавшись как предлогом, террористическими актами, в результате которых в Варшаве был убит посол Войков, под Минском - заместитель начальника Белорусского ГПУ Опанский и взрывом бомбы в Деловом клубе в Ленинграде, обрушил волну арестов на интеллигентов и офицеров Русской армии, вернувшихся из эмиграции или отсидевшихся по-обывательски за стенами своих квартир в годы революции, на священнослужителей и церковный актив, на националистов в союзных республиках. Лагеря быстро наполнялись «Войковским набором». Но молодежь оставалась все еще в стороне от этих репрессий.
На третий день ареста Бориса, в перерыве между лекциями у нас в Профшколе появилась старшая сестра Бориса Варшавского, собравшая вокруг себя в коридоре группу наших студенток-евреек и украинок, из которых многие были комсомолками. Они все обратились ко мне с просьбой подписать заявление на имя ОГПУ, свидетельствующее о непричастности Бориса к пропаганде сионистских идей в стенах учебного заведения. Сестра Бориса рассказала мне о разговоре со следователем ОГПУ, ведущим дело Бориса. Следователь ей сказал, что такое заявление послужит освобождению Бориса.
Несмотря на тогдашнюю мою наивность, я все же не вполне поверил словам следователя и вообще из осторожности, несмотря на мою приверженность к Советской власти, хотел отказаться от этой затеи, считая, что мне, сыну полковника Русской армии, исчезнувшего в недрах ЧК, не спустят того, что сойдет с рук потомственному пролетарию. Тем временем наши еврейки уже самовольно собрали курс, и мне, как старосте курса, пришлось возглавить собрание. Текст заявления уже лежал на столе передо мной. Большинство, кроме комсомольцев, сразу же отнесшихся отрицательно, выжидали. Около тридцати пар молодых глаз с доверием устремились на меня. Я был их вожаком, от меня, я почувствовал, зависит судьба заявления. Мысленному взору предстал передо мною Борис, страдающий за решеткой, и я не мог не рискнуть для него: я подписал заявление. Дальше пошло все очень быстро. Около двадцати подписей было поставлено, из числа тридцати человек нашего курса, причем первыми после меня подписали заявление еврейки, комсомолки и не комсомолки. Я продолжал разговаривать с сестрой Бориса, и в это время снова появились уже заплаканные еврейки-комсомолки, которым уже успели дать нагоняй на параллельно созванном экстренном заседании комсомольского комитета. Они просили дать им заявление, чтоб вычеркнуть свои подписи под ним. Каково было мое удивление, когда я на столе уже не обнаружил этого заявления - оно исчезло без следа. Я абсолютно не заметил, как в толпе его похитили; вероятнее всего, какой-нибудь тайный агент ОГПУ среди наших студентов стащил его, чтобы представить это заявление как информационный агентурный материал своему уполномоченному. В накалившейся обстановке о новом заявлении и сборе подписей нечего было и думать. Сестра Бориса ушла ни с чем, а мне стало очень не по себе, какой-то призрак страха за свою подпись поселился во мне, хотя и ненадолго.
И вот воспоминание об этом своем поступке молнией прорезало мой разгоряченный мозг: «Да вот оно что»! Но тут же здравый смысл опроверг мое бредовое предположение: «Причем тут Борис? Ведь его выпустили через два месяца как невиновного», и тут же снова: «А теперь его взяли, а тогда я подписался за него, вот и меня теперь вместе с ним». И снова здравый смысл во мне протестовал: «Но ведь он сионист-еврей, а я же не еврей, как же я могу быть обвиненным в сионизме? Нет, не может быть!». Забегая вперед, надо сказать, что с Борисом мы встретились через десять лет в Ленинграде. Он окликнул меня на площадке трамвая; я его еле узнал. Выяснилось, что арестам он больше не подвергался и вскоре после меня тоже переехал в Ленинград и работает бухгалтером.
Дальше мучиться сомнениями мне не пришлось. Погруженный в тяжелые раздумья, в поиске предположительной причины моего ареста, я не заметил, как машина сделала еще несколько поворотов и остановилась, осветив фарами тюремные ворота. Часовой в шубе взял предъявленное моим конвоиром удостоверение, распахнул ворота, машина въехала во двор, ворота закрылись на волю и надолго для меня.
ДП3 (Дом предварительного содержания)
ДПЗ - Дом предварительного заключения, гласила официальная расшифровка этого сокращения. ДПЗ - Дом пролетарских забав - расшифровали сокращение заключенные в нем. Последнюю расшифровку я узнал от заключенного в соседней камере, с которым мы мылись в тюремной бане через несколько дней после моего ареста. Убитый своим горем, я никак не мог понять, как у моего товарища по несчастью существует желание шутить. В дальнейшем я убедился, что юмор - постоянный спутник заключения, подсознательная реакция психики развитых умных людей на нечеловеческие условия заключения, на «пролетарские забавы», совершаемые в том числе и над пролетариями, от имени пролетариата, но далеко не пролетарскими элементами.
Итак, машина со мной заехала во двор ДПЗ, уполномоченный отвел меня в дежурную, где здоровенный усатый тюремщик принял меня под расписку и учинил допрос: «Нож, спички ест?». Вопросы он задавал как-то нехотя, не смотря на меня. Чувствовалось, что это простая формальность по уставу тюремной службы, донельзя ему надоевшая формальность, которую он соблюдал в десятках тысяч случаев привоза по ночам арестованных, не являвшимися для него живыми людьми, а просто единицами, подлежавшими передаче по смене по счету. Затем он лениво обшарил все мои карманы, как-то брезгливо отряхнул руки и дал заполнять анкету. Вопросов было много, часто абсолютно для меня непонятных. Несмотря на потрясение, вызванное арестом, бессонной ночью, глядя на бесчисленные вопросы о моих дедушках и бабушках (чем занимались до революции и после революции, имели ли собственность, какую, где, в каких чинах состояли, в каких войсках служили и т.д., и т.п.), я невольно вспомнил едкий анекдот об анкетах: «Вопрос: с каким вареньем любила пить чай бабушка, и если с земляничным, то почему?». После того, как я кое-как справился с заполнением анкеты, неоднократно понукаемый усатым детиной, он даже не взглянул на анкету, а позвонил: «Забрать арестованного».
Если усатый имел при себе наган, то за мной пришел невооруженный тюремщик в форме ОГПУ и повел меня через несколько дверей. Очутился я в коридоре, вид которого меня поразил. Конец его тонул во мраке слабо светившихся электрических огней, а потолок оказался на высоте шестиэтажного здания. Вдоль одной стены этого коридора были расположены друг над другом шесть висящих с перилами трапов, на которых в каждом из шести этажей выходили двери камер. Трапы были соединены лестницами, а между трапами и другой стеной коридора с немногими окнами на уровне каждого этажа, забранных толстыми решетками, располагались застекленные и забранные проволочными сетками клетки для дежурных тюремных надзирателей, по несколько на этаж.
В одну из таких клеток на третьем этаже и привел меня тюремщик. Находившийся в клетке снова подверг, но уже очень тщательному, обыску, причем ему почему-то показался особо подозрительным мой левый сапог, который он велел мне снять, всячески его осматривал и затем надорвал подметку, заглянув под нее. Убедившись, что и под подошвой ничего нет, велел мне сапог надеть, отобрал кашне, подтяжки, верхний ремень, вообще все то, на чем, но мнению тюремщиков, можно повеситься, и сам повел меня по трапу к дверям одной из камер. Оторванная подметка щелкала по металлическому полу трапа, нарушая зловещую тишину в этом мрачном строении, как будто живыми мы были только вдвоем с тюремщиком, а все население бесчисленных камер, до отказа набитых существами, страдавшими каждый по-разному, уже вымерло, не снеся «пролетарских забав». Как я потом убедился, рассмотрев контингент арестованных, содержавшихся в ДПЗ, многочисленные пролетарии подвергались тем же «забавам», что и представители других поверженных классов, «забавам», которые учиняли от имени диктатуры пролетариата садисты, ничего общего с пролетариатом не имеющие, но действовавшие от его имени и во вред ему. Эти карьеристы, поднявшиеся на гребне революции, в те годы действовали так же, как и десять лет спустя при так называемой «ежовщине», когда их преступления получили бо́льшую огласку вследствие еще более крупных размеров их садизма, которому подвергались в массе свои же наипреданнейшие Сталину и советской власти кадры.
Тюремщик ключом, размеры которого вызвали у меня удивление, открыл замок, снял его, отодвинул засов и распахнул дверь камеры наружу. Я вошел в камеру. Оба находившихся там арестанта уже сидели на своих койках сонные, разбуженные включенным снаружи тюремщиком электрическим светом и громом засова. Я осмотрелся. Слева вдоль стены, перпендикулярной двери, рукомойник и железная койка, не доходящая сантиметров на шестьдесят до противоположной двери наружной стены, справа по параллельной стене унитаз, железный столик и стул, наглухо прикрепленные к стене. Второй обитатель камеры под столом на стуле и унитазе расположил деревянный щит, на котором и спал. В наружной стенке располагалось квадратное окно с толстой решеткой, подоконник которого был на высоте человеческого роста. Днем я увидел, что оно пропускает лишь слабый дневной свет, так как снаружи оно было закрыто козырьком. Чтобы увидеть небо поверх козырька, надо было приложить щеку к стеклу.
Это была тюремная одиночная камера, но так как число подследственных в несколько раз превышало количество таковых в дореволюционные времена, то в одиночку помещали по два и даже по три арестованных. На первый взгляд в этой камере для меня не было не только «места для лежания», но даже и для стояния. Однако я ошибся, потому что пожилой арестант, сидевший на железной койке, любезно предложил мне сесть к нему на койку, добавив с юмором: «Сесть на сколько лет?- к сожалению, это от меня не зависит». Тюремщик внес топчан с двумя козлами и пытался поставить поперек камеры под наружной стенкой. Сделать этого не позволила ширина камеры. Он долго отпиливал край топчана, пока не укоротил его до ширины камеры и тот влез между стенками, длина его была такова (вернее, ширина камеры), что на этом прокрустовом ложе вытянуться я не мог, и приходилось спать в дальнейшем скорчившись. На топчан тюремщик положил набитый соломой тюфяк, у меня с собой была подушка и одеяло, а без постельного белья арестант должен был обходиться.
Все это заняло довольно много времени, и когда тюремщик ушел, выключив свет, заперев камеру, и мы все трое легли, вверху окна стал пробиваться слабый свет хмурого утра, утра первого дня моей тюремной жизни, а сколько еще таких дней было впереди?! Мои коллеги по несчастью уснули, а я так и не мог уснуть, потрясенный всем случившимся.
В камере вспыхнул свет. Он исходил от электрической лампочки, находящейся в глубокой нише над дверью. Густая металлическая сетка отделяла светильник от камеры. Густая пыль на лампочке еще более снижала яркость источника света. «Подъем» сказал пожилой арестант, и, откинув одеяло, стал одеваться. Совершенно неожиданно отреагировал на это второй обитатель камеры, послав длинное витиеватое ругательство в адрес Сталина. Я не мог и предполагать, чтоб вслух так можно было говорить о вожде. На меня пахнуло какой-то странной свободой, тем более странной за решеткой, свободой, которой не было на свободе.
По трапам слышались тяжелые шаги тюремщиков - шла передача смены, по секторам пересчитывали поголовье заключенных. Тюремщики для этой цели не открывали дверей камеры. В каждой двери, кроме волчка (волчок это закрывающееся снаружи отверстие в двери камеры, диаметром сантиметра 3-4, через которое снаружи видна вся камера и через которое дежурные надзиратели из коридора время от времени ведут скрытно наблюдение за арестованными), было еще квадратное отверстие размером тридцать на тридцать сантиметров, открывающееся наружу в виде полочки. По хлопанью этих форточек в дверях можно было определить, что «поверка» приближается к нам. Открылась форточка и в двери нашей камеры, беспристрастный взгляд скользнул по нашим лицам, и форточка захлопнулась.
Оправившись в унитаз, умывшись в рукомойнике без мыла, стали ждать завтрака, о котором меня проинформировали мои коллеги по несчастью. Снова распахнулась форточка, арестанты поставили на полочку свои миски и кружки, сделанные из жести. Поскольку таковых у меня еще не было, тотчас же и я получил от надзирателя такой же инвентарь. Завтрак под наблюдением надзирателя разносили в большом чане два уголовника, имевшие короткие сроки наказания, а потому оставленные в ДПЗ для несения хозяйственных работ. Один из них черпаком положил в наши миски пшенной каши, другой крохотным черпачком налил на кашу растительного масла. Из большого чайника третий уголовник налил в наши кружки горячего чаю, четвертый с подноса подал три дневные порции черного хлеба – «пайки», по-тюремному, и насыпал на листик бумаги, быстро подставленный пожилым арестантом, три горсточки сахарного песку - тоже дневная порция сахара. Таким же порядком на обед мы получили неплохой суп с признаками мяса, картофельное пюре с растительным маслом и чай. На ужин полагалась жидкая похлебка и чай.
Нехватка продовольствия в стране, карточная система еще не коснулись столь привилегированного учреждения, как ОГПУ, и тюремное начальство не снижало нормы сытого НЭПа для арестованных. С точки зрения властей это был парадокс, потому что заключенные, подлежащие уничтожению как противники власти, питались значительно лучше верноподданных Советской власти, находившихся на воле. Но бюрократическая машина работает медленно, и по инстанциям ухудшение питания еще не дошло. Волна голода значительно запаздывала по времени в этом государстве в государстве, каким было ОГПУ, а в концентрационные лагеря эта волна еще более запоздала, и в то время как населению городов становилось все туже, а в некоторых областях Украины уже царил голод, в зиму 1929 - 30 годов пайки заключенным в лагерях еще не были урезаны.
У меня не было никакого аппетита, подавленному и разбитому, мне было не до еды. Я не хотел завтракать. Мои сокамерники стали меня уговаривать: «Вам нужно есть, хоть и не хочется. Вы ослабеете. А Вы должны быть сильны, ох как Вам понадобится здоровье впереди!» - сказал мне пожилой арестант в заключение. Милый, умный, доброжелательный человек! Спасибо ему за эти слова, которые я пронес через все испытания, которыми я руководствовался во всех падавших на меня ударах судьбы. Благодаря этим словам, вовремя сказанным мне старшим опытным человеком, может быть, я и остался живым наперекор всем приговорам, ввергшим меня в концентрационный лагерь смерти. Я послушался, съел свою порцию завтрака и больше уже не отказывался от еды.
После завтрака состоялось знакомство с однокамерниками. Пожилой арестант оказался ломовым извозчиком – «кустарем-одиночкой». Так именовались тогда и мелкие ремесленники, занимавшиеся производительным трудом на собственных орудиях производства, но без найма рабочих, почему их никак нельзя было причислить к эксплуататорам, к нетрудовым элементам. Подобная категория тружеников была весьма многочисленна при НЭПе.
Однако с началом Сталинской пятилетки, с 1928 года, с ликвидацией НЭПа «кустарей-одиночек» стали беспощадно преследовать, сначала обложив непосильными налогами, а затем обрушив на них аресты. Кто из них добровольно не ликвидировал свой скромный инвентарь, тот принудительно его лишался через конфискацию после вынесения «определения» органов ОГПУ, а сам пополнял ряды бесплатных рабов в концлагерях ОГПУ. Эта политика, разрушившая кустарную промышленность до основания, лишившая население самых необходимых предметов обихода, была поистине величайшим вредительством в экономике страны. Самые злейшие враги советской власти нарочно не могли бы так навредить самим большевикам, как их руководство само этой политикой навредило себе и ни в чем неповинным широким массам трудящихся.
Политически эта политика оправдывалась строительством социализма, усилиями в кратчайший срок создать крупную промышленность. Если развитые промышленные страны строили свою промышленность десятками лет и, как учила марксистская политэкономия, «за счет ограбления колоний», то Сталин построил промышленность за счет ограбления собственного народа, рабочих и крестьян. Для такого скачка, естественно, требовалась неслыханная норма прибыли, во столько раз большая по сравнению с западными странами, во сколько раз процесс индустриализации шел у нас быстрее. На житье рабочему оставались доли процента от вырабатываемого им общественного продукта. Кустари, несмотря на чудовищный налоговый пресс, возраставший с каждым годом, все же сохраняли нормальный прожиточный минимум, вызывая зависть у промышленных рабочих, обираемых хозяином-государством, и были живым укором для политики индустриализации. Такого укора своей политики Сталин не терпел, и кустари были ликвидированы.
Одной из таких многочисленных жертв ликвидации кустарей и был находившийся со мной в камере ломовой извозчик. Прошло уже полтора месяца, как он был арестован и сидел в этой камере, но «дело» его не двигалось. При мне его за восемь дней, или, вернее ночей, ни разу не вызывали на допрос. Настроен он был мрачно, ничего хорошего для себя не ожидая, и как-то безучастно относился к своей судьбе, проявляя ко всему полную апатию, ту апатию, которая наступает у человека, донельзя утомленного, выбившегося из сил с обрушившимися на него несчастьями. Медленно говорил, посапывая трубкой, которую не выпускал изо рта. И только когда он вспоминал жену и детей-подростков, невыносимая скорбь виднелась в его выцветших глазах. Очевидно, он был хороший семьянин и безмерно сокрушался о разрушенной семье, о ее безрадостной судьбе в дальнейшем.
Прямой противоположностью был второй арестант. Молодой, беспокойный, любивший поговорить, обильно пересыпавший свои высказывания нецензурной бранью вообще и преимущественно в адрес Сталина и его приспешников, как он называл членов Политбюро ВКП(б) (Политического бюро Всесоюзной Коммунистической партии большевиков). Потомственный пролетарий, малокультурный и необразованный, окончивший только школу фабрично-заводского обучения, очень молодым вступил в партию большевиков, совершенно не разбираясь в политике. Он был арестован за восемь дней до моего ареста после собрания партийной ячейки, в которой он состоял. Скорее из озорства, чем по политическим убеждениям, он голосовал за резолюцию, выдвинутую оппозиционерами и теперь, негодуя на свою «неосторожность», ругал Сталина и сталинское политбюро. Каждому было ясно, что такой «оппозиционер» никак не мог представлять какой-либо опасности для сталинского режима. Оставшись в меньшинстве как «оппозиционер», он в дальнейшем безусловно голосовал бы за Сталина и был бы наиверноподданнейшим партийцем. Но сталинские гепеушники косили подряд, и он оказался в тюрьме, обвиненный по самой страшной статье кодекса, по 58-й статье, оставившей столь мрачную славу в истории нашей страны.
С конца 1928 года Сталин напустил ОГПУ на оппозиционеров-троцкистов, объявив о перерастании внутрипартийной оппозиции из рамок партии в контрреволюционную организацию. Сталинский террор начал распространяться и на самих большевиков.
На другой день после моего заключения в ДПЗ, этот молодой арестант, не находя выхода своей буйной натуре в узких стенах камеры, объявил голодовку, как протест против незаконности его, как большевика-революционера, ареста органами «карающего меча революции» - ОГПУ. Его забрали из нашей камеры тут же утром до завтрака.
Его открытая ругань Сталина и верхушки партии, его решительный протест против власти ОГПУ в виде объявления голодовки, окружило молодого троцкиста в моих глазах ореолом мужества, вызвало безмерное восхищение им. Начитавшись революционной литературы, моему воображению уже представлялись картины, как мужественная голодовка арестованного переполошила судебные и карательные органы, как его единомышленники организовали демонстрацию у стен тюрьмы с требованием его освобождения, и напуганные власти отступают и освобождают героя. Вот, думал я, как надо решительно действовать, чтобы обрести свободу. «В борьбе обретешь ты право свое», вспомнился мне лозунг партии социалистов-революционеров двенадцатилетней давности.
В своих мечтах я забыл одну существенную деталь, а именно, что все прочитанное происходило и будет происходить в государствах буржуазной демократии, которую марксисты называют диктатурой буржуазии, но при диктатуре пролетариата, то есть диктатуре верхушки партии от имени пролетариата, ничего подобного произойти не может. Для действенности голодовки в советской тюрьме у нас нет ни оппозиционных партий, депутаты которых могли бы выступить с запросом о голодающем в многопартийном парламенте, у нас нет свободной прессы, которая могла бы сообщить народу о голодовке политзаключенного, у нас нет свободы демонстраций. А для успеха голодовки требуется наличие всех этих условий. В дальнейшем из бесед с политзаключенными - членами политических партий социал-демократов, социалистов-революционеров и анархистов, неоднократно объявлявших голодовки в тюрьмах в дореволюционной России, я еще более убедился в правильности создавшегося у меня мнения. При советской власти на голодавших не обращали никакого внимания, и они только ускоряли трагическую развязку - умирали, подорвав свое здоровье, на радость тюремщикам, развязывали последним руки, не требовали дополнительных хлопот со стороны последних для своего физического уничтожения.
Вечером того же дня мой «герой», объявивший голодовку, был снова водворен в нашу камеру к ужину, с аппетитом съел его и смущенный лег спать. На наши вопросы он кратко ответил: «Очень есть захотелось». Такие нестойкие заключенные тоже подрывали значение голодовки как единственного вида протеста заключенных.
В ДПЗ полагалась пятнадцатиминутная прогулка на свежем воздухе, если только кто-нибудь не становился жертвой каприза следователя или тюремного надзирателя. Прогулка давалась между завтраком и обедом. Предварительно надзиратель предупреждал возгласом через волчок «прогулка», а минут через десять открывал двери камеры, выводя нас по трапам и лестницам вниз, во двор. Прогулка совершалась во внутреннем дворе, обнесенном шестиэтажными зданиями ДПЗ. Во двор выходили окна камер, закрытых козырьками, которые снизу выглядели ласточкиными гнездами, прилепившимися в строгом порядке к гигантской скале. Вследствие малого размера двора он напоминал колодец, по дну которого мы и прогуливались по кругу размеренным шагом, вокруг вышки в центре двора, где стоял вооруженный винтовкой тюремщик, а невооруженные тюремщики подпирали стены, строго следя, чтобы заключенные из одной камеры шли шеренгой и держали заданный интервал от предшествовавших им по кругу заключенных какой-либо другой камеры. Сверху это напоминало горизонтальную карусель.
Выйдя во двор, я ознакомился с контингентом заключенных, и мое подавленное арестом настроение сменилось гордостью за себя, за то, что я, ничем не приметный, скромный рядовой юноша, каким я считал себя, оказался достойным к приобщению к цвету и уму нашей страны, на равной ноге с этими пожилыми образованными людьми. Среди выпущенных на прогулку было подавляющее большинство высокоинтеллигентных, хорошо одетых, разного возраста лиц. Бросались в глаза многочисленные престарелые и пожилые священнослужители в рясах. Мелькали шинели комсостава армии и флота. Невольно вспомнилась прочитанная незадолго до ареста очень интересная трилогия бывшего прокурора Всевеликого Войска Донского, вернувшегося из эмиграции, в которой он очень тепло описывал историю белого движения. Его книги были изданы в СССР при НЭПе под названием «Русская Вандея», «Под стягом Врангеля» и «В стране Братушек». Эмигрировавшую Россию он называл Россией № 2. Бесспорно, в ДПЗ я увидел Россию № 3 и гордился причислением меня к ней.
Для бритья вызывали раз в неделю по одному к парикмахеру, который орудовал в специально отведенной одиночке под надзором тюремщика. Раз в десять дней водили в баню по две камеры совместно. Это было исключение из общего правила, так как общение между камерами категорически запрещалось. Во время мойки разговорился я с одним командиром полка, большевиком-троцкистом, или, как он себя называл, большевиком-ленинцем, обвинявшимся по 58-й статье. От него я и узнал расшифровку ДПЗ – «Дом пролетарских забав». Он меня тронул своим участием ко мне, что и я арестован по обвинению по той же статье. Я еще не осознал тогда всей опасности, грозившей мне. Он был пожилым человеком, сидел под следствием уже десять месяцев и считал свою жизнь законченной. Тем более он был обеспокоен за меня, видя мою юность и неопытность.
«Духовные» потребности заключенных удовлетворялись художественной литературой, которую в камеру приносил надзиратель один раз в неделю, в небольшом ящике. Выбор книг был весьма ограничен, да к тому же они были очень истрепаны, без конца и начала, с вырванными в середине листами. В ящике было около десяти книг, которые сдавались в одной камере и брались арестантами в других, следующих по маршруту надзирателя камерах. Карандашей, чернил, бумаги не полагалось. В случае желания заключенного написать заявление, надо было дождаться очередной кормежки и просить надзирателя. Просьбы выполнялась долго и со словесным внушением со стороны надзирателя, совавшего лист, чернила и ручку в форточку в двери. Отдать заявление можно было тоже только во время очередной кормежки или если надзиратель по какому-либо другому поводу подходил к камере. Вызвать надзирателя не представлялось возможным.
Время арестанты коротали или в пустых разговорах, или, замкнувшись в себе, раздумывали о своей горькой судьбе, пока сон не смыкал глаза, давая отдохнуть исстрадавшейся душе. Однако сон прерывался вызовом на допрос или громкими стенаниями заключенного, запираемого в карцер или возвращавшегося с допроса. Тогда спасительный сон бежал от арестанта, и он снова ощущал кошмарную действительность своего положения, которое по нелепости и ужасу было страшнее самого кошмарного сна.
ДОПРОС
Допрос - понятие юридическое - процесс выяснения обстоятельств совершенного преступления или происшествия, процесс, служащий выяснению истины. Допрос служит выяснению степени вины подследственного в предъявленных ему обвинениях. Так мыслится допрос во всех странах с нормальным судопроизводством.
Допрос обвиняемого в ОГПУ велся всеми способами, в том числе и строжайше запрещенными во всех странах, с единственной целью вырвать у подследственного признание в инкриминируемом ему преступлении, сфабрикованном самим ОГПУ и никогда не совершавшемся самим подследственным. Поскольку ОГПУ совмещало функции полиции, следственного органа и суда, то есть ОГПУ и арестовывало, и вело следствие, и само выносило приговор, цель допроса заключалась в подведении кое-какой видимости законности в отношении арестованных, приговор которым был вынесен заранее, еще до их ареста, ареста хотя бы и невинных людей. Допрос в ОГПУ служил не выяснению истины, а ее затемнению.
«На допрос» - прокричал тюремщик, прибавляя мою фамилию, просунувшись в форточку двери камеры в следующую ночь после моего ареста. Я уже был разбужен вспыхнувшим в камере светом; одеваться не надо было, так как мы все спали одетыми; быстро подошел к двери. Тюремщик распахнул дверь и, пропустив меня вперед перед собой, повел меня по трапам и лестницам вниз, окриком давая мне направление вправо и влево. Руки я должен был держать за спиной, таковы были указания устава конвойной службы в отношении арестантов.
Наверное, ни один арестованный, ни в одной стране, никогда так не спешил на допрос, на этот первый допрос в моей жизни, как я. Я буквально летел на крыльях и так спешил, что несколько раз мой конвоир кричал мне: «не беги», «тише иди».
Я так спешил на допрос, думая, что сейчас же все выяснится, я буду выпушен на свободу и, хотя пешком, но к утру буду дома, и весь этот кошмар кончится. Нетерпение мое достигло предела, когда тюремщик посадил меня на скамейку в каком-то коридоре, а сам скрылся за дверью. Вскоре он появился и молча прошел мимо меня. Я не успел ничего спросить и еле сидел на месте. Затем он снова прошел мимо меня в ту же дверь, очень быстро вышел обратно и велел мне зайти.
За толстой, обитой мягким материалом, дверью была узкая комнатка со скамейкой и решетчатой дверью в следующую побольше, с маленьким окном, почти под потолком, с толстой решеткой между рамами. Боком к стене стоял письменный стол с настольной лампой. За столом сидел высокий средних лет шатен, в меховой телогрейке, в накинутой на плечи шинели с петлицами пограничника, на которых красовалась одна шпала, что соответствовало по армейским званиям командиру батальона. Удлиненное за счет челюстей лицо с большими, цвета старой слоновой кости, зубами врезалось мне в память на всю жизнь, а эти зубы... ох, эти зубы... сколько раз они снились мне потом!
Я подошел к столу с вежливым поклоном и полувопросительно спросил: «Товарищ следователь?». Он оторвался от перелистываемой им толстой папки с бумагами, посмотрел на меня и, углубляясь снова в чтение бумаг, сказал небрежно: «Садитесь». Я сел на стул у стенки у края стола, боком к следователю, как стоял стул, повернув голову к нему, весь напряженный в ожидании скорейшего выяснения недоразумения, из-за которого я был арестован. Следователь повернул абажур настольной лампы так, чтобы осветить мне лицо. Я немедленно повернул абажур так, чтоб свет упал на его лицо, а сам я остался в тени. Снисходительно улыбнувшись на мою бессознательную дерзость, следователь повернул абажур так, чтоб снова остаться в тени самому и не освещать больше моего лица: «У Вас болят глаза от света?», - добавил он. Я улыбнулся: «Конечно, неприятно». «Ну, - добавил он, - сделаем так, чтобы нам, обоим было приятно», - и снова стал перелистывать папку. Мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем он снова обратился ко мне. Мне не терпелось поскорее выяснить все и помочь ОГПУ распутать совершенное кем-то какое-то преступление, чтобы уполномоченные ОГПУ не опоздали арестовать истинного преступника, вместо которого, по своей наивности, по ошибке арестовали меня.
«Скажите, - наконец, начал вежливо устный допрос следователь, - с кем Вы дружили, кто Ваши знакомые из молодежи?». Не зная системы работы ОГПУ, когда опасность быть арестованными и заключенными в лагерь подвергаются все знакомые уже арестованного лица, с той же наивностью, искренне желая помочь следователю в распутывании воображаемого мною совершенного кем-то преступления, я самым добросовестным образом по очереди назвал фамилии всех членов нашей дружной компании в уездном городке Н., подробно сообщив их адреса, места работы или учебы, занятия их родителей. Своей болтовней я давал в руки ОГПУ всех своих друзей, совершенно не подозревая об этом. В последующие месяцы тюремного заключения, ознакомившись на многочисленных примерах поводов к аресту моих однокамерников, я с ужасом понял свою неосторожность, и в течение многих лет меня мучила совесть, пока через мать во время свиданий с ней не узнал постепенно, что никто из моих друзей не пострадал из-за меня, никто из них не был арестован непосредственно после меня, и они долгое время мне писали на мой домашний адрес, не подозревая о моей трагической судьбе.
На фамилии Бориса я сделал паузу, ожидая реакции следователя, но он по-прежнему оставался скучающим, слушая поток фамилий, услужливо преподносимых мною.
Когда я закончил, следователь начал перечислять совершенно не знакомые мне фамилии, перелистывая страницы папки и добавляя: «Давно ли знаете такого-то», «Как познакомились с таким-то», «Через кого познакомились с таким-то», «О чем с таким-то говорили», «Что такой-то Вам предлагал». На все в опросы я отвечал отрицательно, так как действительно не только не знал таких лиц, но даже и не слышал таких фамилий. После моего последнего отрицательного ответа следователь как-то вскользь бросил: «А они все Вас знают, зря отрицаете знакомство с ними, только ухудшаете свое и без того плохое положение». Я возразил: «Но мне действительно не знакомы эти фамилии». Следователь пошел еще на одну уловку: «Но Каменецкого (и он назвал еще три фамилии, которые я уже сейчас не помню) Вы должны были непременно знать, так как они же учились в городе Н. (и он назвал городок, из которого я переехал в Ленинград), где учились и Вы!».

И все же, как ни перебирал я в памяти, я не слышал никогда таких фамилий, в том числе и в городке Н., который был очень мал, и я должен был хотя бы слышать такие фамилии, если бы они действительно были в городке Н. Поэтому еще тверже и даже с возмущением, так как меня уже стали возмущать ложные утверждения следователя, и начала пропадать симпатия к этому «кристально-чистому чекисту», я ответил: «Да это тем более странно, потому что городок очень мал, и если бы они проживали в нем, то такие фамилии я должен был бы знать, а так все же я их не знаю и никогда не слышал». «Тем лучше для Вас», - насмешливо ответил следователь и сокрушенно покачал головой, сделав вид, что сожалеет о моем упорстве. Помолчав немного, следователь взял лист протокола допроса и на первой странице стал заполнять мои анкетные данные, спрашивая меня по тексту вопросов: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, занятие и имущественное положение до революции и после нее (хотя в революцию в 1917 году мне было только 12 лет), то же отца, матери, бабушек и дедушек и их местожительство, наличие родственников за границей и их местопребывание. Часто переспрашивал, но записывал все, что я отвечал на вопросы. По инерции он спросил, служил ли я у белых и в каком чине, но сам опомнился в нелепости таких вопросов, учтя мой возраст, прочеркнул соответствующе вопросы, а я, озадаченный такими вопросами, не нашелся что-либо на них ответить. Закончив писать, следователь поежился. Его явно знобило, глаза были воспаленные, он часто сморкался, да еще в спину ему дуло из окна, за которым и в эту ночь стоял тридцатипятиградусный мороз. Он был явно сильно простужен, и, конечно, ему хотелось скорее лечь дома в постель, а не возиться здесь со мной, с нелепым формальным допросом, вне зависимости от результатов которого и так уже была решена моя судьба, иначе не потребовалось бы меня и арестовывать.
Далее со стороны следователя последовал трюк. Может быть, никакого трюка и не было, словом, до сих пор поступок его мне не ясен. Он встал, попросил меня ничего не трогать, дела не читать и ушел из кабинета, оставив меня одного. Следили ли за мной тайно или не следили, тогда мне и в голову это не приходило. Я сидел неподвижно и не посмел дотронуться ни до чего, и не потому, что боялся, а в силу того, что был всегда послушным старшим, с детства воспитанный в уважении к законам и дисциплинам.
Вернулся следователь более добрым. Возможно, он, как большинство ночных работников его профессии, был наркоманом и выходил «зарядиться». Перевернув страничку протокола допроса, он энергично стал писать задаваемые им мне вопросы и мои ответы. Последние он записывал, сокрушенно покачивая головой, добавляя: «Запираетесь на свою голову» или «Не хотите честно признаться». Вопросы меня ошеломили, но вернули мне бодрое настроение, которое у меня уже начинало исчезать под влиянием настойчивости следователя о якобы имевшем место знакомстве с какими-то не известными мне, но очевидно опасными преступниками. Последнее обстоятельство начинало меня очень тревожить, и я впервые очень глубоко забеспокоился о своей участи. Но первый же вопрос: «Когда Вы вступили в социал-демократический союз молодежи?» вернул мне хорошее настроение вследствие всей его нелепости по отношению ко мне, так как я даже ничего не слышал о существовании такой организации. Так я и ответил следователю. Второй вопрос следователь формулировал так: «Кто втянул Вас в социал-демократический союз молодежи?». Считая этот вопрос еще более нелепым, в особенности после моего ответа на первый вопрос, я с улыбкой ответил: «Никто». Третий вопрос меня еще более развеселил: «Кто снабжал Вас социал-демократической литературой?». Посчитав следователя просто «неисправимым», я ответил снова кратко: «Никто». Он покорно записал и этот мой ответ, а затем, перестав записывать, снова пристал ко мне, почему я отрицаю свое знакомство с Каменецким и другими тремя, назвав опять их фамилии. Я ответил, что если он мне не верит, что я их действительно не знаю, пусть устраивает им со мной очную ставку. Мое предложение очень ему не понравилось, он грубо меня оборвал, сказав, что сам знает, что ему делать. Он дал мне подписать протокол допроса на каждой страничке внизу. Безграничное доверие к честности чекистов, к всеобъемлющей осведомленности органов ОГПУ у меня уже было подорвано этим допросом. Я начинал соображать, что им мало что известно, иначе не обвиняли бы они меня в несуществующем преступлении. Поэтому я внимательно перечитал весь протокол допроса, чтобы убедится то ли написано в нем следователем, что он и я говорили, прочеркнул оставшееся чистое место после моего последнего ответа и подписал. «Все?» - спросил я следователя, подразумевая его распоряжение отпустить меня домой. Я очень удивился, когда он мне ответил «Еще не все» и, спрятав в ящик стола протокол допроса, вынул из него другой лист бумаги и зачитал мне: «По имеющимся в распоряжении ПП ОГПУ при ЛВО (Полномочный представитель объединенного государственного политического управления при Ленинградском военном округе) материалам, далее следовала моя фамилия, имя, отчество, обвиняется по статье 58-й пунктам 8 и 11». Произнеся последние пункты, следователь вперился в меня, ожидая моей реакции на зачитанное им. Никакой реакции не последовало, потому что я просто не знал содержание статьи 58, не знал, какой опасности подвергается каждый, кому предъявлялась эта статья Уголовного Кодекса Российской Социалистической Федеративной Республики. Эта 58- я статья УГ РСФСР вошла в историю нашей страны как синоним ужаса, синоним несправедливости и террора правившей верхушки, возглавляемой Сталиным. По 58-й статье были уничтожены расстрелами, содержанием в лагерях смерти миллионы и миллионы людей, не только из так называемой интеллигентской прослойки, но и рабочие, и крестьяне, и даже старые большевики, известные своей революционной деятельностью. По 58-й статье были осуждены на жизнь или медленную смерть в концлагерях цвет народов нашей страны и испытанные кадры большевицкой партии. В 1937-39 годах, когда террор диктатуры Сталина принял особо широкий размах и потребовал десятки миллионов человеческих жизней, можно было подумать, что Сталин с исключительной жестокостью мстит всем тем, кто создал большевицкую советскую власть и всем тем, кто допустил создание ее своим пассивным отношением, не выступил с оружием в руках против установления власти большевицких советов, тем, кто по классовой своей принадлежности должен был это сделать, но не сделал, спасая свою шкуру, оставшись нейтральным в гражданской войне или, сделавшись «попутчиками», помогали большевикам. Наряду со старыми большевиками были расстреляны остатки офицерского корпуса Русской армии, верой и правдой служивших в Красной Армии, которая только благодаря им, по признанию Троцкого, могла одержать победу над армиями антибольшевицких генералов; старые интеллигенты, восстановившие промышленность после гражданской войны; крестьяне, поделившие помещичью землю. Вряд ли Ленин, который был инициатором и автором 58-й статьи Уголовного корпуса, направленной против всех антибольшевиков, о чем свидетельствовал расстрелянный в 1938 году Верховный прокурор советского государства Сольц, мог предположить, что по этой самой статье будут обвинять всех его соратников и вообще подавляющее большинство членов созданной им партии, и мерами наказания, предусмотренными им самим по этой статье, уничтожат не только старые кадры партии, но и всех, способствовавших укреплению большевицкого государства, его собственной и всех его преемников диктатуры.
Следователя я попросил любезно объяснить мне, что означает 58-я статья Уголовного кодекса и названные им пункты ее. Следователь посмотрел на меня, он явно не верил, что я не знаю содержание 58 статьи, и поэтому он не знал, как реагировать на мой вопрос. Маска, маска следователя, отработанная им на многих допросах, на мгновение соскочила с него, на меня глянул растерявшийся человек, зубы его еще более обнажились. Тотчас же он взял себя в руки и объяснил, что я обвиняюсь в участии в террористической организации. Пункт 11, пояснил он, означает контрреволюционную организацию, 8-й - цель организации - совершение террористических актов против представителей советской власти.
Неподдельный ужас охватил меня. Хотя я был невиновен, но я понял, что доказать свою невиновность не могу. Я понял, что мне грозит расстрел. На ум пришли как-то брошенные на уроке слова нашего преподавателя русского языка, весьма разностороннего педагога: «Вся история доказывает, что нападение на идеи, на власть никогда не преследовалась с такой жестокостью, как нападение на личность, осуществлявшую власть». Я потерял самообладание и как-то наивно сказал: «Вы, конечно, мне не поверите, но даю Вам честное слово, что ни в какой организации я не участвовал». Следователь пожал плечами и сказал: «подпишите», протянув мне бумагу с текстом зачитанного мне обвинения. Я наотрез отказался и сказал: «Я не виновен». Следователь объяснил: «Вы подписываетесь только в том, что Вам предъявлено обвинение, Вы можете соглашаться с ним или нет, это Ваше дело». Я был всегда дисциплинирован, и я подписал, вписав перед своей подписью: «Своей подписью подтверждаю факт предъявленного мне обвинения, но я невиновен». Следователь скривился в улыбке, читая, что я пишу, промокнул мою подпись и поспешно спрятал бумагу в стол. Я не знал тогда, что как бы я ни написал, все равно приговор мне уже вынесен еще до моего ареста, как только я каким-то образом попал в поле зрения органов ОГПУ, а все допросы были лишь пустой формальностью. С объявшим меня ужасом, как мыльный пузырь, лопнуло у меня почтение к ОГПУ, расположение к следователю, с которым я шел на допрос. Неожиданно для себя я почувствовал, что ужас сменяется озлоблением и против следователя, и против советской власти в лице ее органа ОГПУ. Озлобление толкнуло меня самого перейти в наступление на следователя. Я наивно принял логический ход доказательства абсурдности моего обвинения, точно логика руководила действиями ОГПУ! Я был достаточно марксистски подкован, я хорошо знал историю революционного движения, и я спросил следователя: «Как это у Вас получается, что социал-демократический союз обвиняется как террористическая организация, когда и школьники знают, что социал-демократы, как марксисты, всегда отвергают индивидуальный террор, поскольку отдельные личности не влияют на ход истории?». Следователь с любопытством на меня взглянул, ничего не ответил, стал убирать дело в ящик стола. Я настаивал на ответе. Он встал и нажал кнопку звонка: «Сейчас пора спать, мы с Вами еще будем встречаться и поговорим об этом». Вошел тюремщик: «Пойдем»,- сказал он мне. «Как Ваша фамилия?» - спросил я следователя. Это ему окончательно не понравилось, и он с явной злостью спросил: «А это еще Вам зачем?». «А если я захочу вам что-нибудь написать» - схитрил я. «Степанов»*,- процедил он нехотя, сквозь зубы. «Кристально-чистый» чекист солгал, его фамилия не Степанов. Это Борисов Дмитрий Иванович, 1898 года рождения, уроженец деревни Большой Двор Богородского уезда Московской губернии, из рабочих, образование среднее, с 1924 по 1929 год проходил службу в КРО Псковского горотдела ПП ОГПУ ЛВО, ДВК, МВО.
Подавленный, отчаявшийся в возвращении на свободу, я плелся в камеру, обманутый во всех надеждах, потерявший веру в справедливость. Впервые в жизни мне не хотелось жить, хотелось лечь и умереть, уйти из этого страшного мира кошмаров наяву.
Второй допрос повторился неожиданно быстро за первым и во внеурочное для допросов время, в одиннадцать часов утра. На этот раз я по тем же спускам и переходам шел с тяжелым сердцем, как на мучительную смерть. Несколько отвлекло меня от собственных мыслей, но еще более заставив сжаться сердце, то обстоятельство, что неожиданно после охраняемой вооруженным тюремщиком решетчатой двери, мы с моим конвоиром попали в светлый коридор, хотя и с решетками на окнах, а затем последний повел меня по шикарной лестнице и широкому коридору третьего этажа с паркетным полом и ковровой дорожкой. И неурочное время, и долгий путь, и шикарная обстановка навели меня на мысль, что ведут меня на что-то худшее, чем допрос, лучшего я уже не ожидал.
Остановились мы у большой двухстворчатой двери, оббитой черной клеенкой с небольшой надписью «Начальник КРО» (контрразведывательный отдел). Я совсем упал духом; «Еще шпионаж пришьют», - подумал я, невольно усвоив уже тюремный жаргон («пришьют» - значит обвинят на тюремной жаргоне). Я всегда был способным учеником: урок, преподанный мне ночью на допросе следователем, обвинившим меня в террористической деятельности, не пропал даром. Если в моем поведении, я твердо знал, не было ничего, что хоть косвенно меня можно было бы обвинить в террористической деятельности, то при нравах, царивших в ОГПУ, с легкостью можно было обвинить в шпионаже, так как кое-какую зацепку сделать можно было бы, о чем я расскажу ниже.
Конвоир постучал в дверь и на отзыв из кабинета ввел меня туда. Большой письменный стол с большим черного мрамора письменным прибором стоял напротив двери, ближе к задней стенке. На двух больших окнах были спущены темно-красные бархатные портьеры. На весь пол был разостлан пушистый ковер. Мягкие кресла и стулья дополняли убранство кабинета с темно-красными обоями. Посредине горела большая люстра.
За столом в кресле сидел круглолицый, довольно полный брюнет в черной косоворотке, с курчавыми волосами, как я потом узнал, начальник КРО, еврей по национальности, Арнольдов **.
Арнольдов-Кессельман Арнольд Аркадьевич, 1893 года рождения, уроженец Одессы, образование низшее, в органах безопасности с 1918 года. До 1922 года проходил службу в Саратовской, Одесской, Херсонской, Крымской ЧК. С 1923 по 1924 занимал ответственные должности ГПУ-ОГПУ Крыма, Северного края и Урала. В 1928 году назначен на должность начальника 5-го отдела КРО ПП ОГПУ в ЛВО, в 1932 году – зам. Начальника ОО МВО, в 1935 – помощника начальника УНКВД МО и т.д. 15 августа 1937 года арестован НКВД ПО ДВК в Хабаровске по обвинению в шпионаже в пользу иностранных государств. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 10 марта 1939 года осужден к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Не реабилитирован.
Рядом с ним на стуле сидел с мало запоминающимся лицом, с гладко зачесанными назад волосами, некто в пиджаке и черной косоворотке. Слева у стола с толстой, наполовину открытой папкой, стоял Степанов в военной гимнастерке с петлицами пограничника.
Я остановился посредине комнаты, не приближаясь к столу, конвоир вышел. Арнольдов, обратившись ко мне, в вопросительной форме назвал мою фамилию, но сесть не пригласил. Я подтвердил, что это именно я и есть, и Арнольдов стал меня допрашивать, ничего не записывая. Полились снова те же вопросы о социал-демократическом союзе молодежи, о незнакомых мне лицах, о которых уже спрашивал Степанов, но на этот раз в меньшем количестве: очевидно, Арнольдов на память всех не запомнил. Я снова говорил правду, что никого из них не знал, ни в какой организации не состоял и о таковой даже не слышал. В заключение Арнольдов задал мне вопрос: «Какой последний чин имел Ваш отец?». «Полковник»,- ответил я. Арнольдов откинулся на спинку кресла и, повернув голову в сторону Степанова, небрежно махнул рукой. Жест Арнольдова можно было истолковать дальше, чем непосредственные действия Степанова, который тотчас же вывел меня в коридор и передал конвоиру, отведшему меня обратно в камеру. Скорее инстинктом, чем размышлением я воспринял этот жест Арнольдова как решение моей участи, почувствовав всю зависимость своей дальнейшей судьбы именно от Арнольдова как начальника КРО, потому что и Степанов, и арестовавшие меня уполномоченные были лишь всего пешками в его руках, хотя тоже творили свою грязную «работу». Впечатление тех минут я мог проверить и убедиться в их правильности спустя двадцать восемь с лишним лет, когда, по недосмотру секретарши Военного трибунала Ленинградского военного округа при моей реабилитации я был оставлен один в комнате перед столом, на котором лежало то самое «дело», с которым стоял Степанов в кабинете у Арнольдова. В течение нескольких минут я бегло его просмотрел и наткнулся на узенькую бумажку за подписью Арнольдова, приговорившего меня единолично к заключению в концлагерь сроком на десять лет.
Последний вопрос Арнольдова об отце прояснил для меня многое. Я понял, что мнимое мое участие в какой-то террористической организации является лишь ширмой для оформления моего ареста и последующего приговора. Истинной же причиной постигшей меня трагедии является мое происхождение - я обвинялся в том, что отец у меня был полковник Русской армии, да еще исчезнувший в недрах ЧК. Имей я другого отца, я не был бы виноват. Таким образом, я сделал вывод, ничто от меня лично больше не зависит, на освобождение надеяться нельзя, и надо быть готовым ко всему, вплоть до расстрела. На малый срок заключения я не мог надеяться, исходя из того, что тогда бы меня не причислили к террористической организации, за участие в которой применяли только высшую меру «социальной защиты» - расстрел и только как исключение - десять лет содержания в концлагере, что тоже являлось смертной казнью, только в рассрочку.
На допрос через несколько дней, как я узнал потом, Степанов вызывал и мою мать, тщательно допытываясь о моих действительных друзьях и знакомых из молодежи, не только по провинции, но и по Ленинграду. Он также перечислял ей те же фамилии, о которых и меня спрашивал, причем, поскольку они и матери не были знакомы, он тоже получил и от нее отрицательный ответ. Свидания матери со мной он не дал, но передачу мне разрешил. Кроме того, Степанов вернул ей отобранные при обыске у нашей семьи серебряные монеты из коллекции отца и американские доллары, всего на сумму около четырехсот рублей.
Возврат этих денег логически не доступен пониманию, так как, во-первых, тогда как раз началась новая волна изъятия ценностей у населения «для строительства социализма», то есть индустриализации страны, во-вторых, это была единственная материальная находка при обыске, вещественное доказательство моей «связи с международной буржуазией», что преследовалось по пункту 4-у 58-й статьи и каралось вплоть до расстрела. Кроме того, при таком высоком мастерстве создавать несуществующие «дела» легко можно было меня обвинить еще и в шпионаже (дескать, докажите, обвиняемый, что не за шпионскую деятельность Вы получили доллары), что каралось по пункту 6-му той же 58-й статьи расстрелом.
Очевидно, на решение возвратить деньги и не обосновывать факта их получения мною из-за границы повлияло происхождение этих денег, которое было установлено ОГПУ уже после моего ареста. Эти доллары были получены на мое имя из Франции от душеприказчиков младшей сестры моей бабушки после ее смерти и ликвидации ее имущества в городе Ницце. Само по себе это не остановило бы ОГПУ в предъявлении мне вздорного обвинения в шпионаже и в связи с международной буржуазией, то есть по пунктам 4 и 6 58-й статьи. Но ... Но эти деньги составляли наследство эмигрантки из дореволюционной России, эмигрантки, тесно связанной через младшую сестру с большевицкой эмиграцией. Младшая сестра моей бабушки была закадычной подругой таких известных большевичек, как Коллонтай и Стасова, к тому же, большевичек сталинского толка.
«Работа» в органах ОГПУ могла успешно проводиться лишь жестокими людьми, какими в подавляющем большинстве и были все эти уполномоченные, начальники отделений и отделов и прочие чины всей иерархии ОГПУ. А жестокие люди всегда трусы и свою безграничную власть могли показывать только на беззащитных людях. По-видимому, вот эта трусость, «как бы чего не вышло» и заставила вернуть деньги моей матери, отказаться от удобного случая пристегнуть мне шпионаж, опасаясь, как бы влиятельные Коллонтай и Стасова не вступились за честь умершей сестры своей подруги, а тем самым и сорвали бы обвинение против меня и содействовали бы моему освобождению.
С обвинением же меня в терроре дело обстояло проще, так как никто не стал бы докапываться до истины, а прежде всего, испугался бы за свою жизнь, которая всегда дороже любому правителю, чем жизнь государства. Хотя «дело» мое казалось и конченным, все же допросам я подвергался и в дальнейшем.
НАС БЫЛО ВОСЕМЬ…
Нас было восемь, не считая четырех конвоиров, везших нас в Москву пассажирским поездом в обыкновенном жестком вагоне. Через неделю после моего ареста, в день Красной Армии, когда, более не тревожимый допросами, я стал уже привыкать к тюремному режиму (а к чему только не привыкает человек!), как-то уже сроднился со своими однокамерниками как с товарищами по несчастью, перед ужином в распахнувшуюся форточку неожиданно прогремел приказ тюремщика собраться мне с вещами. Час для какой-либо перемены в судьбе арестанта был неурочный. Долго сидящий в нашей камере извозчик уже точно знал, в какие часы берут на расстрел, отправляют по этапу, вызывают на допросы и даже выпускают на свободу, но и он был озадачен в отношении моей дальнейшей судьбы. Какой еще «сюрприз» приготовили мне? Человеку всегда хочется верить в лучшее, и когда я растерянно заматывал в одеяло подушку, складывал в сетку продовольствие из единственной полученной мною передачи от матери, я охотно верил моим милым друзьям, которые наперебой старались меня успокоить тем, что я иду на свободу, верил вопреки здравому смыслу, подсказывающему на основе приобретенного уже мною опыта на допросах, об иллюзорности такой надежды.
Минут через десять дверь камеры распахнулась: «Выходи», - сказал тюремщик. Наскоро попрощавшись с однокамерниками, я вышел из камеры и, ведомый тюремщиком по многочисленным балконам, трапам, лестницам, переходам и коридорам, пройдя бесчисленные двери, очутился в тюремной канцелярии. Последний раз мелькнул слабый луч надежды на свободу, когда мне там дали расписаться в бумажке. Но тут же он погас, как только взглянул я на текст: «По определению ПП ОГПУ при ЛВО (далее следовала моя фамилия, имя, отчество) направляется для доследования в распоряжение ОГПУ». Я покорно расписался, что мне объявлено о моей пересылке в Москву, в душе удивляясь скрупулезности органов ОГПУ, с какой формальностью обставлялась «законность» производства следствия и содержания подследственных, в то время как самого состава преступления не имелось, а следовательно, и арест, и следствие, и заранее вынесенный приговор без суда сами по себе были вопиющими беззакониями. Тут же мне выдали на дорогу «сухой паек» в виде буханки хлеба и одной селедки, и тюремщик снова повел меня по коридорам, пока мы с ним не попали в просторный короткий коридор, где он мне велел сесть на скамью, а сам ушел.

Яковлев Владимир Всеволодович
Я был не первым сюда приведен.
На скамейках сидело уже несколько незнакомых мне молодых людей со скудными вещичками, одетых весьма разнообразно. Молодые люди, по-видимому, хорошо знали друг друга, пытаясь после разлуки обмолвиться парой слов, но каждый раз были резко прерываемы находившимися здесь же четырьмя уполномоченными ОГПУ, из которых троих я уже знал. Нарочно нельзя было придумать более нелепого парадокса для «преступника», каким я был в их глазах: знать своих палачей и не знать своих «однодельцев»; а что эти молодые люди и те, которых еще привели затем, были мои «однодельцы», члены той самой организации, к которой силились причислить меня следователи, я скоро убедился по фамилиям этих молодых людей.
Трое из «знакомых» были: два уполномоченных, арестовавших меня, третий - следователь Степанов. Четвертый, также в форме ОГПУ с двумя шпалами в петлицах, еврей невысокого роста, держал под мышкой не закрывавшийся от вложенной в него пухлой папки портфель. Очевидно, он и вез наше «дело», дело о террористической организации социал-демократического союза молодежи. Еврей решил со мной познакомиться и, подойдя ко мне, назвал в утвердительном тоне городок Нежин, из которого я приехал в Ленинград. Я подтвердил, сказав, что городок Нежин хороший. «Грязный очень», - сказал он мне в ответ, - «Я из П-ки», - и он назвал деревню, расположенную к югу от городка. Несмотря на то, что он был намного старше меня, а порицать старших я не привык, я все же ясно ощутил его зазнайство, определяющее всех работников ОГПУ, вследствие неограниченной их власти над народом. Я мысленно ему ответил: «Давно ты выбрался из действительно грязной деревушки и шагаешь по чистым торцам большого города, что милый моему сердцу городишко уже кажется тебе грязным».
Особняком держался высокий, лет на пятнадцать старше всей молодежи, горбоносый брюнет с прекрасной офицерской выправкой. Он был одет, несмотря на зиму, в модное широкое осеннее пальто и шляпу. Как я несколько позже узнал, носил он звучную фамилию Троцкий, как-то не вязавшуюся в нашем представлении со званием гвардейского офицера, каким он был на самом деле. Уполномоченный еврей, отойдя от меня, пристал к нему: «Вы бывший гвардейский офицер?». Надо было видеть, как Троцкий с высоты своего роста презрительно посмотрел на плюгавого чекиста и с гордостью, даже с вызовом, ответил: «Да, я гвардейский офицер». Он явно умышленно опустил слово «бывший», дав понять еврею, что не ему разжаловать его из офицеров. Не знаю, понял ли тот, но он быстро отошел от Троцкого, умевшего играть роль, как киноактер, снимавшийся в период НЭПа во многих кинофильмах, и больше ни к кому не приставал.

Троцкий-Сенютович Сергей Сергеевич
Постепенно в коридор приводили еще и еще молодых людей. Все они были знакомы друг с другом и радостно бросались друг другу навстречу. Привели и молодого инженера Васькова, которого, как он успел сообщить, только что взяли прямо с завода. По своему задору и возбужденности он резко отличался от всей остальной молодежи, уже измотанной допросами и моральными пытками раздумий о своей судьбе в дни и ночи сидения в камерах.

Васьков Юрий Борисович
Я подсчитал, нас было семь, и в этот момент ввели девицу-еврейку. Арест лица женского пола был для меня совершенной новостью.

Хавина Любовь Хаимовна
Уполномоченные вывели нас на тюремный двор и посадили в черного ворона. Из закрытого кузова мы не могли видеть, куда нас везут, но дорога прошла незаметно в оживленных разговорах между молодежью. Только гвардейский офицер и я молчали, так как ни он, ни я никого не знали из этой дружной шестерки. Подкатили нас к высокой платформе со двора Московского вокзала и повели по перрону к поезду, в который еще не началась посадка. Во время прохода по платформе Степанов резко оборвал двух молодых людей, пытавшихся продолжать разговор, назвав их по фамилиям. Это были Воробьев и Холопцев. Да это были те два из многих других, о которых меня спрашивали на допросах, и я с любопытством посмотрел на них.

Холопцев Виктор Александрович
Вагон был обыкновенный жесткий, какие ходят теперь на пригородных линиях в захолустье. Нас разместили в двух отделениях конца вагона, отгороженных от остального вагона перегородкой с дверью. Мы, арестанты, заняли основные места, конвоиры, по двое, сели на боковых местах, зорко наблюдая за нами, прерывая разговоры молодых людей, если они касались обстоятельств ареста или сути обвинения. Ночью уполномоченные спали по очереди по двое. В туалет нас водили поодиночке, запрещая закрывать дверь в туалет. Не знаю, как они поступали с девушкой.
Постепенно познакомившись с моими спутниками, я узнал, что трое из них были студентами-первокурсниками, Холопцев учился в университете на факультете языка и материальной культуры, еврей Бычков - на экономическом факультете Политехнического института, девица - в институте физкультуры.

Бычков Авраам Яковлевич
Воробьев не мог поступить в высшее учебное заведение и работал кочегаром в котельной какого-то жилого дома. Он был арестован прямо в кочегарке и имел очень грязный вид. К тому же заломленная назад бывшая серая папаха и выпущенный из-под нее большой чуб курчавых черных волос придавали ему совсем зловещий вид и невольно настораживали меня. В целом Воробьев походил на тех личностей, проживавших нелегально, из которых, по тогдашним моим воззрениям, наиболее охотно вербуются «иностранными агентами» всевозможные диверсанты, террористы. На самом деле Воробьев был настоящий теленок по натуре и совершенно неопытное дитя.

Воробьев Николай Григорьевич
Но особое внимание привлекал юноша с очень энергичным лицом, сын полковника. Все молодые люди относились к нему с громадной любовью и как-то во всем подчинялись ему, выказывая ему глубокое уважение. Чувствовалось, что он был главарь компании и в будущем мог бы быть и более заметным вожаком масс. К сожалению, я не помню фамилии этого обаятельного юноши, которого я видел только раз в вагоне, и жизнь которого была оборвана несколько месяцев спустя палачами, когда всем нам формально вынесли приговор.

Гофман Олег Константинович
Лежа на верхнем месте, чувствуя себя чужим среди этой компании, я вслушивался в их разговоры-воспоминания и из обрывков их фраз, частично заглушаемых стуком колес, началась виться нить, путеводная нить для меня, приведшая, как мне казалось, к пониманию причины моего ареста. Все они были из Чернигова, в разное время приехали в Ленинград. Большинство из них - прямо к вступительным экзаменам осенью 1928 года, Васьков несколько ранее, а Троцкий после окончания гимназии, еще до революции. Очевидно, решил я, «дело» связано с Черниговом, и ленинградское ГПУ решило арестовать всех приехавших в Ленинград из Чернигова, чтоб проверить, и затем невиновных в участии в контрреволюционной организации отпустить на свободу. Городок Н. был в Черниговской области, лился поток моих размышлений, а потому и меня арестовали как черниговца, а поскольку я ни в чем не виновен, то в Москве разберутся, и меня выпустят. С такими радужными мечтами я тотчас же крепко уснул и проспал спокойно всю ночь.
Путешествие как-то сближает людей. Конвоиры выглядели как-то добрее, обстановка после ночи стала непринужденнее. Я встал у окна между боковыми местами, совсем рядом с сидевшим конвоиром, и с удовольствием смотрел на природу, на пробегавшие мимо столбы телеграфно-телефонной связи. Сделанное мною перед сном открытие о причине моего ареста вселяло в меня бодрость, и я, смотря на столбы, думал, как по этой самой дороге с триумфом в самом скором времени я буду ехать в обратном направлении домой уже свободным, и эти самые столбы будут бежать мимо меня в обратном порядке. Да, эти столбы мелькали мимо меня и в обратном порядке, да ехал я не свободным, за решеткой, в еще худших условиях.
В Москве конвоиры высадили нас из вагона только тогда, когда по перрону прошли все пассажиры, и отвели в вокзальное ТОГПУ (транспортный отдел ГПУ). В комнате нас загнали за барьер, и Степанов стал звонить по телефону, вызывая машину. Прождали мы около часа, в течение которого дежурный с четырьмя треугольниками в петлицах ворчал о запоздании смены, не стесняясь бывшей с нами девицы, нецензурными словами, срывая свою озлобленность по этому поводу, бросая на нас сердитые взгляды. Сидеть было не на чем. Все мы сгрудились вместе и молчали. Подъем от встречи у молодежи прошел, каждый думал о своей дальнейшей судьбе, но очевидно, никто не предполагал, что видит того обаятельного юношу в последний раз.
Пришедшая за нами машина оказалась обыкновенным открытым грузовиком. Все мы двенадцать, как дружная компания, залезли в кузов. Никто со стороны не мог бы и подумать, что здесь были везущие и принудительно везомые.
В Москве я никогда не бывал, а поэтому не мог себе представить, куда нас везут. Машина остановилась как-то внезапно на бывшей Лубянской, теперь Дзержинской площади у хорошо известного понаслышке десяткам миллионов людей, а по собственному опыту лишь немногим, здания ОГПУ, так называемого «Лубянка два». С машины ссадили обаятельного юношу, Воробьева и меня, и старший уполномоченный, арестовавший меня, взяв у еврея уполномоченного портфель, повел нас троих в здание комендатуры ОГПУ. Остальных пятерых, как я потом узнал, увезли в Бутырскую тюрьму. Надо было видеть, сколько нежности, любви вкладывали в свои взгляды, обращенные друг к другу, те, которых увозили и которых ссадили. Безмолвное прощание было во много раз трогательнее, чем самые бурные объятия и слова. А прощаться с нами троими надо было навсегда, так как нас привезли туда, откуда только единицы выходили живыми, и то на этап для отправки в концлагерь, от остальных не оставалось даже трупов.
ВНУТРЕННЯЯ ТЮРЬМА
«Внутренняя тюрьма для особо важных государственных преступников» - прочел я вывеску над дверью, ведущей из узкого дворика в шестиэтажное здание, в которую повел меня конвоир из комендатуры ОГПУ. Дворик был обставлен шестиэтажными зданиями квартала на Лубянской площади, полностью занятого ОГПУ. О величине квартала можно было судить по тому, что, кроме известной комендатуры ОГПУ под № 2, была пользовавшаяся не менее печальной известностью «Лубянка 14», сортировочная тюрьма ОГПУ, под названием «собачник», куда свозились арестованные по ночам москвичи перед их распределением по тюрьмам.
Очевидно, у меня тогда все же были крепкие нервы, потому что я не потерял сознания, увидев над дверью страшную надпись, из текста которой я заключил, что, по мнению ОГПУ, я особо важный преступник. Конвоир провел меня по лестнице на шестой этаж в «приемную» тюрьмы. Лестница ничем не отличалась от лестницы в жилом доме, за исключением пролетов, тщательно затянутых мелкой сеткой из металла. Впоследствии я узнал, что эта мера предосторожности была предпринята против самоубийств арестантов, которые, доведенные до отчаяния допросами, чтоб покончить с собой бросались в пролеты и разбивались насмерть. Таким способом закончил свою жизнь непревзойденный террорист социалист-революционер Савинков в середине 20-х годов после его возвращения на родину. Но некоторые утверждали, что с железной волей, какая была у Савинкова, он не пошел бы на самоубийство, а что его столкнули в пролет, чтобы казнить без шума, который мог бы повредить престижу Советского государства. Если это даже и не так, и Савинков пошел на самоубийство, то это лишний раз подчеркивает, какие мучения испытывал арестант в этой тюрьме: железная воля Савинкова не спасла его от отчаяния.
С каждой лестничной площадки внутрь здания вели три оббитые железом двери с маленьким окошечком с решеткой. На каждой площадке дежурили три вооруженных наганами тюремщика с одним квадратиком в петлице, что по армейским званиям соответствовало командиру взвода. Вообще в этой тюрьме для особо важных государственных преступников я не видел ни одного тюремщика без комсоставских знаков различия. Пищу подавал с одним квадратиком, на допрос водил с одним квадратиком, дежурный по коридору носил три квадратика. При моем проходе по лестнице на каждой площадке дежурные становились спиной, каждый к своей двери, и головой прижимались к окошечку в двери, чтоб через него я не мог бы увидеть в коридоре кого- либо из случайно оказавшихся там в это время арестантов, или наоборот, он бы не увидел меня. При случайной встрече на лестнице двух ведомых арестантов, одного из них плотно ставили к стенке, лицом в нее. Изоляция арестантов не только от внешнего мира, но и друг от друга была доведена здесь до предела.
В «приемной» тюремщик с тремя квадратиками в петлицах подверг меня и мои вещи тщательному обыску. Я должен был раздеться догола, и вся моя одежда была тщательно просмотрена с подпарыванием подкладки. Яйца, которые я привез с собой из домашней передачи, были расколоты пополам, селедка из сухого пайка, выданного в ДПЗ, и хлеб нарезаны на мелкие ломтики. Не удовлетворившись этим, тюремщик, надев на руку резиновую перчатку, пальцем осмотрел мне задний проход, велел закатить член. Затем осмотрел мне рот, нос и слуховые проходы. Пошарив рукой в волосах, он окончательно успокоился, что никаких записок кому-нибудь в тюрьму я не несу, и велел мне одеваться.
С шестого этажа другой тюремщик провел меня по той же лестнице на второй этаж и по коридору в общую камеру. Дверь за мной захлопнулась, застучал засов снаружи, а я так и остался стоять у двери, изумленный тем, куда я попал. Если бы не решетки на двух больших окнах, закрытых доверху козырьками, пропускавшими очень слабый свет, я мог бы подумать, что попал в общий номер какой-нибудь очень приличной гостиницы. Комната, именно комната, а не тюремная камера, была размером примерно в пятьдесят квадратных метров с высоким потолком. Посередине стоял обеденный стол со скамейками. Над столом спускался зеленый абажур. По трем стенкам, с изголовьями к стенкам, стояли пятнадцать сетчатых кроватей с тюфяками, байковыми одеялами и белоснежным бельем. Проходы между кроватями были широкими, у стенок между кроватями стояли тумбочки. Пол паркетный, хорошо начищенный. Контраст обстановки со строгостью режима был изумительный.
Мое вторжение вызвало недоумение и переполох у находившихся в камере одиннадцати арестантов. Причиной переполоха было неурочное для попадания в камеру арестанта время. Было около двенадцати часов дня, а не ночи, когда обычно попадали новые жертвы. Староста камеры, профессор Московского института железнодорожного транспорта, указал мне на свободную кровать, а бывший секретарь Верховного Суда Гришин, духовно явно очень нечистоплотный тип, поспешил мне заметить, что у них так в камере заведено, что все передачи передаются старосте для коллективного пользования арестантов. Он с вожделением косился на мой узелок с продуктами и был явно разочарован, когда я тотчас же передал продукты старосте, и он увидел весьма скромный вклад, сделанный мной. В дальнейшем от этого я только выиграл, так как меня держали без передач, и на мою долю приходилось много вкусных вещей из передач, получаемых профессорско-преподавательским составом сидевших в этой камере. Начались расспросы, как и откуда, и почему я угодил в неурочное время к ним в камеру. Объяснив все, я не мог, естественно, удовлетворить любопытство других, за что я арестован. Я указал только статью и пункты, по которым мне предъявлено обвинение. Услышав их, староста стал серьезен, посмотрел на меня с тревогой, отлично поняв по одному моему внешнему виду всю вздорность и вместе с тем опасность для меня такого обвинения. После первой фразы, сказанной мной в ответ обыкновенным голосом, на меня все зашикали, и я познакомился с одной из деталей строгости режима этой тюрьмы. Разговаривать можно было только в вполголоса и то только так, чтобы не услышал дежурящий в коридоре тюремщик, который назывался арестантами в насмешку «мент», сокращенно от слова ментор-наставник. Если до уха мента доносился звук голоса из камеры, тотчас же раздавался негромкий стук в дверь, открывался волчок, и мент вполголоса говорил «потише». Вполголоса мент приглашал и на оправку, и на допрос. В тюрьме стояла могильная тишина, в камеру не проникало ни единого звука. Это было одно из воздействий на психику подследственных арестантов. Только по пятницам ночью абсолютная тишина нарушалась резким треском заведенного во дворе мотоцикла. Осведомленные старожилы камеры говорили, что это делается для заглушения выстрелов на расстреле приговоренных. Действительно, в пятницу по вечерам в шестом этаже здания, расположенного по другую сторону двора, ярко освещались большие окна зала заседаний Коллегии ОГПУ, в то время как в остальные дни недели они были мрачны. Это раз в неделю, по пятницам, заседала Коллегия ОГПУ, не видя в глаза осуждаемых, штамповала оптом заранее вынесенные приговоры начальниками отделений или просто следователями жертвам ОГПУ, приговоры, которые именовались вынесенными в «судебном заседании» коллегии ОГПУ и которые тотчас же приводились в исполнение. А «утверждение» приговоров ВЦИКом производилось так же формально, уже когда жертв не было в живых. Суровость режима внутренней тюрьмы заключалась и в том, что арестантам не давались прогулки, а многие сидели больше года под следствием, лишенные свежего воздуха. Не давались газеты, книги, бумага. Даже полагавшиеся папиросы давались россыпью, а коробки тут же уносил мент. Запрещались все настольные игры, даже шахматы. Последние, самодельные, из хлеба, в нашей камере были. Доска была расчерчена на нижней стороне табуретки, которую при игре поворачивали на кровать, но играли так, чтоб в волчок не мог подсмотреть мент. Во время периодических обысков фигурки отбирались, но их делали снова.
Кроме человеческой обстановки камеры, контрастом к суровости режима также были питание арестантов и самый «сервис». Завтрак - горячее мясное блюдо и чаи. Кроме того, стакан чая каждый мог получить в любое время дня, стоило только тихонько постучать в дверь и попросить дежурного мента. Пищу подавал мент с одним квадратиком в петлице, надевавший для этого белоснежную куртку, как официант. Утром после вывода камеры на оправку он на подносе вносил нарезанный ломтиками черный и белый хлеб на металлической тарелке на всех и рафинад и папиросы в пачках, по количеству арестантов в камере. Папирос полагалось по пачке на день и курящим, и некурящим. Раздав каждому сахар и папиросы, он тут же уносил с собой и укупорку от сахара, и коробки от папирос. Затем на подносе он приносил завтрак на металлических тарелках, которые расставлял по столу, около каждой тарелки клал ложку и ставил эмалированную кружку. Через некоторое время он приносил большой медный чайник с заваренным в нем чаем, собирал и уносил грязные тарелки и ложки, заменяя их чайными ложками. После перерыва он снова приходил с подносом и забирал грязные кружки, ложки и чайник. Таким же образом с интервалами мент в белоснежной куртке подавал нам обед из трех блюд, ужин из двух блюд и вечерний чай - все как в хорошем доме отдыха, даже с разносом по «палатам».
Кроме антипатичного взяточника Гришина, о котором я говорил выше, и который, как потом я узнал из газет, был осужден за получение взяток, не гнушаясь вымогательством взяток натурой от женщин, в камере не по 58-й статье сидел еще один жулик - еврей Черняк, директор «Мосдревтреста». Он портил мне много нервов, поскольку он был моим соседом по койке, а его часто таскали на допрос. В камере вспыхивал свет, входил в камеру мент и, поворачиваясь в нашу сторону, вполголоса спрашивал: «Кто здесь на Че»? Естественно, при повороте головы мента в нашу сторону я каждый раз готовился к вызову на допрос. «Черняк», - вскакивал мой упитанный лысый сосед. «На допрос»,- говорил мент и уводил Черняка с собой. Возвращался он с допроса очень взволнованный, ходил по камере, натыкаясь в темноте на кровати, затем подходил к двери, тихонько стучал и на вопрос мента «В чем дело?»- отвечал «Валерианки, только поменьше воды». Мент приносил ему просимое, он выпивал и ложился спать, а через полчаса начиналось все снова. Из сбивчивых его рассказов можно было понять, что он «загнал» партию добротного леса «налево», а военному ведомству поставил гнилой. Так как он обвинялся не по 58-й статье, следователь, не имея, очевидно, веских улик против него, добивался от него признания в совершенном им преступлении, а хитрый делец упорно отрицал, и его брали измором, таская каждый полчаса, каждую ночь, на допрос.
Кроме Гришина и Черняка, остальные девять человек сидели по обвинению в преступлениях по 58-й статье. Из них за действительный шпионаж сидел один поляк, больной туберкулезом, ожидавший расстрела. Он не скрывал своей «профессии», цинично заявляя, что плох тот шпион, который «работает» только на одну сторону. Находясь с заданиями советской разведки в Польше, он получал одновременно задания от польской разведки и шпионил здесь. Может быть, его «теория» и помогла ему продержаться неразоблаченным несколько дольше, но конец оказался один.
Особняком держался индус, довольно хорошо владевший русским языком. Он скрывал свою фамилию и просил его звать товарищ Махмуд. Он был членом Исполкома Коминтерна и обвинил, как он рассказал в минуту откровенности, Сталина в отказе поддержать революционную линию индийской компартии в период подъема революционного движения в 1927 году. Через несколько дней после моего прибытия во Внутреннюю тюрьму, индус хотел выразить протест содержанию его в тюрьме вместе с контрреволюционерами, подняв громкий стук в дверь. Тот час же появился рассерженный мент и схватил индуса, чтоб отвести в карцер. Вмешался староста, который с большим тактом объяснил менту, что это иностранец, не знавший порядка, хотел попросить валерианки. Профессорский вид старосты, его мягкий голос, к нашему удивлению, подействовал на мента, он отпустил индуса и ушел. Профессор стал уговаривать индуса: «Чего Вы добьетесь Вашим протестом, только здоровье свое подорвете», - и в конце не без ехидства добавил: «Вы, вероятно, забыли, что Вы не в английской тюрьме в Индии, а во Внутренней в Советском Союзе». Последнее, очевидно, наиболее подействовало на Махмуда, он как-то весь сжался, поблагодарил профессора и выпил принесенную валерианку.
Жизнерадостным, несмотря на то, что сидел под следствием уже одиннадцать месяцев, был поручик Русской армии и командир артиллерийского полка в запасе Красной Армии, окончивший Академию генерального штаба им. Фрунзе, инженер-механик по текстильному оборудованию Колли. Сидел он, по-видимому, больше за своего отца, генерала Русской армии, командира Лейб-гвардии Гусарского полка. Щеголяя, на высокой резиновой подметке, иностранными полуботинками, не виданными у нас, он вполголоса рассказывал всякие забавные случаи из своей жизни, сыпал анекдотами не политического характера, преимущественно из еврейской жизни, и охотно прочитал нам лекцию о способах изготовления тканей, когда пришла его очередь выступить перед нами в урочный час дня.
Фамилии остальных шести арестантов я не заполнил. Из них было три профессора, два путейца и один горняк - специалист по снарядам золоторудной промышленности. Остальные трое были научными сотрудниками московских исследовательских учреждений. Включая и Колли, они все обвинялись во вредительстве и сидели под следствием долго, некоторые уже более года, поэтому неудивительно, что за неделю моего пребывания в камере их ни разу никого не вызывали на допрос. Однако, профессора-горняка, хотя и не на допрос, однажды все же вызвали из камеры, и притом днем. После возвращения в камеру через несколько часов он рассказал своим коллегам, как он в присутствии следователя имел свидание с членом коллегии ВСНХ (Всесоюзный Совет Народного Хозяйства, который в то время был всеобъемлющим наркоматом всех отраслей промышленности), которому давал пояснения по своему проекту новой драги для добывания золота, который он разработал, сидя под следствием во Внутренней тюрьме. Этого его поступка я никак не мог понять. Его обвинили во вредительстве, он явно был невиновен, и он же продолжал плодотворно трудиться, отдавать свой ум, энергию, знания тем, кто напустил на него ОГПУ! Это было противно всякой логике, казалось мне, противоречило элементарному достоинству человека. А может быть, спрятав свое человеческое достоинство, он хотел купить за него жизнь или, по крайней мере, продлить себе жизнь до окончания проекта? Не знаю, достиг ли он своей цели, была ли ему какая-нибудь польза от его поступка? Он не понимал, что шло физическое истребление всей инженерии в стране, которые помешали бы Сталину, в силу своих знаний и опыта, в проведении бешеной гонки увеличения выпуска промышленной продукции за счет хищнической эксплуатации станкового парка промышленности. Возможно, профессора-горняка и не расстреляли, а, дав максимальный срок заключения, определили на работу в открывшееся в скором времени в этой же тюрьме ОПБ - Особое проектное бюро, пополнявшееся специально арестовывавшимся для работы в нем видными деятелями технических наук и промышленности. По мнению Сталина, натерпевшиеся страха под следствием, запуганные перспективой пребывания в концлагерях по приговору в течение долгого срока, эти ученые под непосредственным наблюдением и подгоняемые чекистами, с бо́льшей отдачей, чем на воле, с бо́льшей пользой для государства работали бы в ОПБ. Изобретение котла с давлением в 200 атмосфер, сделавшего переворот в энергетике, действительно было сделано не где-нибудь в институте, а в ОПБ ОГПУ талантливым профессором Рымзиным, который был обвинен как вождь контрреволюционной промышленной партии и которому расстрел был заменен десятью годами заключения.
День проходил томительно и нарушался только трехразовым питанием и выводом камеры в уборную утром и вечером. Арестанты, а ученые тем более, особенно страдали без чтения и от безделия. Изредка играли украдкой в самодельные шахматы. Перед ужином ежедневно кто-нибудь из ученых популярно вполголоса читал лекцию о достижениях науки и техники и по истории России, стоя в конце стола, а мы все садились к нему поближе, чтобы лучше слышать. До сих пор помню лекции об устройстве автомобиля, об экспансии в Сибирь. В четверг ученые волновались, получая от родных передачи. Остальные арестанты передач не получали и лакомились за счет ученых. У профессора-старосты вызывало тревогу за меня отсутствие передачи мне, так как по моим рассказам все знали, какая у меня самоотверженная мать; она должна была ехать за мной в Москву, чтоб поддержать меня. Только потом я узнал от нее, что мое пребывание во Внутренней тюрьме от нее тщательно скрывали, и, оббив пороги всех тюрем Москвы, она меня так и не нашла. Не помог ей и политический Красный Крест, организованный женой Максима Горького, Пешковой, для помощи политическим заключенным. ОГПУ и этой организации отказалось сообщить мое местопребывание, после чего мать решила, что я уже расстрелян.
Для арестантов было еще одно развлечение - это уборка общекоридорной уборной. На уборку по очереди из каждой камеры мент приглашал двух добровольцев. Поскольку это приглашение следовало раз в десять дней, можно было заключить, что на коридоре десять камер. Когда подошла очередь нашей камеры, инженер Колли сам пошел и пригласил меня, чтоб размяться. Без работы и моциона я тоже уже начинал чувствовать себя плохо и с удовольствием с ним поработал шваброй в уборной по полу и щетками в раковинах и унитазе. На тюремном языке приглашение на уборку уборной называлось «концессией».
На другой день после привоза меня во Внутреннюю тюрьму меня вызвал мент из камеры, соблюдая все по уставу: «Кто здесь на...» он назвал первую букву моей фамилии. Я назвал свою фамилию, и мент без объяснения повел меня сначала по коридору, потом по лестнице вниз и еще по какому-то коридору. В комнате, куда он меня ввел, мент с тремя квадратиками в петлицах сверил мои анкетные данные и велел сесть на стул перед фотоаппаратом. Над моей головой повесили номер из двузначных чисел и сфотографировали en face и в профиль. Был я в овчинном тулупе, из-за отсутствия гребешка вьющиеся волосы перепутались за две недели и сидели на голове копной. Впоследствии я видел эти два снимка в своем «деле» и пришел в ужас, каким разбойником я вышел на этих фотографиях, а они могли решить мою судьбу, так как высшие распорядители судеб подследственных и в глаза меня не видели. Отпечатков пальцев у меня не взяли.
Тот же мент отвел меня обратно в камеру, где все были удивлены вызовом меня в неурочное время. Долго сидевшие арестанты считали самым спокойным временем с 6 утра до 12 часов дня, когда никого не вызывали на допросы. Но и на допрос меня вызвали в неурочное время, часов около 11 утра, через неделю после привоза меня в Москву. Со всеми соблюдениями устава конвойной службы, вооруженный мент на этот раз вывел меня во двор через ту же самую дверь, где висела вывеска тюрьмы, провел через двор и по шикарной лестнице в здании, где помещался зал заседаний коллегии ОГПУ, доставил в большую комнату на четвертом этаже, с большими окнами без решеток, довольно тесно заставленную столами, за которыми сидели чины ОГПУ в форме и в гражданской одежде. Две машинистки неистово стучали на пишущих машинках под диктовку присевших к ним, очевидно, следователей. Мент усадил меня на стул у двери и ушел.
Проходя через двор, конвоировавший меня мент явно растерялся, так как плохо сработала диспетчерская служба, ведающая конвоированием арестантов. Навстречу нам попалась хорошо одетая дама, также ведомая ментом. Я был еще раз поражен, что репрессиям подвергается и прекрасный пол, а мент - что она и я, оба арестанты увидели друг друга, что было строжайше запрещено. Мент не знал, что делать: сначала он меня остановил, но ставить меня лицом к стене, чтоб я не видел дамы, нельзя было, так как это произошло на середине двора, и он, положив сзади на плечо мне руку, подталкивая, таким образом, меня, почти бегом ввел в дверь здания, куда мы направлялись, выругавшись при этом вполголоса нецензурно в адрес дамского конвоира.
На стуле я просидел довольно долго, пока из угла комнаты, у окна, меня не поманил рукой к себе с полным лицом и тучным телосложением, одетый в черную косоворотку и галифе с сапогами чернокудрый еврей. Я подошел к его столу, он указал мне на стул и стал ложкой болтать в стакане чай, одновременно уплетая с аппетитом один за другим бутерброды с зернистой икрой, которая тогда уже исчезла из магазинов, доступных всем. Прием завтрака не мешал ему просматривать листы пухлой папки, лежавшей у него на столе. Для перелистывания он оставлял ложечку в стакане и затем снова мешал в стакане и отпивал из него глотки чая. Покончив с бутербродами и допив чай, он еще некоторое время перелистывал «дело», затем перелистал его в обратном порядке, что-то прочитал, шевеля губами, на одном из листов, затем взглянул на меня через очки в золотой оправе. Я выдержал его ничего не значащий взгляд и посмотрел в окно. «Вы Москву знаете?», - спросил он совершенно неожиданно для меня. Я ответил отрицательно. В широкое окно с такой высоты открывался прекрасный вид на Москву, и мой собеседник превратился в любезного гида, указывая мне пальцем на видневшиеся здания и рассказывая о них. «А теперь перейдем к делу»,- так же внезапно оборвал он свой рассказ о Москве и достал из стола бювар моей бабушки из городка Н., который моя мать берегла как семейную реликвию, перевезла в Ленинград, и который был взят во время обыска так, что я даже не заметил. Последнее обстоятельство явилось причиной моей тревоги за мать. Я подумал, что бювар изъяли при последующем обыске, возможно, при аресте матери. С другой стороны, я недоумевал, что могли найти в нем предосудительного? Но мое недоумение, но не тревога за мать, рассеялось довольно быстро. «Где Ваш дедушка?», - спросил меня следователь. «Умер» - «Нет, другой» - «Тоже умер». Он саркастически улыбнулся и, торжествуя, показал мне вынутую из бювара копию заявления, написанную рукой моей бабушки. «А вот здесь она пишет, - продолжал следователь, и его толстое лицо лоснилось от удовольствия, - что ее муж, то есть Ваш дедушка, расстрелян, и он поднял указательный палец правой руки кверху, узнаете почерк Вашей бабушки?». Да, это был ее почерк. По неопытности, ничего не подозревая, что в будущем сведения, почерпнутые из черновика заявления, лягут тяжелым «довеском» на чашу весов моей судьбы, моя мать, желая сохранить на память бумаги своей матери, не уничтожила этой копии заявления. А в заявлении моя бабушка просила местные власти вернуть ей национализированный ее собственный дом, как неправильно отобранный, на том основании, что ее муж, то есть мой дед, был расстрелян не как контрреволюционер, а как заложник. Действительно мой дед был арестован чека в июле 1919 года в городке Н., в числе многих интеллигентов городка, как заложник при приближении Добровольческой армии к городу, вывезен в Чернигов, где всех заложников расстреляли в конце августа 1919 года после взятия городка Н. частями Добровольческой армии.
В ответ следователю я соврал, что мне родители не сказали тогда правды, как мальчику, щадя меня, как ребенка, и я думал, что мой дед просто умер. «Теперь надо переписать Ваши анкетные данные»,- сказал следователь и, вынув уже знакомый мне чистый бланк протокола допроса, в заглавной части его стал заполнять ответы на напечатанные там вопросы. Вопросы были те же, что и на допросе у Степанова в ДПЗ, но в ответах о местонахождении моих родителей следователь написал об отце: «Расстрелян ленинградской чекой в 1920 году»; о дедушке: «Расстрелян в 1919 году». На мой недоуменный вопрос о судьбе отца, следователь, снова саркастически улыбнувшись, ответил: «Вам, может быть, это неизвестно, но у нас есть точные сведения». От всей его фигуры дышало самодовольством, следователь был в прекрасном расположении духа. Мой растерянный вид доставлял ему огромное удовольствие.
А растеряться мне было от чего. Итак, я оказался сыном расстрелянного и внуком расстрелянного. Логика подсказывала, что и мне не миновать той же участи. И если до этого момента у меня еще была надежда на возвращение на свободу, на выяснение в Москве моей непричастности к контрреволюционной организации, то теперь я понял, что последний вопрос уже для меня не существен и истинная причина моего несчастья происходит от моих убитых чекой родителей.
Далее следователь стал задавать мне те же вопросы, что и Степанов в ДПЗ о моей причастности к социал-демократическому союзу молодежи, о знакомстве с незнакомыми мне лицами, в том числе Каменецким и теми, что были привезены вместе со мной из Ленинграда. Все эти вопросы, включая и называемые им фамилии, были им записаны в протокол допроса, а также все мои отрицательные ответы на них. После этого он мне задал новый вопрос: «На кого Вы готовили персонально террористический акт?». Вопрос поставлен был ловко, чтобы изобличить преступника, если бы таковым я был. Вставленное им слово «персонально» можно было истолковать, как вопрос, на кого я лично готовил покушение или на кого готовила покушение организация, к которой я принадлежал. Я ответил: «Ни в какой организации я не состоял и ни на кого я террористического акта не готовил». Голос у меня дрожал, я очень испугался этого вопроса, только потом, разобравшись в заднем смысле его, я понял его заряд только потому пропал даром, что я даже не знал о существовании какой-либо организации. Но меня подбодрил тот факт, что я только подозреваюсь в подготовке террористического акта, а это в моем положении все же лучше, чем если бы меня обвинили в совершении террористического акта какого-либо определенного власть имущего лица, арестовав меня вместо настоящего террориста, может быть, однофамильца, может быть, похожего на меня лицом. Этот вопрос и мой ответ он не записал. Не записал он и свой следующий вопрос и мой ответ на него: «Какие террористические акты совершила организация, в которой Вы состоите?» - «Ни в какой организации я не состоял и не состою и ни о каких террористических актах не знаю». «Запираетесь, для Вас же хуже»,- резюмировал следователь, сам прочеркнул оставшиеся незаполненными части страницы протокола допроса и дал мне подписать, что я и сделал.
Вызванный по звонку следователя мент отвел меня обратно в камеру. Я лег ничком на кровать, лицом в подушку, и стал готовиться к смерти. Последнее, что покидает человека - надежда, покинула меня. Для меня стало ясно, повторяю, что мне из-за родителей не миновать участи родителей. К этому еще примешивалась мысль о матери, об ее участи, об ударе, который ей трудно будет перенести. «Что, подкрутили гайки?», - услышал я голос польского шпиона, который наклонился ко мне. В этой фразе было что-то жестокое, как сама действительность. Сам преступник, он не мог понять, что в тюрьме могут сидеть и не преступники.
Через два дня после допроса, вечером, на десятый день моего пребывания во Внутренней тюрьме, мент вызвал меня из камеры в коридор и отвел меня на шестой этаж в знакомую мне «приемную», где я подвергся такому же тщательному обыску, как и при поступлении в тюрьму. Туда же мент принес и мои вещи из камеры. Это была еще одна характерная черта строгого режима внутренней тюрьмы. Арестанта так брали из камеры, чтобы никто из его однокамерников через него не мог бы чего-либо, даже устно, передать за пределы камеры или тюрьмы.
После тщательного обыска вещей, мент повел меня с вещами по лестнице вниз, провел через двор и ввел в помещение комендатуры ОГПУ, где сдал меня двум уполномоченным ОГПУ с тремя квадратиками в петлицах.
Окно комнаты выходило прямо на площадь. Возможно, это был раньше магазин, потому что окно занимало всю стену и очень походило на витрину. Оно было затянуто частой металлической сеткой в несколько рядов, сквозь которую все же проглядывали уличные фонари, освещенные окна движущихся трамваев. Доносился шум движения, голоса прохожих, спешивших по своим делам или домой к своим семьям. Людской поток лился мимо, и никто из прохожих не задумывался, а большинство и не знало, мимо какого страшного места они проходили; никого не касалось, какое вопиющее беззаконие творится за стенами этого дома, и, конечно, никто из них не мог и предполагать, что впоследствии многие и многие из них так пострадают по велению чудовищ из-за этих стен.
За столом сидел дежурный, тоже в форме ОГПУ, тоже с тремя квадратиками в петлицах. Никто не разговаривал. Мои конвоиры сосредоточенно курили. Давило тягостное безмолвие.
Вошел в гражданском, с шоферскими перчатками в руках, и доложил, что машина подана. Конвоиры встали, вынули из кобур браунинги, и один из них коротко сказал мне «пойдем». Один пошел впереди меня, другой сзади. Вынутые из кобур браунинги не предвещали ничего хорошего - так меня еще ни разу не водили. У дверей стоял «фордик». Один конвоир сел на заднее место слева, меня посадили рядом с ним, на переднее место рядом с шофером сел другой, повернувшись ко мне и направив на меня пистолет. «Фордик» тронулся и через раскрывшиеся ворота выехал на площадь Дзержинского.
Долго мчались по улицам Москвы. Я не имел ни малейшего представления, куда меня везут. Но когда улицы стали все темнее и темнее, я решил, что меня везут за город на расстрел. «Иначе и быть не может», думал я, косясь на направленный на меня пистолет. Внезапно машина замедлила ход, повернула налево и остановилась, осветив фарами тюремные ворота. «Опять тюрьма», с горечью подумал я. Я уже настолько был нравственно замучен, жизнь настолько надоела, что расстрел казался избавлением от всего.
Hôtel la Butirka
«Hôtel la Butirka с бесплатным пансионом» прочитал я надпись, выбитую, а не нацарапанную, крупными буквами на стенке большого зала через который меня вели два конвоира, в том же порядке, как и в комендатуре ОГПУ на площади Дзержинского (Лубянской). Надпись, как и стены, покрылись слоем грязи, из чего я заключил, что надпись сделана не в ближайшее время. И самый факт возможности для арестантов, не потерявших чувства юмора, сделать такую надпись, и факт попустительства тюремщиков, не удосужившихся такую надпись заделать, подействовал на меня благотворно, и я сейчас же сделал заключение, не разошедшееся с действительностью, о менее суровом режиме в Бутырской тюрьме по сравнению с теми тюрьмами, где я уже сидел. В конторе тюрьмы, где я был передан дежурному тюремщику, последний подверг меня поверхностному обыску и дал мне заполнить анкету, содержание которой было мне уже знакомо по ДПЗ. После заполнения анкеты дежурный вызвал тюремщика, рядового без всяких знаков различия, и дал ему распоряжение после поисков в картотеке, отвести меня в камеру № 60.
После прохода по длинным коридорам и подъема на третий этаж по старинной лестнице, тюремщик ввел меня в довольно широкий коридор с окнами в решетках с одной стороны и дверями камер, запертых на засовы, с другой. Он передал меня дежурному по коридору, тоже без знаков различия, который сидел за столиком посередине коридора у окна. Усатый дежурный, по типу напоминавший простого надзирателя дореволюционной эпохи (а таковые, как впоследствии я выяснил, были в Бутырской тюрьме) по-хамски, но добродушно, хлопнув меня по плечу и сказав: «Пожалте в гости», отпер камеру № 60, и я вошел в нее.
Панибратское похлопывание по плечу, полунасмешливое «пожалте в гости» настолько резко отличалось от официально-вежливого, холодного отношения ко мне на допросах, бездушного отношения тюремщиков в ДПЗ и во Внутренней тюрьме, что я почувствовал даже симпатию к такому «приятелю», это было совсем что-то не тюремное. Но, войдя в камеру, я ужаснулся: из фешенебельной «гостиницы», в которой я был всего несколько часов тому назад, я попал в самый низкопробный ночлежный дом, даже хуже, чем в пьесе «На дне» Горького. По-видимому, так уж устроен человек, что внешнее иногда на него больше производит впечатление, чем сущность, скрывающаяся за внешней декорацией. Мне в моем положении надо было бы радоваться, что я избег смертельной опасности, вышвырнутый в Бутырскую тюрьму из Внутренней тюрьмы для особо важных государственных преступников, к разряду которых я все же не «подошел», а я ужаснулся тем, как я буду находиться в такой обстановке.
Вдоль стен были устроены сплошные нары, на которых в своей одежде без всякой подстилки вплотную друг к другу спали шестьдесят человек. Стоял полумрак, так как единственная электрическая лампочка была закрыта колпаком из газеты. Воздух был тяжелый и от недостаточности кубатуры камеры для шестидесяти человек и от параши (бак с крышкой служащий для отправления естественных потребностей арестантов) стоявшей у дверей, около которых я остановился, пораженный всем.
С нар встал маленького роста бородатый черноволосый еврей, оказавшийся старостой камеры, подошел ко мне и, растолкав двух спящих арестантов, велел им «спрессоваться». «Вот место», - сказал мне староста и сам снова лег спать. В узкую щель между телами я положил свой тулуп, в головы к стенке подушку, под нее сапоги и лег, не раздеваясь. Поместился лежать только боком. Один из соседей произвел на меня удручающее впечатление громадной черной бородой цыганского типа. Впоследствии я понял, что он совершенно безобидный забитый малокультурный кавказский еврей, плохо говоривший по-русски, и ожидавший своей участи с тупым равнодушием.
Утром при свете белого дня и в последующие дни я лучше ознакомился с камерой. Это была безусловно не одиночка, а общая камера, потому что вдоль стен по длине камеры были расположены двадцать пять сетчатых коек, прикрепленных на петлях изголовьями к стене с тем, чтобы днем их можно было бы поднять к стене. Однако, поскольку нормальная емкость тюрем, оставшихся от дореволюционного режима, не могла удовлетворить все возраставшие потребности Советской власти в местах для арестантов, на эти койки были настланы сплошные нары, чтобы уместить в камеру не двадцать пять, а шестьдесят арестантов. Но и это оказался не предел для нашей камеры. Постепенно численность содержавшихся в ней под арестом дошла до восьмидесяти и человек двадцать спали на цементном полу в проходе между нарами так же скученно, как и остальные на нарах. Переход с пола на нары для арестанта был блаженством, он соблюдался строго по очереди, за счет выбывших на этап, в другие тюрьмы. Новички спали на полу у параши, постепенно передвигаясь к окнам по мере перехода спавших на полу у окон на нары. Однако с пола переходили на нары на места у параши и оттуда уже двигались по нарам к окнам. Этот страшный конвейер страдающих людей, строго подчинявшихся неписаному тюремному закону, может быть, даже более соблюдаемому, чем все государственные законы, двигался непрерывно, так как «текучесть», в особенности среди уголовников, была довольно значительна. «Контрреволюционеров» держали под следствием долго. Я не преувеличу, если назову цифру около четырехсот арестантов, прошедших через камеру за почти пятимесячное пребывание мое в ней.
Мне повезло вдвойне, потому что когда я прибыл, на полу еще никто не спал, и меня втиснули сразу на нары. Во-вторых, утром следующего дня за меня походатайствовал интеллигентный еврей-нэпман Турецкий, и староста-еврей меня перевел рядом с Турецким. Последнего своим телом я отделил от малопривлекательного уголовника, к тому же еще, по-видимому, завзятого антисемита. Избежав конвейера, я сразу оказался на нарах, почти у самого окна.
Два больших окна с решеткой между двойными рамами не были снаружи закрыты козырьком, и чудный дневной свет широким потоком лился в камеру, наполняя ее радостным сиянием. Рамы легко открывались, наружные - наружу, внутренние - в камеру, что до некоторой степени все же улучшало воздух в камере, в особенности зимой. Окна выходили в один из бесчисленных двориков Бутырской тюрьмы, который с двух сторон ограничивался двумя башнями, большая из которых называлась Пугачевской, так как в ней сидел Емельян Пугачев. Там находилась пересыльная камера и мусоросжигалка. Последняя очень нам досаждала нестерпимым запахом и едким дымом, которые соответственным ветром несло прямо в открытые окна наших камер. Особенно тяжело это было летом, когда единственным спасением от духоты в камере для нас были круглосуточно открытые настежь окна. Четвертой стеной дворика напротив корпуса, где была наша камера, была наружная стена тюрьмы, по-тюремному, «баркас», высотой с двухэтажный дом. Поверх стены открывался прекрасный вид на часть Москвы с бывшим велосипедным заводом «Дукс», превращенным в авиастроительный, и на Ходынское поле, превращенное в испытательный аэродром. После козырьков на окнах в камерах ДПЗ и Внутренней тюрьмы, такая панорама имитировала в сознании просто выход на волю.
Дворик служил для прогулки арестантов, на которую ежедневно по очереди каждую камеру выводили тюремщики на пятнадцать минут, зорко следя, чтобы мы по периметру дворика парами в затылок друг другу ходили и не переговаривались с арестантами из других камер, смотревших на нас в открытые окна.
Кроме нар, единственной мебелью был небольшой стол, на котором помощник старосты - хлеборез резал и раздавал арестантам хлеб пайками по утрам, дневную порцию каждого, и делил кучками сахарный песок. Как содержимое пищи, так и ее сервировка в Бутырской тюрьме резко отличались не только от Внутренней тюрьмы, но и от ДПЗ. Утром кипяток, в полдень обед, состоявший из супа с едва различимыми кусочками обрезков туши или рыбы, и на второе пшенная или ячневая каша-размазня с растительным маслом. На ужин полагался суп в еще более разбавленном виде и кипяток. И суп, и кашу в камеру приносили уголовники с краткими сроками, работавшие в тюрьме, в бачках, вмещавших по шесть-семь порций. Бачки ставились на нары, вокруг бачка усаживались с ногами на нарах арестанты и черпали пищу ложками из общего бачка. Посуды никакой не было, за исключением деревянных ложек и жестяных кружек, выдававшихся каждому арестанту. Некачественное питание и совсем некультурная сервировка соответствовали моему первому впечатлению о «ночлежном доме». Они были резким контрастом питания и сервировки во Внутренней тюрьме. Возникал парадокс: чем строже был тюремный режим, тем лучше оказывались бытовые условия, чем опаснее, с точки зрения ОГПУ, были преступники, тем лучше создавались для них бытовые условия. Так, если во Внутренней тюрьме среди арестантов было подавляющее большинство интеллигентов, в Бутырской тюрьме они были единицы среди малокультурных арестантов, всякого сброда и уголовников мелких и рецидивистов. Интеллигенты страдали в лучших условиях, чем простой народ, во имя которого делалась революция. Отступление от равенства, неотъемлемого признака демократии, естественно, началось в таком учреждении, как ОГПУ и его органах, поставивших себя не только над народом, но и над государством. И это возвышение послужило началом дифференциации новых слоев населения в нашей стране; процесс, который начался в недрах ОГПУ и его органах, в том числе и в тюрьмах, захватил постепенно все государство, создав законченный строго иерархический строй уже в тридцатых годах, существующий и поныне.
В смысле питания в лучших условиях и в Бутырской тюрьме были опять-таки интеллигенты, получавшие от родных продуктовые передачи, которые в Бутырской тюрьме разрешались почти всем арестантам. Передачи разрешались раз в неделю. Кроме того, к услугам арестантов имелась тюремная лавочка, где арестанты, получающие от родных денежные переводы, раз в неделю могли приобретать продукты. С заявками на покупку и деньгами в лавочку водил тюремщик помощника старосты, который и приносил в камеру продукты. В этой лавочке продавалась колбаса двух сортов, очень дешевая, приготовляемая из обрезков туши в мастерской при тюрьме, и подороже, вполне съедобная. Последняя на тюремном жаргоне называлась «за что боролись», первая – «чего добились». Без комментариев понятно, кто ел первую, кто вторую, «соль» названия становилась очевидной. Юмор был неотъемлемой частью духовной жизни арестантов.
Выгодно от режима Внутренней тюрьмы Бутырская тюрьма, на тюремном жаргоне «Бутырка», отличалась и тем, что давались книги для чтения, художественная и учебники. Раз в неделю помощника старосты тюремщик водил в тюремную библиотеку, и он приносил ящик книг, причем некоторым даже иногда по заказу. Я стал изучать английский язык по самоучителю под руководством инженера-горняка Дрозжилова. Под видом урока произношения последний очень тонко однажды предостерег меня от разговора с одним слушателем Военно-медицинской академии, которого он подозревал как «наседку». Инженер раскрыл самоучитель и, подойдя ко мне, громко начал склонять «ай ду нот ту спик». Я понял и свел разговор на нет.
Описанные выше стороны режима в Бутырках, в том числе и громкие разговоры и даже пение арестантов, были узаконены тюремным уставом. Но были еще свободы и нелегального порядка. Так, например, общение между арестантами из разных камер поддерживалось перепиской через «почтовый ящик» - укромные места в общей для коридора уборной, где прятались записки, и тюремным «телеграфом». Ни о первом, ни о втором способе общения во Внутренней тюрьме не приходилось и мечтать, потому что там после каждого посещения камерой уборной в последней производился тщательный обыск, вплоть до обшаривания унитазов ментом в резиновых перчатках; а при царившей там гробовой тишине малейший стук телеграфа сразу бы привлек внимание мента. Общение же между камерами было очень важно для многих арестантов, сидевших по одному делу. Они могли сговориться, в каком разрезе давать показания следователю, о чем умолчать, знать показания друг друга. Таким образом, обходился главный принцип изоляции друг от друга однодельцев, для какой цели однодельцев всегда содержат в разных камерах.
В нашей камере очень оживленную переписку по политическим вопросам вел член организации «Группа освобождения труда» со своими единомышленниками и однодельцами, оставляя почти ежедневно для них в условном месте в уборной свои записи и получая там же от них написанное ими. По существу, они и в тюрьме действовали как истинные революционеры, вели дискуссию и вырабатывали свою политическую программу.
Но более распространенным средством связи между однодельцами был «телеграф», работавший по азбуке, разработанной еще декабристом Рылеевым. Табличка с этим кодом сейчас висит на двери камеры Рылеева в Петропавловской крепости в Ленинграде. По этому коду буквы расположены по пять в каждом горизонтальном ряду. Первые удары обозначали порядковый номер буквы по горизонтали, вторые, после краткого перерыва, номер горизонтального ряда. Например, чтобы передать букву «В», следовало три коротких удара, пауза и один отрывистый удар. Для буквы «К» соответственно требовалось пять и два ударов. Между буквами делалась более длинная пауза, между словами еще более длинная. Слышимость была превосходная благодаря железным болтам, проходившим через стенки из камеры в камеру, для закрепления железных кроватей. Так осуществлялась связь по горизонтали. По вертикали для связи служили трубы водяного отопления. Телеграфист брал нелегально хранившийся нож или какую-нибудь железку, неизвестно как подобранную на прогулке, и, получив текст «телеграммы» от однокамерника, монотонным постукиванием по болту или трубе привлекал внимание своего коллеги в соответствующей камере. Получив частое постукивание от вызываемого, телеграфист передавал телеграмму. Если сосед чего-нибудь не понимал, он яростно тер в ответ железкой по болту, и телеграфист повторял текст снова. На случай вынужденного прекращения передачи вследствие появления в камере тюремщика, принимавший в ответ давал два отрывистых удара. Телеграф работал по нескольку часов в сутки, передавая не только соседним камерам, но и всему корпусу с «ретрансляцией» каждой камерой. По нему узнавались и политические новости от только что посаженных арестантов в другие камеры, а также новости, которые не печатались в газетах, получаемых нами из тюремной библиотеки. На случай увода телеграфиста из камеры, что могло случиться в любую минуту, каждый телеграфист готовил себе смену. Третьим сменщиком стал я, подготовив в свою очередь себе смену. Последние два месяца моего пребывания в камере я так привык понимать выстукивания соседей, что вел прием без всякой записи, как и мои предшественники.
На другой день моего заключения в Бутырку телеграфист, прослушав выстукивание из соседней камеры, громко спросил: «Кто здесь по делу черниговцев»? Я решил ответить уклончиво, прося передать: «Есть из городка Н.», назвал городок полностью и свою фамилию. Больше никто со мной в контакт вступить не пытался, и я передавал и принимал телеграммы только для других. Не будучи знакомым на воле со своими «однодельцами», я решил держаться от них в стороне и в тюрьме. Впоследствии я узнал, что о черниговцах запрашивал Холопцев, как он сам мне рассказал, но, получив от меня уклончивый ответ, решил меня больше не беспокоить, чтобы не запутать и меня.
Пользуясь относительно мягким режимом, арестанты в Бутырках коротали время между чаем, обедом, прогулкой, оправками и ужином в разговорах, чтением книг по своему культурному уровню, отводя час перед сном на ходьбу гуськом между нарами под хоровое пение идущих, помогавшее им не сбиваться с шага.
Так проходил день за днем, для меня почти пять месяцев, которые я просидел в Бутырской тюрьме.
КАМЕРА № 60
Камера № 60 Бутырской тюрьмы была населена весьма разнородной портретной галереей разных типов людей, отличавшихся друг от друга степенью своей культурности, профессией, повседневными привычками, складом ума и характера и даже национальностью. В основном это были русские, но за мое пятимесячное пребывание в этой камере, я жил бок о бок с несколькими евреями, украинцами, двумя финнами и одним венгром. Согнанные на малую площадь, общавшиеся друг с другом на протяжении всех суток неделями, вся эта разношерстная масса в основном все же как-то находила общий язык, возможно, во многих случаях лишь усилием воли, избегая крупных столкновений. Мне не пришлось наблюдать массовой солидарности всей камеры в целом против тюремной администрации, но складывающиеся отдельные группы арестантов довольно стойко могли противостоять нажиму какой-либо такой же группы арестантов. Общее несчастье - арест, содержание в тюрьме - не сплачивало всей массы в целом и, по-видимому, причиной этому было наличие в камере преступников-рецидивистов, случайных преступников и просто невиновных людей, в невиновность которых не могли поверить первые две группы, что и создавало отчуждение и неприязнь между этими категориями арестантов. Классифицировав арестантов на такие три группы, я имел в виду, что они в основном состояли из уголовников, так называемых бытовиков, и обвиняемых по статье 58-й «контрреволюционеров».
Законы советского государства не имеют понятия политического преступления, имеющегося в сводах законов цивилизованных народов. Противники Советской власти привлекаются по статье Уголовного Кодекса и политическими заключенными не считаются. Такой статьей в действовавшем до начала 60-х годов уголовном кодексе была статья 58-я с многочисленными пунктами. Произволом ОГПУ по этой статье обвинялось подавляющее большинство совершенно невиновных людей, принадлежащих к тем или иным слоям общества, которым наступала очередь физического уничтожения. Так, последовательно репрессиям по 58-й статье подвергались капиталисты, духовенство, офицерский корпус Русской армии, техническая интеллигенция, интеллигенция вообще, кулаки, подкулачники, то есть крестьянство, и впоследствии рабочие, имевшие опыт революционной борьбы против властей. Всех обвиняемых по 58-й статье называли контрреволюционерами, сокращенно «каэры».
Каэры в камере № 60 были в подавляющем меньшинстве, и надо остановиться персонально на каждом, так как принадлежность их к тому или иному слою общества до некоторой степени указывает, на какие слои общества в конце двадцатых годов был направлен террор, какие слои подвергались особенно жестоким репрессиям.
В группе инженеров был Дрозжилов из треста «Уралплатина», Гольдберг из Наркомата Путей сообщения, Нарушевич из «Вохимпрома» и еще четыре инженера, фамилии которых не остались в памяти. В том числе один из «Взрывпрома», офицер-сапер Русской армии. Нарушевич тоже был офицер-академик Русской армии, верой и правдой дослужившийся в Красной Армии и до комбрига и до ареста. Он был директор порохового завода. Все они обвинялись во вредительстве по пункту 7-му 58 статьи. Особо трагически сложилась судьба Нарушевича, который, испугавшись угроз следователя арестовать его единственную дочь, девушку, сам на себя написал обвинительный материал под диктовку следователя. Когда более стойкие из каэров указали ему на пагубность его действий, он, набравшись духу, написал из камеры заявление об отказе от своих показаний с разоблачением методов допроса следователя. Последнее для него оказалось роковым, вечером его забрали с вещами, и больше о нем ничего не удалось узнать. Можно только догадываться, каким пыткам, моральным и физическим, подвергали его в ту ночь за отказ от показаний и «клевету» на следователя. Если пытки он и выдержал, то из тюрьмы живым не вышел. Отдать должное остальным инженерам, они держались с большим достоинством, и вряд ли что-либо удалось следователям добиться от них, хотя и они были лишь обывателями в полном смысле этого слова, совершенно аполитичными, простыми хорошими людьми, по-отечески относившимися ко мне. Как правило, под следствием все они сидели долго.
Два представителя духовенства - Высокопреосвященный Серафим, третий заместитель Патриаршего престола и рядовой священник держались очень дружно, не навязывая никому своего знакомства и в то же время любезно отвечая обращавшимся к ним. Истребление и изоляция от народа священнослужителей продолжались. Церковь большевики хотели ликвидировать, но она выжила и сейчас живет. После смерти патриарха Тихона в 1923 году советское правительство не разрешило избирать нового Патриарха Московского и Всея Руси. Тогда остатки уцелевшего от арестов и расстрелов Святейшего Синода Русской Православной Церкви учредили должность блюстителя Патриаршего престола, избрав митрополита Петра на этот пост. Немедленно последний был арестован ОГПУ, отправлен на Север, где и скончался. Второго избранника постигла та же участь. Третий, избранный на этот пост, Владыка Серафим, попал под домашний арест в мужском Могилевском монастыре и не мог выполнять возложенных на него функций по управлению Церковью. Однако и этого оказалось недостаточно. В марте 1929 года он был переведен в камеру № 60 Бутырской тюрьмы и оттуда, получив срок в три года, по 58-й статье отправлен по этапу в Соловецкие концлагеря. Оба священнослужителя про себя молились, но особенно трогательно было, когда в Святую Ночь они оба не спали, запели в полголоса «Христос Воскресе» и затем, не сходя со своих мест на нарах, отслужили Заутреню.
По 58-й статье сидела и молодежь. Это были два семнадцатилетних еврея из Одессы, за принадлежность к одесский организации Социал-демократической молодежи. Их взяли с поличным во время распространения листовок на октябрьской демонстрации 1928 года. Оба отделались довольно легко, получив по три года ссылки в Казахстан.
Третий молодой человек, партийный большевик, студент Высших литературных курсов, член подпольной организации «Группа освобождения труда». Он продолжал дискуссию со своими единомышленниками, в том числе и со своей сестрой, сидевшей в женском корпусе, и с ее мужем-комдивом. Группа была очень многочисленна, состояла главным образом из студентов Высших литературных курсов. В камере он вел агитацию за идеи Группы. Рано раскусив, к чему ведет единоличная диктатура Сталина - к крушению всех идеалов Социалистической революции, Группа считала Сталина и сформированное им политбюро партии большевиков предателями идей Октябрьской революции. Отлично понимая невозможность борьбы со Сталиным мирными методами, эта Группа призывала к свержению Сталина и провозглашению демократического многопартийного строя. По их мнению, поскольку такая акция привела бы автоматически к реставрации капитализма, партия большевиков должна была начать готовить новую социальную революцию, снова, захватив власть, начать строить социализм, не повторяя ошибок Октябрьской революции, которые привели к единоличной деспотии сначала Ленина, а потом и Сталина. Таким образом, эта Группа в своей программе заходила значительно дальше Троцкистско-Зиновьевской оппозиции, довольствовавшейся только свержением самого Сталина.
Почти столько же, сколько и я, в камере № 60 просидели под следствием два московских трамвайных вагоновожатых, обвиненных по 58-й статье за участие в забастовке московского трамвая в марте 1929 года. Забастовщиков было так много, что не хватило камер, чтоб рассадить их по одному, в большинстве камер их сидело по двое. Один из них, старый дореволюционный вагоновожатый, отделался тремя годами высылки на Волгу; второй, лихой кавалерист, офицер Русской армии, служивший в Красной Армии и имевший Орден Красного Знамени за ликвидацию басмачества, получил пять лет концлагеря* . Ни орден, ни звание не помогли. (Лихой кавалерист, офицер Русской армии, служивший в Красной Армии и имевший Орден Красного Знамени за ликвидацию басмачества» - Игорь Александрович Курилко (1893-1930).
По иронии судьбы, блестящий адвокат Плятт, защитивший на своем веку десятки, если не сотни, подсудимых, сам оказался подсудимым по 58-й статье. Он выступил с яркой речью на собрании московских адвокатов, или, как они тогда назывались, защитников, страстно доказывая несправедливость декрета власти, изданного в марте 1929 года. Этот декрет устанавливал, как составную часть ликвидации НЭПа и похода на частника, запрещение адвокатам частной практики и требовал от адвокатов внесение в кассу «коллегии защитников» всего гонорара, получаемого ими от подзащитных, и посадил всех адвокатов на зарплату. Получилась уравниловка, жертвой которой стали опытные адвокаты, привыкшие жить на широкую ногу, а неспособные адвокаты ликовали, предвкушая пожить на чужой счет. Ответ на речь, как пишет Вадим Кожевников, «пришел очень скоро, ночью, в сапогах», и к утру Плятт в шикарной бобровой шубе оказался сидящим на параше, за неимением другого места и мебели в нашей камере. Смрад и вид ночлежки привели именитого адвоката в ярость. Он поднял стук в дверь, выкрикивая с пафосом: «Я нахожусь в советской тюрьме. Я требую гуманного обращения. Куда вы меня привели?». После того, как тюремщик очень грубо пригрозил ему карцером и недвусмысленно поднес свой кулачище к его носу, Плятт смяк, превратился в покорного арестанта и следующие ночи спал на полу, завернувшись в свою шубу, пока не дошла его очередь перебраться на нары.
Заканчивая рассказ о виновных и невинных, обвинявшихся по 58-й статье, нельзя не упомянуть еще об одном обитателе камеры № 60, просидевшем в ней довольно долго, о работнике Шанхайского торгпредства, служившего там переводчиком. Почти не оставалось сомнения, что и он, и его брат, переводчик Греческого посольства в Москве, были «ссученными», как назывались на уголовном жаргоне преступники, ставшие осведомителями ОГПУ или уголовного розыска. Незаконные сыновья-близнецы крупной тверской помещицы Волковой, родственники по матери Толстых, они оба обладали прекрасными светскими манерами, имели превосходное образование, свободно говорили на нескольких языках. С Всеволодом я встретился значительно позже, а Олег спал на нарах рядом со мной. Вкрадчивость, умение занятно рассказывать о Китае и Иране, где он служил, критическое освещение политики нашего демпинга быстро открыли ему двери в компанию инженеров, от которых ему, по—видимому, было задание многое узнать. Чтобы отвести от себя и тень подозрения, он учинил совместно с уголовниками суд над сидевшим в камере писателем, обвинив его в том, что он «наседка», использовав в качестве обвинения тот факт, что писатель много записывал. Не возникло никаких подозрений и тогда, когда однажды, вернувшись с допроса, Дрозжилов ** был весьма расстроен тем обстоятельством, что следователю было известно его случайное знакомство с иностранцем Брауном, о котором незадолго до этого рассказал нам Дрозжилов, наведенный на откровенный разговор Волковым о его общении с иностранцами за границей и в Москве. (описываемые события происходили не ранее 5 марта 1929 года и не позднее 22 мая 1929 года. В это время Олег Васильевич Волков (1900-1996) находился в камере №60 в Бутырской тюрьме, а вовсе не на Соловках, как он пишет в «документальном» произведении «Погружение во тьму».) Тогда Дрозжилов сказал Волкову, что это знакомство его очень беспокоит, это единственное, из-за чего он может пострадать. Подозрение в отношении Волкова у нас возникло только тогда, когда он вернулся в камеру «из поездки по городу». Так формулировал обычно тюремщик свой вызов арестанта, когда последнего вызывали на допрос на Лубянку-два. После нескольких дней отсутствия, надушенный, в новом летнем костюме с обильной продуктовой передачей, посвежевший Волков вернулся к нам в камеру. Он пояснил, что передачу получил от Толстых. После этого инцидента его вскоре забрали у нас из камеры с вещами, и только встретившись через несколько лет с его братом Всеволодом, приняв, по колоссальному сходству близнецов, его за Олега, я поздоровался с ним. Когда выяснилось недоразумение, я спросил об Олеге. Всеволод уклончиво ответил, что брат его продолжает жить неплохо. Сам же Всеволод все же получил пять лет концлагеря, где продолжал быть осведомителем. Конечно, со стороны инженеров и меня было наивно доверяться сотруднику торгпредства. Там и в посольствах могли работать только секретные сотрудники ОГПУ.
Дрозжилов Петр Андреевич, родился в 1878 году в городе Верный Семиреченской области (сейчас Алма-Ата, Казахстан), - инженер-механик, специалист в области золотодобычи. Окончил Фрейбергскую горную академию в Германии. 10 лет работал на золотых приисках Верхнеуральского и Троицкого уездов Оренбургской губернии. Занимался механизацией золотодобычи в Миасской долине, на Царево-Александровском прииске и др., а также на приисках Кочкарской золотоносной системы. В 1917—18 служащий Уфимского отделения Сибирского торгового банка, страхового общества «Россия». В 1919 эвакуирован в Красноярск. В 1919—22 работал в Алтайском горном управлении (Барнаул). В 1923—28 в Екатеринбурге (с 1924 Свердловск) управляющий технико-производственным отделом треста «Уралплатина», занимался организацией добычи платины (на Среднем Урале) и золота (на Среднем и Южном Урале). По поручению треста в 1924 посетил Англию, Германию, США и Чехословакию для ознакомления с дражным делом, золотодобывающей техникой и размещения заказов на изготовление драг (результаты поездки опубликованы в книге «Дражное дело в Америке»). Участвовал в разработке проектов и установке электродраг для Нижне-Тагильского и Исовского горных округов.
Арестован 23 августа 1928 г., приговорен: 22 мая 1929 г. на 10 лет ИТЛ. Дальнейшая судьба Дрозжилова неизвестна.
Самой обширной группой арестантов в камере № 60 были «бытовики». При другом экономическом строе действия этих лиц никак не могли бы рассматриваться как преступные, влекущие за собой арест, следствие, судебный процесс и отбывание срока наказания в местах заключения. Это были мелкие торговцы, именуемые «спекулянтами», растратчики столь малых сумм, что капиталист, работая они у него, ограничился бы лишь увольнением их с работы, всевозможные посредники купли-продажи, известные под названием маклеров.
Все они были бесцветные личности, не понимавшие и не способные быстро приспособиться к изменяющейся экономической политике государства, покорно ждавшие своей участи, принимавшие даваемые им краткие сроки заключения как временный перерыв в своей обычной деятельности, нисколько не собираясь «исправиться» и беззаветно впрячься, после освобождения, в колесницу социализма.
Не собирались поддаваться «перевоспитанию» и уголовники. В камере № 60 они составляли вторую по численности, после каэров, группу. В нее входили, начиная от шестнадцатилетних мальчишек, совершивших первую кражу, до убеленных сединами «паханов» с большим, еще дореволюционным стажем, проведших всю жизнь в преступлениях и тюрьмах. Это был совершенно особый мир со своими неписаными жестокими законами, со своим неповторимым мировоззрением. С их точки зрения, весь мир делился на «жуликов» и «фрайеров». Первые это были они сами, которые жили за счет ограбления вторых. Среди «фрайеров», по их понятиям, попадались «штымпы», те же фрайеры, но более простодушные, обворовать или обмануть которых не представлялось трудным, а потому это и за воровскую доблесть не считалось. О встретившихся на их воровском пути штымпах, уголовники рассказывали с явным презрением, с оттенком покровительства, как о малых детях. Сами уголовники делились по своим «специальностям». Здесь были специализировавшиеся по вскрытию и ограблению сейфов – «медвежатники», по обворовыванию квартир – «домушники», по хищению вещей на транспорте – «майданщики», по краже белья на чердаках – «голубятники» и т.д. На самой нижней ступени этой уголовной иерархии стояли «карманники». Возглавлял эту иерархию «король». Король должен был быть закоренелым уголовником-рецидивистом, большей частью «ходившим по мокрым делам», то есть совершившим ограбление с убийством. Он должен был быть сильной личностью, подавляющей не только членов своей банды, но и всех уголовников на определенной территории. Он должен быть храбрее не только рядовых уголовников, которые почти все очень трусливы, но и других претендентов на пост короля. Такие качества давали претенденту возможность предрешать свое избрание королем, которое производилось в каком-нибудь шалмане взамен умершего или расстрелянного. Кандидат должен внушать такой страх, чтоб никто не решился оспаривать его права на вакантный пост короля. Король занимает свой пост пожизненно. Однако его смерть не всегда влечет избрание нового короля, так как число королей не установлено, но большей частью, в больших населенных пунктах есть не менее одного короля, в зависимости от количества оперирующих в нем уголовников. Приближенно можно сказать, что количество королей зависит от наличия волевых жуликов, претендующих на это звание.
Власть короля безгранична в рамках воровского закона. Не выполнение распоряжений короля влечет за собой смерть ослушавшегося, причем смертный приговор уголовнику приводит в исполнение проигравший в карты уголовник. Король редко сам «идет на дело», то есть сам участвует в воровстве, грабеже; большей частью он только дает наметку, участвует в разработке плана ограбления. Но живет король по потребности за счет награбленного не только его бандой, но и другими жуликами, находящейся на территории его юрисдикции. В любое время, смотря по обстоятельствам, эта территория сужается до предела камеры или расширяется до пределов города или концлагеря. Так, в камере № 60 было два, а возможно даже и три короля, причем, небольшой отрезок времени они сидели вместе. Уголовниками управлял король, раньше попавший в камеру, передав затем свои функции следующему королю при выбытии из камеры. Передача власти проходила для непосвященных незаметно, но второй король немедленно проявил себя отдачей приказаний. По каким признакам уголовники узнают короля, для меня осталось тайной. Фрайерам уголовник никогда не хвастается, что он король. Его королевское звание для окружающего мира сохраняется в тайне, и только, внимательно присматриваясь к отношениям между уголовниками, можно определить, кто у них король.
Мне довелось видеть поединок двух королей в карточной игре. Старый пахан, проведший большую часть своей жизни на каторге, сел играть в карты с недавно перевезенным из другой тюрьмы средних лет тоже матерым уголовником, до революции уже привлекавшимся по уголовным делам. Старый король буквально обобрал молодого и забрал не только вещи, которых у него было немало, но и всю одежду с него, бросив ему какое-то рубище, чтобы он не сидел в белье. Через несколько дней пахан отбыл на этап, сгибаясь под тяжестью выигранных вещей. Непосильную ношу ему пришлось нести только до пересыльной камеры, а там остальные уголовники, следовавшие с ним по этапу, по воровскому закону должны были быть у него носильщиками. Как только пахан исчез за дверью, среди уголовников в камере началась суета. Каждый снимал что-нибудь с себя и подносил оставшемуся королю. Тот оделся, как только хотел.
Неписаный закон уголовного сообщества, этого мира жуликов жесток и прост как законы дикарей. Его достоинство заключаются в том, что он, вследствие своей простоты, регулируя лишь основные взаимоотношения уголовников между собой и с человечеством, не допускает никаких юридических кривотолков его, чем грешат все своды законов цивилизованных обществ. Уголовникам запрещается воровать друг у друга, а также у фрайеров в тех районах, где они живут. Преступления в районах, где живут уголовники, должны совершать другие уголовники, не проживающие в этом районе. В то же время обман и жульничество в карточной игре между уголовниками не запрещается. Карточную игру уголовники ведут между собой почти беспрерывно, краплеными картами, передергиванием карт и другими шулерскими приемами. Честно они никогда не играют между собой. Выигрыш сопутствует не слепой удаче, а тому, кто применил такой шулерский прием, который не разгадал противник. Игра немедленно прекращается, если противник разгадал шулерский прием, и тогда считается ничья, после чего игра возобновляется снова, между теми же партнерами. Проигравший обязан уплатить свой проигрыш, иначе он становится «заигранным», и его кредитор, а также любой уголовник может с ним сделать, что угодно, вплоть до убийства «заигранного». Заигранный теряет право на защиту воровским законом и становится отверженным. Смертью также наказывается предательство, совершенное уголовником в уголовном розыске по отношению к членам своей банды. В рамках такого закона король «качает правилку», то есть судит нарушивших воровской закон уголовников, и разбирает всякие недоразумения, возникающие между ними. Король выносит свой приговор, подлежащий только исполнению.
Безусловно, все поступки уголовников по отношению к фрайерам противоестественны всякой морали. По характеру своему уголовники безжалостны, отвратительны, но в своих поступках они руководствуются моралью своего закона, за который они держатся и соблюдают так, как не соблюдается ни один закон ни в одном цивилизованном обществе. Их мораль определяется рамками этого закона.
Среди уголовников есть талантливые люди, которые могли бы стать известными в том или ином виде искусства, есть способные мастера различных специальностей, но всех их прежде всего тянет к совершению преступлений, паразитизму за счет общества. К систематическому труду они органически не способны, у них не хватает усидчивости и воли к длительному преодолению встретившейся трудности. Они предпочитают скучать от ничегонеделания, но не займутся производительным трудом, даже за большие деньги. Нельзя сказать о них, чтобы дни были алчны, а тем более склонны к накоплению богатства. Все, что наворовано, тотчас же пропивается и главным образом проигрывается в карты по шулерской системе, о которой я говорил выше. Все спускается вмиг, и до следующей поживы уголовник влачит голодную раскрывшемуся совершенному им жизнь. Товарищество, дружба между уголовниками отсутствуют. Спайка их зиждется лишь на голом страхе перед королем, главарем банды, соучастниками по преступлению. Все уголовники эгоисты до мозга костей, а эгоисты обычно и трусливы, что особенно верно в отношении уголовников. При столкновениях в камере с фрайерами они действуют скопом, налетая на одного. Но если встречают организованный отпор группы лиц, по численности даже меньшей, сразу разбегаются, как отъявленные трусы. Идя на преступление, они взвинчивают друг друга, разжигая в себе, таким образом, решительность. Риск, на который уголовники идут, совершая преступление, тяжело отражается на их нервной системе, которая у них всех крайне неуравновешенная. Кажущаяся для лентяев легкость жизни уголовников, для них очень нелегка.
Кроме внутренней склонности к чужому добру, приведшей уголовника к первому грабежу, в становлении уголовника-рецидивиста важную роль играет тот же воровской закон, предписывающий всеми способами использовать уголовника-новичка в дальнейшем совершении им с бандой преступлений. Закон предписывает и меры воздействия на новичка за отказ его следовать по уголовному пути вплоть до предания новичка смерти. «Если не с нами, то умри, жизни тебе все равно не дадим, к фрайерам не вернешься», - так формулировал мне король Лифантов воровской закон однажды со мной в разговоре после того, как он меня достаточно узнал и даже покровительствовал мне. Другой и притом весьма распространенной причиной совершения преступления является проигрыш в карточной игре, когда в банк ставится не наличие награбленного имущества, а чья-либо квартира или даже жизнь человека. Проигравший уголовник, под страхом стать «заигранным», идет на преступление, грабеж квартиры или становится убийцей.
Привычка уголовников-рецидивистов делить свой жизненный путь между пребыванием на воле и в местах заключения выработала у них особое отношение к заключению. Они заметно нисколько не переживают лишение свободы, в тюрьме чувствуют себя привычно, и этот отрезок своей жизни используют, в перерывах между враньем о своих воровских «подвигах» и карточной игрой, выработкой планов дальнейших преступлений, которые они смогут осуществить, выйдя из тюрьмы после отбытия срока наказания или побега.
Мне пришлось слышать много раз рассказы уголовников о подробностях совершенных им преступлений, причем каждый выставлял себя в рассказах очень находчивым, храбрым, ловким. В зависимости от степени развития воображения рассказчика, у многих получалось увлекательно и даже правдоподобно. Некоторые могли бы писать увлекательные детективы, если бы только уголовник мог заниматься работой, усидчивой работой.
Карточная игра строжайше преследовалась и в Бутырках, но в карты уголовники играли почти беспрерывно. Карты были миниатюрные, сделанные на каких-то обрывках бумаги, часто на страничках, вырванных из книг. Трафареты для печатания карт представляли для уголовников величайшую ценность, которая наиболее тщательно пряталась от обысков, которым мы подвергались довольно часто со стороны тюремщиков. Но все старания тюремщиков вывести карточную игру были тщетны: вместо отобранных карт, да это и случалось редко, появлялась новая колода, и игра продолжалась. Мне было непонятно, каким способом уголовникам удавалось укрывать карты, но однажды я был поражен, случайно заметив, как у одного из тюремщиков, уходивших после обыска из камеры, карманник незаметно вынул колоду карт. На то он и был карманником, чтобы сделать незаметно. Оказывается, во время обыска карты незаметно были опущены в карман обыскивающего, и обыск результатов не дал. Были отобраны ножи, бритвы, железки, но карт не нашли.
Все уголовники имеют клички, под которыми знают друг друга. Фамилии их не интересуют, так как живут они под разными фамилиями, многие имеют по несколько фамилий, под которыми они совершали раскрывшиеся преступления. Мальчишка-девятиклассник из школы со строительным уклоном, пытавшийся со своими одноклассниками ограбить сберкассу, получил три года тюрьмы и, расхваставшись, что он строитель-водопроводчик, тут же в камере получил кличку «строитель». В дальнейшем он уже не смог, если бы даже и хотел, порвать с уголовщиной. Король Лифантов имел семь фамилий. Он был «медвежатник», на совести имел два убийства, в том числе и милиционера. Сидел он в Таганской тюрьме, отбывая десятилетний срок под фамилией Медведева. В Бутырки его перевели как подследственного, по раскрывшемуся совершенному им ранее преступлению под фамилией Лифантова. За это преступление он был приговорен к расстрелу, который был заменен десятью годами заключения в концлагере.
Между королем Лифантовым и начинающим «строителем» на разных уровнях уголовной иерархии стояли сотни других уголовников, прошедших через камеру № 60. Им не давали долго засиживаться, следствие по их делам вели быстро и, получив по суду небольшие сроки наказания, они переводились в другие тюрьмы или в «рабочий корпус» Бутырок. Особыми индивидуальными чертами эта масса не обладала, и на описании этой портретной галереи выродков общества нет смысла останавливаться.
Однако все же несколько слов надо сказать о редко встречающемся типе уголовников, об уголовниках-евреях. Это была крупная банда из Белоруссии, состоявшая исключительно из евреев. Численность этой банды была такова, что в Бутырках не хватило камер, чтобы рассадить членов этой банды по одному. В камере № 60 из этой банды сидело три еврея, в том числе и главарь банды, первый староста камеры при моем поступлении в камеру, Экштут. Банда специализировалась на ограблении банков, сберкасс и касс учреждений и предприятий и долго действовала успешно. Сам Экштут был вор-рецидивист, довольно культурный и обходительный. Маленького роста, с черной курчавой бородой, он внешне производил хорошее впечатление. Ко мне он явно почему-то благоволил. Из камеры его взяли в часы, когда берут на расстрел, которого он ожидал. Прощаясь со всеми, он единственного меня обнял и поцеловал в губы, как будто этим поцелуем он передавал мне саму жизнь, неотвратимо уходящую от него. Этот поцелуй мертвеца, которым он должен был стать в течение короткого времени, я до сих пор ощущаю на своих губах - столько было в нем тоски по растраченной им нелепо своей жизни.
Все три группы арестантов как-то уживались в тесноте камеры. Иногда возникали раздоры, но до драк при мне не доходило. Уголовники отравляли существование двум другим группам своей распущенностью, но не проявляли воровских склонностей, питаясь подачками от получавших передачи. И все же помещение политзаключенных, особенно молодежи, в одну камеру с уголовниками преследовало определенную цель: сделать пребывание под следствием для каэров еще более тягостным, а молодежь, кроме того, еще и развратить, пытаясь толкнуть ее на уголовный путь. Насколько мне известно, это не имело успеха. Ненавистная для ОГПУ умная молодежь была на удивление морально устойчива, а если еще к тому и исповедовала антибольшевицкие идеалы, то оставалась им верна.
МНЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!
Мне десять лет! Нет, не от роду десять, от роду мне двадцать три, а десять лет мне дали концлагеря! Десять долгих лет заключенным мне предстоит провести в концентрационном лагере ОГПУ! С двадцати трех лет до тридцати трех лет - лучшую пору жизни человека, всю молодость! Молодость у меня отняло ОГПУ, порождение строя диктатуры; отняло не только у меня одного, отняло у многих и многих, а еще у многих - даже и жизнь.
Обжившись в камере Бутырской тюрьмы в течение нескольких месяцев, став ее старожилом, проводив на этапы всех арестантов, которых я застал при водворении в эту камеру, я как-то уже не чувствовал с такой остротой свалившееся на меня несчастье. Я просто устал тревожиться о своей судьбе, а полученная мною от матери в апреле первая передача подбодрила и успокоила меня. Факт передачи рассеял мои опасения относительно судьбы матери, я понял, что, по крайней мере, хоть она на свободе. Кроме того, разрешение получать передачи как будто говорило о благоприятном для меня ходе следствия. Смущало, конечно, все же продолжавшийся запрет на свидание с матерью и на вещевые передачи. Отсутствие вещевых передач ставило меня в особо трудные условия, но я приспособился, как это делали некоторые арестанты, стирать нательное белье, единственную пару, бывшую на мне, в уборной во время оправки, продолжавшейся для каждой камеры около часа. Правда, после стирки, когда белье сохло, развешенное над моим местом на нарах, я ходил без белья, но и это все же было лучше, чем допросы.
С апреля месяца по четвергам я стал регулярно получать продуктовые посылки от Политического Красного Креста. Передачи состояли из двух французских булок, пятидесяти грамм сливочного масла и ста граммов сыра.
Правда, мелкие уколы психике в апреле и июне все же имели место. Соблюдая законность, каждые два месяца ВЦИК выдавал разрешение ОГПУ на продление следствия и меня каждые два месяца вызывали днем, хорошо что не ночью, в коридор, где на столике дежурного я расписывался в уведомлении меня о столь чуткой заботе по отношению ко мне. Но от допросов я все же отдохнул в Бутырках месяца три, и нервы снова окрепли.
Но на новый допрос меня все же вызвали в начале июня, днем. Следователь, довольно молодой, в форме ОГПУ с тремя квадратиками в петлицах, по фамилии Корженевский, сразу приступил к фиксации вопросов и ответов в протоколе допроса. Анкетные данные на первом листе уже были заполнены до моего привода. Вопросы были все те же: когда вступил в социал-демократический союз молодежи, знал ли я таких-то и таких-то (фамилии эти уже навязли у меня в зубах), кто втянул меня в организацию, кто давал мне социал-демократическую литературу. Мои отрицательные ответы он охотно записывал без всяких проволочек, прочеркнул оставшиеся не заполненные места в бланке протокола и дал мне подписать. Морально от допроса я нисколько не пострадал и отнесся к нему спокойно.
Впоследствии я встретил еще двух жертв этого следователя, отправленных им в концлагерь по 58-й статье, пункту 8 (террористический акт). В 1931 году он отправил хорошего электромонтера, солдатом попавшего в плен в первую Мировую войну, и в 1933 году полковника Русской армии Лобанова. На меня Корженевский произвел впечатление малоопытного следователя, которому поручили работу писаря - еще раз написать протокол моего допроса, который понадобился для соблюдения видимости закона. Случай с полковником Лобановым показал, что таким же он остался и в 1933 году, спустя четыре года, благодаря своей бездарности и низкому уровню развития. Познакомившись с полковником и близко его узнав, я вполне поверил последнему в правдивости рассказанного им, особенно в свете хорошо ставшими мне известными нравами сотрудников ОГПУ. Корженевский обвинил Лобанова в агитации за восстановление на престоле Российской Империи Великого Князя Николая Николаевича. Лобанов всячески отказывался подписать такое обвинение, но ряд карцеров и холодных, и горячих, и с фекальными нечистотами, заставили его сдаться, тем более что Корженевский обещал ему срок не более трех лет «за чистосердечное признание». На этом и договорились, Лобанов подписал, его перевели в общую камеру, где он, измученный, сразу заснул. Ночью Корженевский снова вытащил на допрос несчастного старика и обрушился на него с руганью, что дескать Лобанов его подвел и что ему, Корженевскому, страшно влетело от начальства, так как Николай Николаевич уже умер, а он, Лобанов, как старый человек, должен был это лучше знать, чем он, Корженевский, молодой. Чтобы «исправить» положение и Лобанову снова не попасть в карцер, подследственный и следователь решили переписать протокол допроса и поставить вместо Николая Николаевича другого Великого Князя, помоложе, Дмитрия Павловича. Корженевский сдержал свое слово, и Лобанов был доволен, что действительно отделался только тремя годами заключения в концлагерь. В конце июня меня снова вызвали на допрос и снова днем. Собственно, допрос не состоялся. Я просидел около получаса в следственной камере один, и затем тюремщик отвел меня назад в камеру № 60. Когда я в камере рассказал о несостоявшемся допросе и был в полном недоумении от случившегося, король Лифантов, назвав меня по имени, сказал: «Готовься к приговору и отправке, так они делают; за тобой тайно наблюдал в следственной камере психолог, он определял твой характер; от того, как он тебя определил, зависит теперь твоя судьба». К счастью, в этот день в нашем коридоре работал парикмахер из заключенных, уголовник с кратким сроком, отбывавшим наказание в Бутырках. Желавших подстричься и побриться тюремщик вызывал из камеры по одному, и под его наблюдением парикмахер, расположившийся со своим нехитрым набором инструментов на столике дежурного, приводил в порядок заросших арестантов. Я никогда не пропускал этого ежемесячного посещения парикмахера и в этот день был подстрижен, причесан под пробор, побрит. На мне была, вследствие жаркой погоды, только нижняя белая рубашка, только на днях мною выстиранная, с закатанный выше локтя рукавами, я был без гимнастерки. Чистенький аккуратный вид, улыбка на лице от вернувшейся ко мне без допросов жизнерадостности делали мое лицо еще моложе, чем я был, и, конечно, я совершенно не походил на того разбойника, каким я выглядел на фотокарточках, сделанных во Внутренней тюрьме. Такой контраст, очевидно, перетянул чашу весов на мою сторону. На психолога я произвел благоприятное впечатление, и моя жизнь была спасена.
Получение в начале июля первой вещевой посылки от матери косвенно подтвердило благоприятность произведенного мною на психолога впечатления. Если бы решили меня не оставлять в живых, вещевой передачи не разрешили бы. Но одна вещичка, вложенная в передачу, испортила мне всю радость. Чем дольше человек находится в заключении, тем тоньше вырабатывается у него способность к тюремному эзопову языку. Находящийся на воле человек никогда бы не подумал искать какой-либо смысл в том или ином жесте другого человека, переданном предмете и тому подобном. Но в тюрьме, где всякое общение преследуется, а общение даже более необходимо, чем на воле, от этого может зависеть судьба человека, а подчас и жизнь. Тайный смысл формы, назначения, количества обыденных вещей ищется повсюду и более или менее правильно расшифровывается. Моя мать, без всякого тайного от тюремщиков значения, вложила в посылку запонки и зажим для галстука. Галстух из передачи изъяли, чтобы я не мог на нем повеситься, а запонки дошли до меня. А на запонках было изображение слона. Тотчас же для меня стало бесспорно: мать уже знает последовавший мне приговор - CЛ0H, то есть Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Потому она и передала мне, рассудил я, запонки с изображением слона. Мать ничего тогда не знала, да и приговора коллегии ОГПУ еще не было, но интуиция моя предвидела его.
Через неделю после этого, как, как потом стало нам с матерью известно, приговор мне уже был, а ни я, ни мать еще о нем ничего не знали, вдруг я получил внеочередную от нее передачу: только шесть яблок, притом зеленых и совершенно несъедобных. Опять я подумал, что в этой передаче есть смысл: мне дали или шесть лет СЛОНа или «минус шесть» (Освобождение из тюрьмы с запретом проживать в шести главных городах страны (Москва, Ленинград, Минск, Харьков, Киев, Тбилиси) и во всей пограничной зоне). О последнем счастье я уже и не смел мечтать, но надежда все же теплилась. И эта передача была тоже сделана матерью без всякого тайного значения.
Еще через несколько дней мне дали десятиминутное свидание с матерью. Это была огромная радость для нас обоих еще и потому, что это означало еще и то, что я миновал опасность расстрела. Приговоренным к расстрелу никаких свиданий не давали. Из тех же соображений почти не давали свиданий с родственниками каэрам до вынесения приговора.
Обставлено было свидание, не только для нас с матерью, но и для других приговоренных и их родственников, издевательски. Комната для свиданий была разделена на ряд кабин, одна против другой, разделенных двухметровым проходом, по которому взад и вперед ходил тюремщик. Стенки кабин, выходивших в коридор, представляли собой густую металлическую сетку. В одну кабину впускали пришедшего на свидание, в противоположную через проход, соответствующего арестанта. Чтобы разговаривать через два метра, каждый повышал голос, а так как кабин было много - стоял невероятный гвалт, из-за которого ничего не было слышно, что было на руку тюремщикам. Объяснялись больше знаками и улыбками. И через две решетки я увидел, как изменилась мать, сколько муки было в выражении ее лица, хотя она и принуждала себя улыбаться. Она не видела меня пять месяцев, это была ее первая разлука со мной, и кроме того, сколько раз она меня уже хоронила, когда от нее скрывали мое местонахождение. В ОГПУ она уже узнала мой приговор, но в гвалте я не расслышал ничего. Краткое свидание оставило тягостное впечатление. Тепло стало от того, что мать где-то близко в Москве.
А еще через несколько дней, 16 июля, после завтрака тюремщик вызвал меня из камеры в коридор и подвел к столику дежурного по коридору. У столика стоял тюремщик в форме, но без знаков различия в петлицах. Он протянул мне узенькую бумажку: «Распишитесь». Я прочитал: «Выписка из постановления судебного заседания коллегии ОГПУ от 5/VII 29 г». Излишне подчеркнуть, что никакого судебного, в общепринятом значении этого слова, заседания не было, на него меня не вызывали, и «судьи» меня в глаза не видели. Узенькая полоска бумажки была разграничена посередине вертикальной чертой, и слева было напечатано: «Рассмотрев дело по обвинению (далее следовали моя фамилия, имя, отчество, год рождения) по статье 58-й, пунктам 8 и 11 УК РСФСР», а справа от черты: «Постановили: заключить (следовали снова моя фамилия, имя, отчество) в концлагерь сроком на десять лет». «Выписка верна», подпись и печать. Я перевернул бумажку и на обороте написал: «С приговором не согласен, я невиновен» и подписался. Тюремщик, видя, что я пишу, стал вырывать от меня приговор, но я, впервые в жизни оказав сопротивление представителю власти, крепко зажал бумажку в руке, навалившись на стол, и дописал. Тюремщик выхватил у меня бумажку и заорал: «Ишь расписался, все равно не поможет». И без него я знал, что не поможет, протест был почти подсознательный. По приказанию тюремщика меня дежурный отвел в камеру. Уходя, я слышал, как он распорядился, чтоб к нему вызвали Холопцева из соседней камеры.
Я не испытал от объявления приговора особого нервного потрясения. Для того, чтоб осознать всю глубину разверзшейся подо мной пропасти, надо было время. К тому же, приговор я принял как-то не всерьез. И даже не потому, что мне (а это я как-то сразу сообразил) не просидеть десять лет в концлагере из-за своего здоровья, поскольку только за полтора года до ареста я выздоровел от тяжелого заболевания туберкулезом и даже еще ходил, по совету врача, с палкой, которую мне не разрешили взять с собой при аресте, а главное, из соображений влияния на суровость моего приговора обостренной «международной обстановки». В этом направлении меня горячо и вполне искренно поддержали мои друзья—инженеры, казалось, люди весьма умные. В это время происходила война с Манчжурией, почему-то закамуфлированная для советских граждан под названием «события на Восточно-Китайской железной дороге», и 5/VII-29 года коллегия ОГЛУ оптом проштамповала массу приговоров, чтобы очистить тюрьмы для прибывающих из Манчжурии эшелонов с белогвардейцами, захваченными Красной Армией на своих квартирах, где они мирно проживали после отступления из Сибири в конце гражданской войны. Уже более десятилетия пропаганда усиленно вбивала всем в головы, что все репрессии, все зло, причиняемое властью народу, являются только ответными на «происки империалистов». Власти отлично сознавали непопулярность в народе всех своих действий и, пытаясь отвратить от себя народный гнев, переключала его на «империалистов». Как ни странно, эта пропаганда, повторяемая везде и всюду, ежедневно, возымела действие, и даже умные люди, поддавшись ей, вывели теорию, по которой суровость приговоров зависит от международной обстановки и как только обострение уляжется, всех из концлагерей выпустят. Эта концепция ни в коем случае не соответствовала действительности, что с очевидностью показала практика дальнейшего правления Сталина, была крайне наивна, но имела широкое распространение.
В камеру вернулся я все же взвинченный, зачем-то вскочил на нары и, обращаясь к однокамерникам, крикнул: «Я получил десять лет, товарищи, не следуйте моему примеру!». Затем я слез с нар и застыл неподвижно. Не преувеличивая, мои слова ошеломили камеру. Все замерло. В камере воцарилась такая атмосфера, как бывает в комнате, где находится покойник. Многоликая арестантская масса перестала заниматься своими повседневными делами. Такой суровый приговор мне поразил эти восемьдесят людей, в большинстве эгоистов, эгоизм которых поднимался до пределов, совершенно исключенных в нормальной обстановке, из-за желания выжить в суровых условиях тюрьмы, когда они вели борьбу со следователями за место под солнцем. В этой массе застывшей в тишине, конечно, были мои друзья – наставники-инженеры, остро переживавшие за меня, но большинство переживало за себя, за свою дальнейшую участь, и невиновные «контрреволюционеры», и бытовики, и уголовники, совершившие преступления. Большинство, просидевшее со мной по два и более месяцев, хорошо изучили меня, как и все друг друга в таком тесном общежитии. Они прекрасно понимали, что в силу моей наивности и молодости я не мог совершить никакого активного преступления, и общее мнение обо мне было таково, что я где-нибудь что-то неосторожно «сболтнул» и должен отделаться максимум высылкой. Ход мыслей у всех был приблизительно таков: «Если за такую малость этому юнцу дали десять лет концлагеря, то что же ожидает меня»?! Эту мысль вслух хорошо выразил искренне возмущенный суровостью приговора мне, петлюровский атаман Дерищук, обвинявшийся чуть ли не по всем пунктам 58-й статьи: «Если Вам, - сказал он, обращаясь ко мне и тем самым прервав тягостное молчание, - дали десять лет *, то что же ожидать мне, столько лет сражавшемуся на высоких командных постах против советской власти»!?
(*) Предельным сроком заключения в конце 20-х годов и до 1937 года было десять лет.
Сверх этого уже приговаривали к расстрелу, а в виде помилования расстрел заменяли десятью годами. Камера загудела.
За спиной я услышал, как один инженер сказал другому вполголоса: «Я боюсь, что это кончился слезами». Нет, я не плакал, нервы у меня были опять крепкие. Мне было не до слез. Их сушил гнев, закипавший во мне не за себя, не за свою сломанную жизнь, а за попрание идеи правды. Я был настолько привержен справедливости, что в эти минуты и в последующие часы, абстрагировавшись от собственного я, глубоко переживал только за проявленный факт чудовищной несправедливости, глубину которой я мог понимать в камере только один.
Острота впечатления от полученного мною срока прошла, камера перешла к очередным делам, но разговоры обо мне не умолкали.
К действительности меня вернул подошедший ко мне грузный мужчина, посаженный к нам в камеру лишь несколько дней назад, которого я совершенно не знал. «Я сам пекарь, - сказал он, - связь через жену с пекарней у меня не потеряна, попрошу жену передать несколько буханок хлеба мне (в Москве и Ленинграде уже полгода как была карточная система) в передаче, чтобы у Вас был хлеб на этап; может быть, Вас долго будут держать в пересыльных тюрьмах, надо, чтобы хлеб был у Вас». Милый, добрый человек! Я так нуждался в сочувствии, и он так деликатно и по-деловому высказал его мне! Он сдержал слово, всунул мне на этап три буханки хлеба. Если бы я взял больше, он дал бы мне и больше. Спасибо ему за все, в том числе и за хлеб, который действительно очень пригодился!
Постепенно осмысливая случившееся, я пришел к очень невеселым выводам о своей дальнейшей судьбе. Я по-прежнему не верил в реальность десятилетнего срока, убаюканный фальшивой теорией зависимости последнего от международного положения, но интуитивно я испугался другого: превращения десятилетнего срока фактически в пожизненный, зачисления меня на всю жизнь, - легко ли сказать в двадцать три года на всю жизнь?! - Когда еще ничего не было прожито, в касту «неприкасаемых» париев, кого мог лягнуть каждый осел. Я почувствовал, что меня перебросили через какой-то Рубикон, через который назад не перейти ни через пять, ни десять, ни двадцать лет. Я оказался в другом мире, в мире рабов, на всю остальную жизнь, сколько бы мне ни удалось прожить, и пожалуй, чем больше, тем хуже для меня самого. Это моральное состояние не описать. Чтоб понять, его надо самому испытать. Даже приговоренных к пожизненному заключению положение лучше, потому что у них есть надежда на замену им впоследствии пожизненного бессрочного заключения - срочным. А у меня и такой надежды не было. Это был главный моральный удар для меня, и, к сожалению, в жизни угаданные мною интуитивно последствия приговора вполне подтвердились. Двадцать один год после освобождения из лагеря я имел такой паспорт, что не мог проживать даже в областном городе, меня не принимали на работу ни в одно учреждение с более высокими ставками заработной платы, я был отверженным. Так я пострадал от диктатуры Сталина и при жизни его всю свою жизнь был парием. И после реабилитации в 1957 году, формально для всех снова став полноправным советским гражданином, для многочисленного сталинского охвостья я останусь парием до самой смерти.
Неустанно заботясь обо мне, мои друзья-однокамерники, чтобы отвлечь меня от кошмара случившегося и как можно лучше материально обеспечить на путь и пребывание на советской каторге, усиленно заботились о моей экипировке. Получив в вещевой передаче от матери порядочно одежды, в том числе костюм, осеннее пальто и плащ, верхние и нижние рубашки, все разобрав, я решил, чтоб не таскаться с тяжелыми вещами по этапам, где иногда сотни километров заключенных гнали пешком, не предоставляя транспорта для личных вещей, почему вещи приходилось бросать на дороге, истощив свои силы, я решил все теплые вещи, тулуп, ушанку, вязаный жилет и часть белья передать обратно матери. Мои друзья-инженеры, и в особенности пекарь, горячо протестовали против моего решения, убеждая меня, что все это пригодится в Заполярье теперь же летом, а кроме того, неизвестно, возможно ли вообще туда, где я буду находиться, что-либо прислать мне к зиме, и я могу оказаться в морозы в плаще. Все же я не послушался моих наставников и написал заявление на имя начальника Бутырок с просьбой разрешить отослать домой теплые вещи, перечислив их подробно. Мне было отказано, и я почувствовал, что на этапе мне будет тяжело еще и физически. Конечно, мне все очень и очень пригодилось, и очень скоро, но и тащить всю поклажу мне было тоже очень нелегко.
Моя мать, бесчисленное множество раз приезжавшая в Москву за время моего сидения в московских тюрьмах, сначала разыскивая меня, а потом добиваясь разрешения на передачи и свидание со мной, оббив все пороги карательных органов, на этот раз осталась в Москве дольше, чтобы обеспечить меня всем необходимым на долгий десятилетний путь. Она раньше меня узнала о моем приговоре, буквально через несколько дней после его вынесения, в канцелярии помощника верховного прокурора по наблюдению за деятельностью ОГПУ. Такие должности помощников прокуроров были при всех полномочных представительствах ОГПУ на местах и в каждом городе. Ходили они в форме ОГПУ и если и наблюдали, то только за беззаконием, творившимся в ОГПУ, и безусловно только поддакивали работникам этого учреждения, стоявшего выше государственной власти. В Москве в канцелярии такого помощника прокурора были дни, когда в определенные часы можно было узнать о судьбе родственников. Число желавших узнать всегда было больше, чем могла вместить приемная, и поэтому к этому дню недели родственники арестантов занимали очередь с вечера, прячась где-нибудь в соседнем переулке, чтоб не разделить участь своих родственников за организацию сборища у стен столь высокого учреждения. Утром в приемную впускали только тех, родственники которых уже получили приговоры.
После нескольких томительных часов ожидания в до отказа набитом трепещущими за судьбу своих близких помещении, появлялась секретарша с длинными списками. Она предупреждала собравшихся, чтобы все соблюдали тишину, не было бы никаких возгласов, никаких истерик, иначе она прекратит чтение и выгонит всех на улицу. Чтение списков начиналось с минимальных сроков и кончалось расстрелянными. Моя мать страшно волновалась, когда при перечислении сотен фамилий чтец все не упоминал моей. Она боялась услышать мою фамилию в списке расстрелянных. Услышав мою фамилию в списке десятилетников, она утешала себя мыслью, что хоть пока я остался жив. Кроме того, ей бодрости придало то обстоятельство, что узнав ранее меня о приговоре, она имела больше дней для обеспечения меня всем необходимым для отправки и хлопот на разрешение свидания со мной, о котором я говорил выше.
Для меня потекли томительные дни ожидания этапа. К счастью, много времени у меня отнимала тренировка камерных телеграфистов, остающихся взамен меня. Без связи камера не могла остаться. Я был выбит из колеи, тюремная камера, по сравнению с поджидавшей меня неизвестностью, казалась такой милой; не хотелось расставаться с однокамерниками, с теми из них, с которыми я долго сидел вместе и успел подружиться.
Настал вторник 23 июля 1929 года. Как и ежедневно, в шесть часов утра был подъем, сигналом к которому был зычный, нараспев, так чтоб слышали во всех камерах, голос дежурного по коридору тюремщика. Обязательно, по этой команде приходилось вставать спавшим на полу, чтоб дать проход остальным, но на нарах многие не вставали, ожидая следующей команды «поверка». Тогда вскакивали все и становились вдоль нар строем по всей длине камеры. Первая шеренга стояла на полу, вторая ногами на нарах. Слышно было, как последовательно, от начала коридора, хлопали двери камер, наконец, дверь распахивалась, и в камеру входил тюремщик с тремя квадратиками в петлицах в сопровождении дежурного по коридору, подававшего команду «смирно». Обходя строй тюремщик с тремя квадратиками пересчитывал поголовье арестантов и, записав на листке цифры, уходил. Не знал я в это утро, что стою на поверке в камере № 60 Бутырской тюрьмы в последний раз, что и эта тюрьма уже пройденный этап моей юной, но, ох какой, тяжелой, жизни.
После завтрака тюремщик вызвал меня по фамилии и приказал готовиться на этап. Уже за несколько дней до этого у меня были приготовлены два обыкновенных из-под картофеля мешка, собранных для меня в камере. Быстро положив в них остальные вещи, в том числе и буханки хлеба, пекарь связал их мне взявшейся откуда-то толстой веревкой.
Не успел я попрощаться со всеми, как дверь открылась настежь, и тюремщик приказал мне выходить в коридор с вещами. Мне повесили мешки через плечо, груз оказался солидный, и я пошел, пошатываясь, пошел по современному Владимирскому тракту.
Ноги дрожали и от страха перед будущим, и от физической слабости, которую я все же получил, просидев более пяти месяцев на ограниченной площади тюремной камеры, почти исключительно на тюремном пайке. Из других камер тоже выходили с вещами угоняемые на этап. В их числе оказался и Холопцев. Поравнявшись со мной, он коротко спросил: «Неужели и Вам дали, сколько?» - «Десять» - ответил я. Холопцев взглянул расширенными от удивления глазами: «За что же Вам столько!». Это не был вопрос, это было вырвавшееся глубокое непонимание им суровости приговора мне.
Набралось нас человек пятнадцать. Тюремщик повел нас гурьбой по лестнице вниз. На лестнице меня окончательно зашатало от раскачивающихся тяжелых мешков, висевших через плечо, а кто-то сзади меня мурлыкал себе под нос: «Динь-дон, слышен звон кандальный, динь-дон там и тут, То нашего товарища на каторгу ведут».
«Экспресс Москва – Соловки»…
«Экспресс Москва - Соловки, но не обратно», - прочитал я выбитую на стене надпись в пересыльной камере Бутырской тюрьмы, куда нас привел тюремщик. Как и надпись «Hôtel la Butirka», которую я прочитал, когда меня привезли в Бутырки, она была глубоко продолблена в стене, покрылась грязью, как и сами стены, и не видно было никаких признаков, чтобы кто-нибудь пытался ее ликвидировать. Ради истины надо заметить, что вторая часть надписи была только нацарапана на стене и, по-видимому, принадлежала другому автору, обладавшему еще большим юмором, чем первый. Под надписью следовало продолжение ее, также глубоко выбитое в стене и заполненное грязью: «Отправление по вторникам и пятницам, число мест не ограничено». Действительно, был вторник, и этап собирали на Соловки, в Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ.
Пересыльная камера была расположена в нижнем этаже со сводчатым потолком, размерами с большой зал. Мебели не было никакой. Приведенные ранее нас заключенные или просто стояли гурьбой, или сидели у стен на своих вещах. Я прислонил мешки к стене и кое-как на них сел. Хотя сидеть на них было и неудобно, но все же лучше, чем стоять или сидеть на корточках.
Заключенные все прибывали и прибывали и постепенно, в течение двух-трех часов заполнили всю камеру так, что для большинства оставалось места лишь стоять вплотную. Нас оказалось приблизительно около трехсот заключенных. Становилось душно, несмотря на открытые фрамуги, при июльской жаре явно не хватало воздуха. Заключенные перестали прибывать, а формирование этапа все не начиналось.
Это издевательство над заключенными являлось следствием не только неповоротливости бюрократического строения тюремного аппарата или возникшей на почве бюрократизма очередной неувязки между администрацией тюрьмы и подразделением конвойных войск, принимавших этап. Корни столь заблаговременной концентрации заключенных в пересыльной камере заключались не просто в наплевательской отношении к лицам, лишенным всех прав, а в сознательном ослаблении их физического состояния, истощения сил заключенных с целью понизить их возможность на побег при перевозке на вокзал. Эта цель достигалась при содержании массы заключенных в скученном виде, на ногах и без воды, весьма много часов; для перевозимых последними это время достигло почти двенадцати часов. Большинство выводимых конвоем из камеры еле держалось от усталости на ногах, о каком-либо сопротивлении конвою, если бы кто его и задумал, не могло быть и речи.
Ни сидеть на вещах, ни стоять становилось невмоготу. Теснились к окнам, но и это не помогало. О еде никто не думал, мечтали о глотке воды.
Формирование этапа началось только в середине дня, когда заключенные обессилели. В камеру вошло несколько солдат конвойной команды под начальством командира взвода конвойных войск с одним квадратиком на серо-голубых петлицах. Вместе с ним пришел тюремщик в форме ОГПУ с тремя квадратиками в петлицах, и затем внесли в камеру стол, еле втиснув его у дверей, между заключенными, стоявшими так плотно, что солдаты, действуя винтовками, как живым барьером, никак не могли еще более нас спрессовать, освободить пространство вокруг стола. За стол сели тюремщик и комвзвода. Тюремщик из стопки брал пакет с личным делом заключенного, выкрикивал фамилию, написанную на пакете. Каждый пакет был запечатан пятью сургучными печатями. Вызванный заключенный, протиснувшись через толпу с вещами, подходил к столику. Комвзвода сверял имя, отчество, год рождения, статью уголовного кодекса, по которой заключенный получил срок. Если все сходилось, стрелок выставлял заключенного за дверь камеры, а пакет переходил к командиру конвойной команды. На каждого заключенного уходило от двух до трех минут, а нас было несколько сотен. Вызывали не по алфавиту, что увеличивало время на каждого заключенного, пока он продирался через толпу. Кроме этого, всех держали в напряжении, несколько часов все время приходилось вслушиваться. Только в процессе вызова, и то только к концу, выяснилась некоторая закономерность последовательности вызовов. Сначала вызывали получивших трехлетний срок, затем пяти, шести, восьми и т.д. летние сроки, и в последнюю очередь нас, десятилетников, которых стали вызывать уже в сумерках, нам тяжелее всех досталось это ожидание.
В середине формирования этапа вызвали мою фамилию. Протискавшись через толпу с мешками, я подошел к столику. Одновременно подошел и пожилой заключенный с окладистой бородой. Потом я с ним познакомился ближе. Он был старый рабочий печатник, посаженный за принадлежность к секте баптистов. Он был мой однофамилец, и вызвали его, а не меня, так как он имел срок пять лет, до десятилетников было еще далеко, я вернулся обратно и в изнеможении сел на мешки. Физическая усталость, напластываясь на угнетенное моральное состояние, делала дальнейшее ожидание нестерпимым. Такую пытку можно еще было бы вынести, если бы вызов к столику заканчивался выходом из тюрьмы на волю. За свободу можно было бы заплатить ценой таких мучений. Но терпеть такие муки, чтобы попасть на десять лет в концлагерь, было выше всего, что можно было себе представить, что можно было бы перетерпеть. Забыв свой долг перед матерью и бабушкой, я даже стал завидовать расстрелянным!
Когда в камере осталось тридцать пять - сорок заключенных, вызвали меня. Как потом я сообразил, узнав от матери, что поезд с нашим этапом ушел из Москвы в одиннадцать часов вечера, вероятно, моя очередь подошла часов в девять вечера. Шатаясь от усталости, я вышел с солдатом в коридор, где уже было с десяток заключенных, вызванных передо мной. Когда в коридоре набралось нас двадцать заключенных, может быть, немного больше, солдаты поставили нас по двое. Солдаты щелкнули затворами и повели во двор, где стояло несколько грузовых автомашин. Нас подвели к одной из них и приказали залезать в кузов. В кузове нас усадили, кого на вещи, кого на корточки, по четыре в ряд спиной к кабине. Когда была заполнена машина, в кузов влезло четыре солдата с винтовками и младший командир с наганом. Солдаты стали с винтовками к ноге в четырех углах кузова лицом к заключенным, младший командир сел на кабину шофера, свесив ноги в кузов и вынув из кобуры наган. Практически этот конвой не мог бы оказать сопротивление восставшим подконвойным заключенным, так как солдаты вместе с винтовками были прижаты нашими телами вплотную к борту, доходившему солдату только немного выше колен. При ударе солдат бы вылетел из машины навзничь, а командира легко было бы стащить за ноги в кузов. Начальство конвойной службы великолепно знало, что подавляющее большинство заключенных, в особенности каэры-десятилетники, невиновные люди, лояльные к советской власти и сопротивляться не будут. Больше того, для девяноста девяти процентов заключенных-каэров вообще не требовались этапы. Ну, кто бы из них, имеющих семьи, осмелился ослушаться органы ОГПУ, если бы ему было просто приказано явиться на Соловки. И государству было бы дешевле, и в лагерь являлся бы трудоспособный, физически крепкий человек. При массовых отправках такого рода, вероятно, у железнодорожных касс была бы давка, так как все спешили бы запастись билетом, чтобы выполнить приказ явиться в срок в концлагерь, не опоздать к указанной дате! Конвой имел скорее психологическое воздействие, выполняя формально свое назначение.
Младший командир обратился к нам с речью: «Граждане лишенные свободы! Предупреждаю, что при попытке встать при движении машины конвой стреляет без предупреждения». Взревел мотор, и машины с нами выехали за ворота Бутырской тюрьмы. До этого я никогда не ездил с такой скоростью. Освещенные окна буквально мелькали перед глазами, непонятно, как мы не перевернулись на поворотах, где солдаты буквально хватались за нас, чтобы самим не вылететь из кузова. Выпрыгнуть на такой скорости было равносильно самоубийству. Скорость и только скорость могла удержать от попытки побега, но не конвой.
Привезли нас на какие-то задворки Ленинградского вокзала, подав задом к высокой платформе, у которой вереницей стояли вагоны, один классный, с решетками на окнах, четыре других «столыпинские», то есть тюремные, специально приспособленные для перевозки заключенных. Один из заключенных, попавший в такой вагон, потом подробно описал его мне: Вагон состоял, как он мне рассказывал, из купе, имевших вместо стенки и двери в коридор, решетчатую дверь, запираемую на замок. Купе состояло из двух ярусных нар, на которые вплотную клали заключенных, головами к коридору, ногами к наружной стенке. Поворачиваться головой к стенке не разрешалось, да и физически было невозможно, так как лежали так тесно, что поворачиваться с бока на бок было затруднительно. В верхней части наружной стенки было маленькое окошечко, забранное решеткой. Со стороны коридора в стенке вагона были нормальные окна железнодорожных вагонов старого образца, но тоже с железными решетками. По коридору все время ходил конвоир.
Рядом с нами в одну линию стояли грузовые автомашины, из кузовов которых по одному выходили на платформу заключенные, проходили сквозь строй солдат и заходили в вагоны. Вдали обширного двора, теснимые цепью солдат конвойных войск, стояла многочисленная толпа родственников угоняемых заключенных, чтобы в последний раз взглянуть хотя бы издали на дорогих их сердцу людей. Я знал, что в их числе должна быть и моя мать. Но как я ни всматривался, я ее так и не увидел - расстояние было большим, хотя и хорошо освещенным. Кроме того, и сидел спиной к толпе, и чтобы посмотреть, мне приводилось поворачивать голову, а каждый раз конвоир толкал меня в плечо и шипел: «Перестань смотреть».
Дошла очередь разгрузки и нашей машины. Солдат толкал заключенного и приказывал: «Выходи». Солдат толкнул меня. Инстинктивно мне не хотелось ехать вместе с уголовниками, а знакомых, хотя бы чуть-чуть каэров, я не видел в нашей машине, не было ни Холопцова, ни Воробьева, ни Васькова, которых я видел в пересыльной камере. Не обдумывая возможных последствий своего поступка, забыв прирожденную дисциплинированность, я вторично оказал сопротивление представителям власти, резким движением освободив плечо от руки взявшего меня солдата. «Я поеду только со своими», - заявил я решительно. Два солдата схватили меня за руки, пытаясь вытащить меня из кузова автомашины насильно, но и они отлетели от меня. Нервный подъем дал мне такую физическую силу, которой я никогда не обладал. На шум подскочили отделенный командир, а затем, как впоследствии я узнал, и сам начальник конвоя с одним квадратом в петлице, тот самый, который принимал пакеты о заключенных в пересыльной камере. Солдаты доложили о моем сопротивлении к погрузке в вагон. Я, в свою очередь, заявил о причине неподчинения. Не знаю до сих пор, что побудило начальника конвоя обойтись без шума, избрать единственно правильный в отношении моей натуры путь, чтобы привести меня снова в подчинение, не прибегая к грубой силе. Или растерянный вид солдат, не привыкших к неповиновению заключенного, или мой исступленный вид в сочетании с аккуратно надетой на меня приличной одеждой, что так отличало меня от уголовников, доставлявших много хлопот конвою по сравнению с дисциплинированными каэрами. Начальник конвоя просто сказал мне: «Вы поедете с политическими», повернулся и пошел. И почему-то я ему поверил, взял свои мешки, прошел через строй солдат, стоявших от машины до входа в классный вагон, и вошел в него.
В одном из первых от входа отделений я увидел инженера Васькова, Холопцева, Воробьева, Бычкова - своих спутников по перевозке из Ленинграда в Москву. Я присел к ним. Здесь же оказались еще три черниговца: Снежков, Бар и один еврей из Киевского сельскохозяйственного института, все три почти мои однолетки. Все, как и я, также получили по десять лет концлагеря.

Бар Юрий Иванович

Снежков Анатолий Никонорович

Брегин Леонид Ильич

Мекшун Семен Игнатьевич
Десятилетником оказался также офицер Русской армии Новиков из Киева, по специальности газосварщик, и один инженер, занявший место за проходом. На другое место за проходом сел солдат- конвоир с винтовкой.
Инженер Васьков обратился при посадке к начальнику конвоя с просьбой перевести в наш вагон своего отца и друга отца, попавших в «столыпинский» вагон как трехлетники. Наш классный вагон, как я потом узнал, был надежнее в смысле предупреждения побега путем выпиливания отверстий в полу или стенке, так как вагон был окован пятимиллиметровым листовым железом и назывался «кованым». Поэтому он и предназначался для перевозки десятилетников и заключенных «склонных к побегу». Таким образом, мы все, получившие десятилетний срок, испытали на себе его первое преимущество - ехать по этапу в человеческих условиях в классном вагоне, а не задыхаться среди шпаны в «столыпинском» вагоне. Просьба Васькова была удовлетворена, и в наше отделение были доставлены Васьков-отец, премилый пожилой человек, бывший чиновником в дореволюционное время, и его друг Ласкоронский - мелкопоместный черниговский помещик. Оба спокойно проживали в Ленинграде, верно служили в каком-то советском учреждении. Они получили трехлетние сроки по делу черниговского союза социал-демократической молодежи, хотя следователь и не вменял им в вину членства в этой организации, а считал их «идейными вдохновителями» контрреволюционных поступков молодежи.
.jpg.webp)
Васьков Юрий Борисович

Васьков Борис Павлович

Ласкоронский Николай Андреевич
В нашем отделении оказался еще один трехлетник-уголовник. Он попал в «кованый» вагон как заключенный, склонный к побегу. Он не первый раз получал срок заключения, дважды бежал с этапов, несмотря на то, что был без одной ноги и ходил на костылях. Раз он уже был и на Соловках и в пути о многом нас информировал. Был он цепкий, как обезьяна, - моментально забрался на третью продольную полку, где и устроился, подложив под голову тощий вещевой мешок.
Как только тронулся пассажирский поезд Москва-Ленинград, к которому прицепили все пять вагонов с нашим этапом, начальник конвоя стал обходить вагон. Он пояснил, что в целях предотвращения воровства на этапе ему можно сдать на хранение деньги. Была ли это действительно забота о нашем благополучии или за этим скрывалась цель лишить нас денег, чтоб затруднить побег, но все охотно вверили ему имевшиеся у нас деньги, оставив при себе лишь мелочь, и получили от начальника квитанции на полученные им от нас суммы.
Проведя целый день в духоте, в напряжении, на ногах, мы, естественно, были и голодны, и хотели спать. Из чемоданов сделали стол между скамейками и, вывалив на него свои запасы по-братски, мы все поели и легли спать на нижних скамейках по двое, на вторых полках Васьков-отец и Ласкоронский, кое-кто забрался на третьи полки, остальные легли на полу.
С рассветом почти на всех станциях у нас начались свидания, у меня с матерью, у инженера Васькова с женой. Эти две мужественные женщины выехали из Москвы одним поездом с нами, чтобы хотя бы издали на станциях секундами видеть дорогие им лица, через окно с решеткой. На каждой станции конвоиры, вылезавшие по одному из каждого вагона для оцепления этапа, отгоняли их, конвоир в вагоне отгонял нас от окна, но все мы их видели, а они нас.
Днем мы приехали в Ленинград на Московский вокзал. Пока выходили пассажиры, и наши вагоны стояли у перрона, я увидел на последнем свою бабушку, которая, предупрежденная телеграммой, поданной матерью, приехала на вокзал. Вместе с ней была и моя мать. Вскоре вместе с составом нас откатили от перрона, долго гоняли по запасным путям и, наконец, поставили где-то далеко от вокзала. Вскоре я снова увидел свою бабушку, которая разыскала наш состав. Окно было спущено, сменившийся внутри вагона конвоир моих лет не отогнал меня от окна, он отвернулся, как будто не видел ничего. Может быть, и у него в далекой глухой вятской деревушке была бабушка, к которой он был привязан и тосковал по ней. Расстояние было большое, разговаривать мы боялись, чтоб не привлечь внимания к себе. Еще до революции бабушку разбил паралич. После лечения она оправилась от болезни, но левой рукой и ногой она владела все же плохо. Переживания за меня усугубили ее недомогание, она устала и от розыска по путям этапа на запасных путях. Она немного походила, а потом села прямо на землю и долго смотрела на меня.
Так я ее видел в последний раз. Десятилетний приговор мне для нее оказался смертельным. Потрясенная случившимся с единственным горячо любимым внуком, на которого она перенесла все надежды после смерти своего сына, она умерла через четыре месяца после этого от сердечного припадка.
Вскоре пришла мать, которая принесла мне продуктов на дорогу. Конвоир милостиво принял их и передал мне, после чего, помахав мне и улыбнувшись через силу, мать с бабушкой ушли.
Собрав оставшиеся у нас деньги, мы попросили конвоира принести нам обед с вокзала. Уважение к пожилым людям, наследственная привычка повиноваться господам были заложены в натурах этих простых вятских парней значительно глубже, чем внушаемые им на политзанятиях марксистские истины о классовой ненависти, бдительности по отношению к контрреволюционерам. Я поразился, когда конвоир, выслушав просьбу Васькова-отца, тотчас же взял два ведра и деньги и пошел по путям. Вскоре он принес нам ведро котлет и ведро макарон. Поели мы на славу.
Хотя белые ночи в Ленинграде уже кончились, все же и около полуночи еще было светло, и мы, попив чаю из принесенного нам конвоиром большого чайника, так и не дождавшись темноты, расположились на ночлег. Вскоре я проснулся от толчка прицепляемого паровоза. Взад и вперед возили наши вагоны долго, затем последовал еще один толчок, и через несколько минут, после сильного рывка наш состав стал набирать скорость. Солнце было еще низко над горизонтом, его лучи косо пронизывали через окна, по ходу поезда справа, весь вагон, освещая лица спавших заключенных. Неяркий свет, ложившийся полосами, еще более подчеркивал бледно-зеленоватый нездоровый цвет кожи, приобретенный за долгие месяцы нахождения в камерах, тот цвет, который свойствен растениям, выросшим в темноте. Каждый стук колеса на рельсовом стыке напоминал об увеличивавшемся расстоянии от родного города, о пути в совершенную неизвестность, которая ничего хорошего не обещала. С такими грустными мыслями я снова заснул, хотя сон был тревожный и от частых остановок с дерганием паровоза при отправках, и от напряжения нервов, которым не от чего было успокоиться.
После утреннего чая из большого чайника, принесенного нам конвоиром во время долгой стоянки на станции Мга, черниговцы начали болтать, вспоминая свои совместные детские шалости. Васьков-отец и Ласкоронский тихо между собой переговаривались. Инженер с высоким лбом вступил в разговор с конвоиром. Мне совестно было за этого представительного человека, он как-то заискивал перед мальчишкой- конвоиром, который по своему низкому культурному уровню даже не понимал многих слов, которыми пересыпал свою речь этот высокообразованный интеллигент, пытавшийся доказать, что он не преступник. Конвоир упорно доказывал в ответ, что инженер - вредитель, и не согласился со своим подконвойным, что вредительство не обязательно производная злого умысла, а скорее ошибки, возможной в каждом деле. К сожалению, высокий лоб инженера не соответствовал содержанию его речи.
Чувствуя себя по-прежнему чужим среди этой молодежи, спаянной с детских лет узами дружбы, я смотрел в окно, не принимая участия в их разговорах. Несколько особняком от всех держался Снежков. Чувствовалось, что его недолюбливали. За дни этапа я мог убедиться в невысоком уровне его умственных способностей, делавшем его наиболее фанатичным последователем идеи, за которую пострадали все его однодельцы. Его явно раздражала их болтовня о детских шалостях, в то время как он хотел, не теряя времени, разрабатывать план дальнейшей работы Союза в условиях концлагеря. Кроме того, он считал эту молодежь повинной в провале Союза, вследствие неприятия ими системы строгой конспирации «пятерок». Он считал, и в этом он был абсолютно прав, что при невозможности быть уверенным во всех членах организации, друг друга знать должны только пять членов группы. Такие группы должны сноситься друг с другом только через старших групп, входящих в вышестоящую пятерку, и т.д. Я с ним был вполне согласен, что такая система организации уменьшит количество жертв провала, многие, возможно, остались бы вне поля зрения ОГПУ и были бы спасены, но, очевидно, его план не был принят, так как молодежь не была склонна скрывать свои высокие идеалы и не могла понять существования мерзавцев, могущих выдать их, растоптав гуманные идеи, или наличия молодежи, отнесшийся к последним просто безразлично. Наивность их мешала им принимать элементарные меры самозащиты. Все это поведал мне Снежков, когда вечером третьих суток нашего продвижения к Соловкам мы сидели с ним у окна друг против друга. Рассказал он мне и о многом другом, пролившим для меня свет на источник трагедии, в которую попал и я. Мне стало ясно, как ОГПУ воспользовалось наивностью и высокими идеалами этих молодых людей для кровавой расправы с членами союза социалистической молодежи.
Впоследствии фанатизм Снежкова оказался весьма нестойким и, в отличие от других членов организации, сохранивших и в разлагающей обстановке концлагеря высокие моральные качества, толкнувшие их на воле на борьбу с диктатурой большевиков, о нем, о Снежкове стали плохо отзываться. Проработав некоторое время лесорубом на Соловках, выдвинутый в десятники на лесозаготовках, он усвоил приемы тюремщиков и стал «дрынщиком» («дрынщиками» называли тех командиров, начальников, прорабов и вольнонаемных и заключенных, которые избивали заключенных длинной палкой, по-лагерному «дрыном»). Из борца за народ Снежков превратился в его погонщика.
А поезд, хотя и очень медленно, с долгими стоянками на каждой станции и разъезде, тащил нас все дальше и дальше на север по Мурманской, теперь Кировской железной дороге. Природа становилась все суровее. Карелия поразила меня своей суровой и в то же время ни с чем не сравнимой первозданной красотой. Невысокие каменистые гряды – «сельги» чередовались с впадинами с быстрыми ручейками и непроходимыми болотами, покрытыми густыми хвойными лесами, непроходимыми из-за бурелома. Я не мастер описывать природу, это сделал в отношении Карелии писатель Михаил Пришвин. Когда, несколько лет спустя, я прочел его книгу «Край непуганого зверя», я снова пережил то, что увидел на этапе сквозь решетку вагонного окна. Чем дальше мы продвигались в глушь лесов, тем величественнее становились лесные гиганты, порой шуршавшие своими замшелыми огромными ветвями по стенкам вагона, как будто пытаясь остановить поезд, образумить людей, везущих на страдание себе подобных.
Но конвоиров это не трогало, они без раздумья выполняли устав конвойной службы. У нас в душах эта суровая красота отдавалась сознанием нашего углубления в дикий край, в дикую жизнь, так не похожую на городскую, к которой мы все привыкли с детства.
Свежий воздух, струившийся через открытые окна, физический покой, восстанавливающий силы, путешествие, хотя и подневольное, по-видимому, настолько благотворно подействовали на массу заключенных, что вдруг совершенно неожиданно перед вечером четвертых суток пути какой-то звонкий молодой голос из другого вагона запел «Вечерний звон». Десятки голосов заключенных из всех пяти вагонов подхватили песню, и сквозь лязг буферов и стук колес над лесными просторами полилась эта трогательная песнь: «Как много дум наводит он». Лилась песнь из недр замученных душ, лилась свободно из-за решеток тюремных вагонов, и не было силы остановить ее. Конвоиры замерли на своих постах, поддавшись очарованию ее слов. Ее пели долго, повторяя куплеты, пели оторванные от семей, от края родного: «и в краю родном». Поезд подходил к станции Медвежья гора, где в обход горы, следуя извилине береговой линии Онежского озера, железнодорожный путь делает поворот почти на 180° на очень малом радиусе кривизны. Прильнув к окнам, мы только теперь поняли, что находимся в голове очень длинного товарного состава, красные вагоны которого, видневшиеся в хвосте, особенно рельефно выделялись на фоне зеленого леса на склоне горы в лучах заходящего солнца. Это поразительное сочетание красного с ярко-зеленым потрясало своей красотой, особенно нас, так долго видевших лишь серые стены и полуосвещенные камеры. По-видимому, все отвлеклись этой красивой панорамой, и песнь затихла.
Мы несколько раз пытались узнать у конвоиров продолжительность нашего пути, но безуспешно. Приходилось опускаться до уровня философии Митрофанушки: «извозчик довезет», только наш извозчик был не с кнутом, а с винтовкой.
Вечером 27 июля, когда начались пятые сутки после отъезда из Москвы, начальник конвоя стал вызывать нас по одному к себе в купе, вручал деньги в обмен на квитанции и спрашивал, не имеется ли жалоб на конвой. У меня лично не было, да, наверное, и у других никого не нашлось, потому что конвоиры с нами обращались по-человечески, в пределах культурного уровня их, в рамках устава конвойной службы. Вероятно, если бы кто-нибудь и заявил претензии, вряд ли это имело какие-нибудь последствия в лучшую сторону по конвоированию заключенных.
После отцепки, что-то около полуночи, наших вагонов от товарного состава в Кеми нас повезли в обратном направлении довольно тихим ходом. Мелькали болота, низкий редкий кустарник. Огромные валуны, в лучшем случае прикрытые лишь слегка лишайниками, в косых лучах низко стоящего солнца казались еще больше, отбрасывая большие длинные тени.
Вагоны остановились, в окна подул холодный ветер, как будто запахло водой. Можно было подумать, что мы доехали, но никаких распоряжений от конвоя не последовало, и мы улеглись спать в сиянии белой ночи с очень яркой алеющей полоской зари на севере. Казалось, что солнце держится совсем близко за горизонтом и вот-вот снова покажется, брызнув на нас снопом лучей, так согревающих исстрадавшиеся души. Однако в этих широтах даже лучи солнца были холодными, они скорее раздражали, чем грели нас, почти круглосуточным свечением. Особенно это сказывалось на южанах, не знавших белых ночей. Их организмы привыкли отдыхать в темноте. Сон в эту ночь был тревожным, интуитивно все чувствовали себя на пороге концлагеря.
«ЭТАП ПРИНИМАЮ СЕГОДНЯ Я!»
«Этап принимаю сегодня я!» - возглас, который донесся к нам в вагон через открытое окно, который привлек наше внимание. Мы прислонились к решеткам окон и увидели маленького рыжеватого еврея в невиданной форме. Ему принадлежали услышанные нами слова, произнесенные с явным бахвальством. По-видимому, он был очень доволен собой и размахивал длинным дрыном. С ним стояла группа людей в такой же невиданной форме. Они были одеты в длинные двубортные куртки из солдатского сукна, у некоторых в талию; последнее считалось лагерным шиком. Воротники и манжеты курток были черными (отличительный знак командного состава внутренней невооруженной охраны лагеря из заключенных). Такого же цвета был и околыш фуражки военного образца. Зеленые полугалифе, обмотки и ботинки дополняли наряд комсотавцев. На левом рукаве у них была нашита одна черная полоска, указывающая на должность командира взвода. У еврея Шнейдера, поскольку он был помощником командира роты, на рукаве чернели две полоски. Вскоре по собственному опыту и по рассказам других заключенных мы узнали о свирепости Шнейдера. Не скрывая своего национализма, ненавидя всеми фибрами своей души ненавистных ему гоев, то есть все национальности, за исключением еврейской, Шнейдер не устанавливал никаких границ своей жестокости при обращении с заключенными. Он хромал на одну ногу, за что получил в лагере прозвище «колченогий Шнейдер». Нога у него неправильно срослась после перелома, нанесенного ему одним подчиненным ему заключенным, выведенным из себя его долгими жестокими побоями. Излишне говорить, что заключенный был расстрелян. Будучи курсантом Кремлевской школы имени ВЦИК (Кремлевская школа красных курсантов комплектовалась наиболее проверенными членами большевицкой партии и готовила командный состав для Красной Армии. ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет (съезда советов)), Шнейдер за уголовное преступление был осужден на три года концлагеря, по прибытии в который попал в командный состав. Сведения о его жестоком обращении с заключенными проникли за пределы лагеря, и коллегия ОГПУ вынуждена была дать ему «довесок», как в лагере называли дополнительный срок заключенному, который последний получал, не отсидев в лагере еще и основного срока. Добавили ему три года заключения, но начальник концлагеря оставил его в комсоставе, что Шнейдер воспринял как поощрение его жестокого обращения с заключенными.
Итак, нам предстояло поступить под командование Шнейдера. Началась разгрузка вагонов. Заключенных выстраивали с вещами в одну шеренгу под охраной конвоиров, начальник конвоя передавал пакет с личным делом заключенного Шнейдеру и выкрикивал фамилию заключенного. Шнейдер передавал пакет писарю, бывшему с ним, и кричал: «бегом!», «веселей!», «в лагерь бежишь!», «на перековку торопись!» («перековка» означала по-лагерному перевоспитание заключенного). Заключенный с вещами должен был бежать сквозь строй комвзводов и становиться в другую шеренгу, охраняемую вооруженными охранниками войск ОГПУ, как их официально называли, стрелками ВОХР (Вооруженная охрана). На пробегавшего сквозь строй комвзводов заключенного сыпался град ударов дрынами. Чем скорее заключенный пробегал это расстояние, тем меньше ударов успевали ему нанести.
Дошла очередь и до нашего вагона. Нас выгрузили, построили, и началась передача от конвоя Шнейдеру с бегом через строй издевающихся комвзводов. Когда начальник конвоя выкрикнул мою фамилию, я с максимальной скоростью проскочил сквозь строй, защитив голову вещевыми мешками. Господь пронес меня невредимым, досталось моим мешкам, но не мне - я не получил ни одного удара. Многие очень пострадали, были рассечены головы, лица, большинство ощупывало ноги, руки, ребра. Васькову-отцу, Ласкоронскому, Новикову и инженеру с высоким лбом Шнейдер оказал снисхождение и милостиво разрешил пройти из строя в строй шагом, минуя комвзводов.
Построили нас по четыре в ряд. Колонна оказалась длинной. По бокам стали стрелки ВОХР с винтовками наперевес и комвзводы с дрынами. Шнейдер с командиром отделения ВОХР вышел вперед, чтобы возглавить колонну. Командир отделения ВОХР подал команду: «Внимание!». Эта команда в лагере заменяла армейскую «смирно». «Шаг вправо, шаг влево от колонны считается за побег, конвой стреляет без предупреждения», продолжал выкрикивать командир отделения ВОХР. Щелкнули затворы винтовок. «Ма-арш» скомандовал командир отделения. Ряды заколыхались, колонна двинулась за Шнейдером.
Мешки резали плечо, казалась, что они становятся все тяжелее. Рядом со мной шагал худенький мальчишка, лет четырнадцати, из уголовников. На нем была только нательная рубашка с чужого плеча и кальсоны. Верхняя одежда и головной убор отсутствовали. Шел он босиком. Я сунул ему двадцать копеек и перевалил на него свои мешки. Я не был королем и потому должен был платить за услуги; кроме того, мне пришлось зорко наблюдать, чтобы мой носильщик не скрылся с моими мешками или не обчистил их с другим шпаной на ходу. Через несколько десятков шагов я сжалился над своим носильщиком и взвалил мешки снова на себя. Мальчишка еле передвигал ноги, до того он был истощен.
Ни у кого из нас не было часов. Свои я не взял с собой при аресте по приказу уполномоченного, у остальных часы отобрали при поступлении в тюрьму. По солнцу, не зная стран света, тоже время нельзя было определить, хотя бы приблизительно, так как в высоких широтах в летние месяцы солнце, делая почти полный круг над горизонтом в течение суток, в то же время проходит, даже в полдень, очень низко над горизонтом, по орбите с очень малым углом наклона. Никто не знал, в котором часу начали принимать этап, сколько времени мы идем по этой пыльной гати на зыбучем болоте. Казалось, что под колонной гать куда-то вдавливается, а окружающее ее болото вздымается. Казалось, что от железнодорожной ветки, куда загнали наши вагоны, до концлагеря дороге не будет конца. Но вот колонна стала замедлять движение, ряды набегали друг на друга и останавливались. Когда улеглась пыль, я увидел далеко впереди во главе колонны деревянную арку ворот и тянувшиеся в обе стороны от нее проволочные заграждения территории лагеря с высокими деревянными сторожевыми вышками, на которых угадывались фигуры охранников с винтовками – «попки со свечкой», как их называли заключенные («попка», то есть попугай, потому что, не отвечая по уставу на вопросы, с заключенными они объяснялись только заученными командами, а штык, приставленной к ноге винтовки, напоминал свечку, как держат ее на заупокойных службах по покойникам, потенциально каковыми были все заключенные).
Колонна снова заколыхалась, мы стали медленно продвигаться к воротам. Подойдя к воротам, мы увидели, что здесь идет новая приемка нашего этапа. По обеим сторонам открытых ворот стояли два охранника с наганами в кобурах и вели счет проходившим через ворота рядам. «Восемьдесят второй», разом крикнули оба охранника при прохождении нашего ряда через ворота. Тут же стоял Шнейдер и командир отделения ВОХР. Когда через ворота прошел последний ряд колонны, ворота закрыли, но колонну задержали уже в пределах лагеря. По возгласам от ворот, долетавших до нас, можно было заключить, что число прошедших рядов, помноженное на четыре (количество заключенных в каждом ряду), не дает цифры численности этапа, принятого от железнодорожного конвоя. Недоразумение скоро разъяснилось, когда инженер, наш попутчик, на свой страх и риск вмешался в спор охранников. Последние были малограмотные и никак не могли правильно помножить двухзначное число на однозначное, вследствие чего у них получалось то больше, то меньше действительного числа заключенных в этапе. Ругаться им между собой надоело и они поверили инженеру.
Снова двинулись вперед, но уже по территории, так называемой «зоне» Кемского пересыльного пункта (Кемперпункта) Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ. Кемперпункт был расположен в двенадцати километрах от города Кемь на Поповом острове в дельте реки Кеми при впадении ее в Белое море. Годами сваливаемые в неглубокий, с большими валунами на дне, пролив отходы лесопильного производства соединили остров с материком перешейком большой ширины. Непосвященный никогда и не подумал бы, что это был остров, а не мыс. Справа и слева от нашего пути, как дома на улице, стояли многочисленные одноэтажные бараки для заключенных, лишь немногие срубленные из бревен, большинство дощатые с засыпкой из опилок между досок. Бараки стояли торцами к улице с интервалом двадцать - тридцать метров. Бросалось в глаза отсутствие нивелировки площади застройки, всюду торчали большие валуны, на которые нередко опирались углы бараков. Всякие зеленые насаждения также отсутствовали.
У бараков по одному и по два стояли заключенные и смотрели на нас. Я был поражен безликому типу советского каторжанина. Или совершенно одинаковая одежда бело-зеленого цвета и одинаковые черные без подкладки и меха ушанки, или одинаковые позы, выражающие полное безразличие, полное отсутствие какой-либо цели в жизни, которая могла бы проявиться в какой-либо другой позе, повороте туловища, но смотрящие на нас заключенные были, как мне показалось все на одно лицо. И эти лица были какого-то болезненного бледного цвета, без единого выражения какого-либо чувства - как восковые куклы! Страшнее всего были их глаза: безнадежные, усталые, равнодушные. Конечно, в их монотонной лагерной жизни, где один день так похож на другой, прибытие этапа было все же каким-то развлечением, и тем страшнее было их безразличие к нам, ни сочувствия к пострадавшим со стороны добрых, ни злорадства со стороны озлобленных, ничего, ничего, они смотрели на нас, как посторонние дачники, не любящие животных, издали смотрят на возвращающееся с пастбища стадо коров. Поистине ужасно, что делает концлагерь с людскими душами и в короткий срок, так как смотрели на нас заключенные с малыми сроками заключения, сравнительно еще мало находившиеся в лагере. В худшем случае это были пятилетники, притом это были дневальные бараков, находящиеся на сравнительно легкой работе, попавшие на нее либо по блату, либо уже негодные на тяжелые физические работы, потерявшие ранее на них свое здоровье.
Если время дня по солнцу определить было трудно, то счет дням я не потерял и вдруг вспомнил, что прибыли мы в лагерь 28-го июля. Прибытие в лагерь в этот день для меня лично еще более усугубило моральный удар, так как надо же было попасть в концлагерь в день величайшего индивидуального праздника каждого христианина - в день своих имянин. 28-го июля, или 15-го июля по старому стилю, Русская Православная Церковь отмечает день Святого Равноапостольного Князя Владимира, приобщившего русский народ к христианству, к мировой культуре. Трагичнее ничего нельзя было придумать. Я никогда не был суеверным, но тут среди воспоминаний празднования дня своих имянин год назад я невольно вспомнил одну подробность, очень подействовавшую на мою мать. Есть поверие, что разбитое зеркало приносит несчастье разбившему его. Ровно год тому назад в день своих имянин я брился, уронил зеркало, и оно разбилось, а через год в этот же день я угодил в концлагерь.
Нашу колонну привели на большой плац и приказали вещи складывать у столба электрической линии посередине площади. Затем нас снова построили по четыре в затылок друг другу, развернув фронтом к середине плаца. Я оказался в первой шеренге. Вдоль фронта и позади колонные прогуливались комвзводы с дрынами. Шнейдер с писарями исчез. Конвоиры ВОХР отстали от нас при проходе через ворота лагеря. Время тянулось медленно, чувствовалась усталость и от марша, и от короткого беспокойного сна. Да и стоять на ногах без движения тоже было нелегко. Не было ни малейшего ветерка, солнце стало припекать. Хотелось пить и есть. Комвзводы из строя не выпускали, заставляя стоять почти по команде «смирно»; ворочавшихся на месте тыкали дрыном, на вопросы, долго ли стоять, посмеивались, но не отвечали. Пытка становилась почти невыносимой.
Возможно соскучившись, возможно чтоб показать свою власть, комвзводы начали обучать нас ответу строя на приветствие начальника. Чтобы выходило стройно «здра»(вствуйте), один из комвзводов объяснил строю, что когда начальник поздоровается, то заключенные должны набрать в себя воздух, мысленно отсчитать раз, два, три и потом рявкнуть «здра». Комвзводы по очереди здоровались с нами, мы отвечали «здра»! Ученики оказались неспособные, получалась дробь вместо одного «здра». Комвзводы злились и пускали в ход дрыны. Особенно невыгодно было стоять в первой шеренге, но и на этот раз я не получил ни одного удара.
Занятия были прерваны появлением на противоположной стороне плаца группы из нескольких человек в комсоставском обмундировании. Они быстро шли в нашем направлении, Шнейдер, прихрамывая, еле поспевал за ними. Размашистой походкой впереди шел высокий человек; от ходьбы его длинная борода развевалась по ветру, он показался мне знакомым. «Неужели, - подумал я, - это он?».
Да, это был Курилка, мой знакомый, однокамерник по камере № 60 Бутырской тюрьмы, с которым мы долгое время были соседями по нарам.
КУРИЛКА

Курилка не был его псевдонимом, это была его настоящая фамилия. Кавалерист-рубака, офицер Русской армии, быстро сменивший погоны на красную звезду, верой и правдой служивший большевикам в Гражданскую войну, был награжден орденом Красного Знамени за ликвидацию басмачества. Демобилизовавшись после окончания Гражданской войны, сделавшись вагоновожатым Московского трамвая, он принял участие в начале 1929 года в забастовке рабочих трамвайных парков, за что был посажен в концлагерь на пять лет. Он раньше меня был отправлен по этапу из Бутырской тюрьмы на Соловки. В концлагере, в Кемперпункте его назначили командиром пересыльной роты, пополнение которой он и шел принимать.
Комвзвод подал команду: «Внимание!». Строй замер. Курилка поздоровался с нами. Ответ «здра» вышел дробный. Курилка поморщился и стал обходить строй. Проходя мимо меня, он взглянул на меня, и удивление и сострадание выразились на его лице. При свите он не хотел, да и не мог показать вида, что узнал меня, но он был человек действия. «Заберу» кинул он мне в полголоса и пошел дальше обходить строй. На рукаве у него было нашито три черные полоски. Обойдя строй, Курилка спешно направился к вновь подошедшему в форме комсостава, лагерному старосте, с четырьмя черными нашивками на рукаве, и отдал ему рапорт. Лагстароста поздоровался с нами. Опять «здра» прозвучало вразброд, лагстароста снисходительно улыбнулся и ушел от нас. Курилка обратился к строю: «Вопросы есть?». Поднялся гам. Курилка скомандовал: «Внимание!» и, бегло посмотрев по первой шеренге, вызвал из строя Васькова-отца, Ласкоронского, Новикова и инженера, помогшего сосчитать поголовье этапа. Им он разрешил перейти к вещам и остаться у них. Остальным он отказал подойти к вещам, подозвал к себе одного комвзвода, отдал ему тихо какое-то распоряжение и ушел. Сердце у меня екнуло, Курилка меня не забрал, но я не отчаивался, я ему верил.
Комвзводы стали делить нас на партии и угонять на работы. Кто-то попросил отдохнуть. Комвзвод ответил с иронией: «На Соловках отдохнешь, а теперь давай, давай, пошли!» - и подогнал дрыном. Ко мне подошел тот комвзвод, которому Курилка отдал тихо какое-то распоряжение. Проверив у меня мою фамилию, он очень вежливо сказал: «Пройдите к командиру роты вон в то помещение», и указал на приземистый небольшой домик явно не лагерной постройки, а скорее похожий на поморскую избу. Я тот час же выполнил приказ и явился в указанный домик. Он состоял из одной комнаты с небольшой загородкой, за которой стоял топчан. В комнате было два стола с чернильницами, за одним из них сидел помкомроты, судя по двум нашивкам на рукаве, нарядчик роты, наряжающий заключенную рабочую силу на работы. За перегородкой, сидя на топчане, доедал похлебку из солдатского котелка деревянной ложкой Курилка. Нарядчик вопросительно на меня посмотрел, но Курилка, быстро назвав меня по имени, позвал к себе. Нарядчик на это никак не реагировал и уткнулся в какие-то списки.
Сели мы рядышком с Курилкой на топчан, и посыпались вопросы. Курилка, очевидно, очень ко мне привязался за время сидения со мной в камере и воспринимал совершенно искренне с болью постигшее меня несчастье. Вскоре он опомнился, что я устал и голоден и велел своему «придурку» подать чайник за перегородку («Придурками» в концлагере называли тех заключенных, которые не работали на разных работах, а состояли в услужении у начальников-чекистов или заключенных. Расшифровывалось так: «умный при дураке начальнике», отсюда «при-дурок»).
Из перевернутых и поставленных друг на друга двух ящиков у изголовья топчана был сделан маленький столик, на который Курилка положил мне печенье и налил чай в жестяную кружку. «Все что у меня есть, извини, больше пока нечем тебя угостить, пей и ложись!» сказал он мне. Он подождал, пока я выпил чай и съел почти все печенье (очень хотелось есть, и я отбросил всякое стеснение), затем выглянул за перегородку и, убедившись, что нарядчик ушел, сказал мне: «Если нарядчик будет посылать тебя на работу, скажи, что идешь на работу, получив задание от Курилки». Курилка ушел, а я, как был в одежде, накрывшись пальто, улегся на его топчан, покрытый тоненьким одеяльцем и жиденьким сенником, и тотчас же заснул крепким сном, обласканный милым Курилкой, избавившим меня еще кроме того и от лагерных работ.
Сколько времени я проспал - сказать трудно, но когда я проснулся, было по-прежнему светло, хотя солнце близилось к горизонту. Вероятно, было часов десять вечера. Курилка спал сидя за канцелярским столом, опустив голову на подложенные руки. Он не хотел прерывать мой сон и сам остался без постели. Я его разбудил, поблагодарил за все, и он лег на свой топчан.
Я вышел на воздух. Сон подкрепил меня, рука помощи Курилки подбодрила меня, все стало казаться не таким мрачным. Благотворно подействовал на меня и шум лесорам лесопильного завода, днем и ночью пилившего богатства Карелии на экспорт. Шум механизмов как бы опровергал сложившееся впечатление о Севере, как о непроходимой глуши, несколько напоминал шум города, к которому привыкает городской житель, который становится частью последнего. Я не знал в тот вечер, каких страданий для подневольных людей стоит каждое бревно, «балан» по-лагерному, пилившееся в то время на лесораме. Заключенные загонялись в дремучий лес, где на каждого давалась дневная норма повала, обработки и складирования леса. До выполнения дневной нормы, рассчитанной на одиннадцати-двенадцати часовой рабочий день очень сильного человека, ни одного заключенного из бригады не выпускал конвой из леса на ночлег. В Карелии почти весь лес растет на болотистых почвах, непроходимых от наступления таяния снегов до следующих морозов. Поэтому лесозаготовки ведутся весьма интенсивно только зимой в любую погоду, в жесточайшие морозы и пургу. Наскоро сколоченные бараки не давали возможности как следует отогреться заключенным за ночь, а громадные нормы сокращали и без того короткий ночной отдых. Не было специальных сушилок для верхней одежды, и заключенные ходили в промокшей одежде после ненастной погоды. Непосильные нормы, скудное питание, холод, побои были кошмаром концлагерных лесозаготовок. Не удивительно, что на лесозаготовках был наибольший процент смертности, и с лесозаготовок возвращались только потерявшие здоровье или физические уроды, потерявшие всякую трудоспособность. Многие не выдерживали этой пытки и, рискуя расстрелом, становились «саморубами». Объяснение этому слову не встречается ни в одном словаре, его и не было в русском языке до начала лесозаготовок на советской каторге. Люди, чтобы только быть переведенными с лесозаготовок на другие работы в концлагере, калечили себя на всю жизнь, отрубая себе выше или ниже локтя правую руку, имитируя несчастный случай. Саморубам, если они не сумели доказать, что с ними произошел несчастный случай, добавляли срок заключения в концлагере, расстреливали, но число саморубов все же было велико. Мне со многими из них пришлось встречаться в последующие годы, и от них я постепенно узнавал, что собой представляли лесозаготовки в концлагерях.
Из нахлынувших на меня успокоительных чувств неожиданно резко меня вывела увиденная мною картина, когда я посмотрел налево от канцелярии роты. На большом плоском камне, босой, но с гордо поднятой головой, неподвижно стоял одетый в коричневый крестьянский армяк небольшого роста заключенный и смотрел вдаль на белесое море, слегка застланное туманом, а пониже его, на земле, дежурил здоровенный детина - комвзвод с длинным дрыном, которым он бил стоящего на камне всякий раз, как тот пытался переставить застывшие на холодном камне ноги. Во всей позе заключенного была такая несгибаемая решимость отказа в подчинении, такая сила воли, что он, тщедушный и низкорослый, казался великаном, а комвзвод пигмеем. Не знаю, сколько времени заключенный должен был простоять неподвижно босым на камне, но при мне комвзвод, нанося ему очередной удар дрыном, приговаривал: «Не один час продержу тебя так». В чем заключенный провинился перед комвзводом или вышестоящим начальством, узнать мне не удалось. И тут же я увидел уже массовое издевательство над заключенными. Со всех сторон стали подходить партии заключенных из нашего этапа по пятнадцать, двадцать человек в каждой, подгоняемые комвзводами, по одному на партию. От знакомых по этапу я узнал, что с того времени, как наш этап разделили на партии, они непрерывно работали без отдыха, которого не давали конвоиры под угрозой дрына. От тяжелой работы не были освобождены и пожилые. Работа была не только тяжела, но и бессмысленна. Несколько партий в некотором отдалении друг от друга работали на вычерпывании воды ведрами из затонувшей у берега баржи с пробитым дном. Естественно, уровень воды в барже не уменьшался по закону сообщающихся сосудов. Две другие партии носили огромные валуны с одного места на другое, а две других партии носили эти же валуны на старое место. Другой работы для прибывшего этапа на Кемперпункте не было, но заставлять работать, хотя и на бессмысленной работе, входило в программу «обработки» вновь прибывающих заключенных, чтобы физической усталостью, понуканиями до конца искоренить чувство человеческого достоинства, возможно, еще и оставшийся, хотя и пассивный, дух сопротивления, не выбитый окончательно подследственным тюремным режимом.
Комвзвод отобрал от каждой партии по четыре заключенных, повел их на «общую» кухню, а остальных повели на плац взять из вещей, что было необходимо. С «общей» кухни принесли большие тазы ухи из соленых тресковых голов и хлеб. Возвратившиеся с полотенцами, мылом, свертками еды, остальные заключенные присели по восемь-десять человек к тазам, но мало кто мог есть этот обед, несмотря на почти суточный пост. Попробовал и я, но как ни был голоден, я все же не смог заставить себя съесть эту отвратительно-горькую, воняющую разложившейся треской бурую жидкость. Силы подкрепили черным хлебом и тем, что у кого было, запив кипятком.
Солнце на небольшой промежуток времени скрылось за горизонтом, но светло было почти как днем. Наиболее смелые спросили комвзводов, куда поведут на ночлег, спать, дескать, пора. Комвзводы превратили эти законные требования в шуточки, дружелюбно посмеивались и советовали пока отдохнуть на земле. Когда немногие легли прямо на сырую землю, а остальные остались на ногах или присели на корточки, облокотившись к стенкам канцелярии роты, комвзводы объявили, что спать прибывшим в концлагерь не полагается, что через полчаса все пойдут на работу. Многие не приняли это всерьез и продолжали толкаться на ногах, ожидая, когда наконец поведут на ночлег.
Но комвзводы не шутили: раздалась команда «Становись!», и партии, на этот раз уже строем, по четыре в ряд, под команду «ать, два, три», снова пошли на бессмысленную работу. Я же, став блатным у Курилки, притащил свои мешки в канцелярию роты и, вынув тулуп и постелив его на столе, свернувшись на нем в клубок, заснул с неприятным чувством чего-то сделанного нехорошего по отношению к своим товарищам по несчастью. Совесть меня мучила, а разделять с ними тяготы бессмысленного труда все же не хотелось.
Наступило утро 29-го июля. Репродуктор лагерного трансляционного узла передал время шесть часов утра. Я встал, умылся, сложил тулуп в мешок. Встал Курилка и велел мне поставить мешки к нему за загородку. Вместе с ним напились чаю, причем тут уже я его угощал. Он съел для вида и посоветовал мне продукты беречь, постепенно привыкая к лагерной пище, при упоминании о которой меня чуть не стошнило. Дневальный принес Курилке котелок пшенной каши, залитой весьма обильно растительным маслом. Мне стало сразу ясно, чем отличается комсоставский стол. Курилка поделился со мной кашей, ели мы из одного котелка, затем вдвоем вышли из канцелярии.
Впоследствии я еще более убедился в развитом подхалимстве и раболепии в строго-иерархическом строе концлагеря, даже среди заключенных. Но в данный момент меня поразило то, что даже помкомроты, не говоря уже о комвзводах, начали и передо мной подхалимничать. Я сначала не понял, приняв это за их врожденную вежливость, и отвечал им с еще большей вежливостью.
Усталые и от бессонной ночи, и от стояния в строю, и от бессмысленной тяжелой физической работы, с осунувшимися, пепельно-серыми лицами, ввалившимися глазами, стали подходить заключенные партиями, подгоняемые сменившимися комвзводами, дышащими самодовольством и энергией, готовыми ежеминутно пустить в ход свои дрыны. В тазах на завтрак принесли жидкую пшенную похлебку, именуемую кашей. Заключенные сели вокруг тазов и ели ее с хлебом.
После завтрака нас снова построили в колонну по четыре в ряд, разделив на взводы, и повели на тот же самый плац. Во главе колонны шел Курилка с двумя помкомроты, за ним взводы по тридцать два заключенных, которые кое-как плелись, потому что в ногу идти уже ни у кого не было сил, несмотря на раздававшуюся команду: «ать, два, три» комвзводов, возглавлявших каждый взвод. От усталости заключенные уже настолько отупели, что не реагировали на команду и только сжимались, если кто-либо из комвзводов, шедших по бокам колонны, пускал в ход свой дрын. В конце концов, комвзводам надоело обучать нас военному строю, и на плац влилась толпа, лишь отдаленно напоминающая воинское подразделение идущее на парад, как это было задумано лагерным начальством.
На плацу нас построили по четыре в ряд, развернув фронтом к середине плаца. Комвзводы по четыре, в затылок друг другу, стали в интервалах взводов. Курилка скомандовал «Внимание!» и поздоровался. Ответ «здра» получился еще более дробным, чем накануне. Курилка с помощниками обошел фронт и стал на правом фланге.
Потекло время. Никто не знал, в чем дело. С противоположной стороны плаца показалась группа людей. Впереди шел в форме ОГПУ с тремя шпалами в петлицах очень молодой начальник Кемперпункта. С ним был еще один в форме ОГПУ с двумя шпалами в петлицах, двое в прекрасно сшитых френчах без петлиц и лагерный староста. Безусловно, последние три были заключенные, возможно, во френчах были заключенные чекисты. Курилка скомандовал: «Внимание!» и рысью помчался навстречу группе для отдачи рапорта. Помкомроты и комвзводы взяли под козырек. После приема рапорта группа, в сопровождении Курилки, подошла к нам ближе, и начальник Кемперпункта, не здороваясь с нами, обратился к нам с краткой речью: «Граждане заключенные! Вы прибыли в лагерь особого назначения ОГПУ. Здесь вам не тюрьма, здесь прокурор вас не услышит (последнее явно предназначалось для уголовников, так как голосов каэров прокурор и в тюрьме «не слыхал»). Начальникам подчиняться, от работы не отказываться. За саботаж и неподчинение у нас один ответ - расстрел!» Для тех, кто еще надеялся на облегчение режима после тюрьмы, стало ясно, куда нас привезли. После речи два во френчах прошли вдоль фронта, сосчитали поголовье и сверились со строевой запиской, поданной Курилкой при рапорте. Все сошлось, группа удалилась, и Курилка разрешил разобрать вещи, все еще лежавшие с утра прошлого дня у столба посредине плаца. Все сгрудились около кучи вещей, мешая друг другу. Разбор длился долго. Послышались возмущенные голоса, у многих каэров уголовники успели взломать замки на чемоданах и похитить вещи. На шум обернулся Курилка, который разговаривал с Васьковым и Ласкоронским, предлагая им быть писарями в его канцелярии. Узнав о кражах, он тот час же отдал приказ построиться. Снова все стали в строй по четыре. После команды «Внимание!» Курилка пошел вдоль фронта с комвзводами и, всматриваясь внимательно в каждого заключенного, стал, беря за одежду спереди, вышвыривать из строя уголовников. Комвзводы их хватали и строили отдельно в колонну по четыре. После первой шеренги такой сортировке подверглись и остальные три шеренги. Особенно обильный урожай оказался в четвертой шеренге, куда попрятались уголовники, предчувствуя беду. У Курилки глаз был уже настолько наметан, что ошибок не было, «овцы» от «волков» были отделены правильно. Обе колонны повели к баракам. Во главе нашей шел Курилка, уголовников тесно окружили комвзводы с дрынами.
Нас ввели в одноэтажный дощатый барак с двойными нарами, уголовников оставили в строю под открытым небом. Я перетащил из канцелярии роты свои мешки и положил их на место на верхних нарах рядом с вещами черниговцев. Разместившись таким образом, мы вышли совершенно свободно на воздух. Никакого конвоя к нам не приставили. Перед колонной уголовников стоял Курилка. «Орлы» обратился Курилка к уголовникам, причем это «орлы» звучало у него с явной насмешкой, «даю вам десять минут, чтоб все украденные вещи были сюда сложены». По рядам уголовников прошло волнение, кое-кто кому показывал кулак, у других передергивались лица; очевидно, одного мнения не было, все ожидали распоряжения своих королей. «Загоняй в барак», скомандовал Курилка. Дрынами комвзводы загнали уголовников в соседний пустой барак и заперли двери. Курилка стал расхаживать, разглаживая пальцами свою бороду. К нему обратились инженер, ехавший с нами, Васьков-отец, прося не настаивать на возвращении вещей. Курилка резко отказал: «Воровства в лагере не потерплю, забью их насмерть, а вещи они вернут, эту шпану нельзя распускать, они понимают только битье, иначе с ними не справиться». Только значительно позже я вполне оценил мудрость слов Курилки, оценил тогда, когда уголовники, переименованные чекистами в «социально близких» (по-видимому, социально близких чекистам), совершенно распоясались, превратив для каэров лагерь в еще больший ад, грабя, убивая каэров и обворовывая самих лагерных начальников.
Очевидно, прошло десять минут, Курилка кивнул комвзводам, и часть из них ворвалась в барак к уголовникам. Послышались крики избиваемых; кое-кто из уголовников пытался вырваться из барака, но попадал под удары оставшихся снаружи комвзводов, которые снова загоняли в барак. Кто-то тихо сзади меня сказал: «Битие определяет сознание», перефразировав известную марксистскую доктрину «Бытие определяет сознание».
Трудно сказать, сколько времени длилось избиение, но как-то все сразу стихло, из барака вышли комвзводы, а за ними гуськом к Курилке потянулись уголовники, складывая на землю около него награбленные вещи. Некоторые несли даже украденные продукты. Уголовников снова загнали в барак. Когда вереница уголовников, сдававших вещи, закончилась, Курилка распорядился нашему бараку разобрать вещи. Тут были и плащи, и пальто, и брюки, но больше всего белья.
После разборки вещей Курилка выделил дневальных, по обоим баракам, которые принесли обед, состоявший из той же похлебки из ржавых голов соленой трески, которую невозможно было есть. На второе была жиденькая похлебка из пшена, именовавшаяся кашей. Все это принесли снова в больших тазах, из которых мы коллективно и ели, окружив их по 10-12 человек. Некоторые подбадривали других, что в дальнейшем, когда нас определят на постоянную работу, питание улучшится.
После такого обеда опять построили. Уголовников и часть заключенных из нашего барака разбили на партии по 15-20 человек, и комвзводы с дрынами снова погнали их на бессмысленную работу по переноске с места на место камней и вычерпывание воды из баржи с пробитым дном. Остальных каэров, преимущественно из молодых людей, оказавшихся все моими «однодельцами», построили отдельно в колонну по четыре. Не получив указаний от Курилки, и, не желая злоупотреблять его блатом, я тоже покорно встал в колонну, не зная, какая работа нам предстоит. Я отдохнул за ночь, выспался, и работа мне не казалась теперь непосильной. Повел нас лишь один нарядчик роты без комвзводов. Мы стали как бы уже проверенными, объезженными заключенными, от которых не могли больше ожидать какого-либо сопротивления распоряжениям лагерного начальства.
Пройдя по лагерной улице, мы вышли, все так же строем, на плац и подошли к довольно большому бараку с вывеской «Клуб Кемперпункта». Нарядчик разъяснил нам, что в этом помещении нам поручено составление анкет на заключенных прибывшего этапа. Действительно, на противоположном конце плаца колоннами по четыре стоял этап численностью около тысячи заключенных. Колонна производила впечатление ровными рядами, выправкой людей в почти одинаковой крестьянской одежде. Если бы не последняя, этап производил бы впечатление кадровой воинской части. Развинченных отвратительных фигур уголовников не было видно совсем. Громадное большинство было бородатых, седых. Много было и совсем юных, по-крестьянски крепких людей. Поражало отсутствие людей среднего возраста. Это был этап казаков с Кубани, результат физического истребления поголовно казачества. Казаки, как особая прослойка, перестали существовать в 1929 году. Мужчины призывного возраста отступили с генералом Врангелем за границу. Оставшиеся старики и подросшие за девять лет казачьи дети стояли перед нами. Старухи, женщины и малолетние дети были вывезены из станиц в запертых товарных вагонах на «поселение» в северных областях страны под названием «спецпоселенцев» и погибали в тайге в землянках от голода и холода. Так через десять-двенадцать лет большевики отомстили казачеству за его беспримерную стойкость, как оплота всех антибольшевицких сил страны.
Мы вошли в клуб, в котором оказался довольно поместительный зрительный зал, по периметру которого стояли столы со скамьями. Нас было около семидесяти человек, все молодежь. Несколько пожилых заключенных, одетых в лагерное зеленое обмундирование, работники УРЧ (Учетно-распределительная часть) Кемперпункта, попросили нас занять места за столами. Мы сели довольно тесно, и нам раздали ручки с перьями и по одной чернильнице на нескольких. Затем нам объяснили технику заполнения анкет, и мы стали ждать, когда откроются двери и начнут входить казаки. Итак, одним заключенным предстояло зарегистрировать других заключенных.
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ...
Первое пленарное заседание организации Союз социал-демократической молодежи иронией судьбы происходило в зрительном зале Кемперпункта Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ. Наше сидение за столами в целях заполнения анкет прибывшего этапа казаков, конечно, только условно можно было назвать заседанием организации, но тот факт, что здесь впервые в одном зале оказались лицом к лицу, как будто по своей воле собравшиеся на заседание, знакомые между собой и незнакомые, все те лица, которые ОГПУ были причислены к социал-демократическому союзу молодежи, большинство увидевшее своих однодельцев только здесь за проволокой впервые, дало мне какое-то право говорить о «первом пленарном». Кроме того, это «заседание» было не совсем пленарным, так как здесь не доставало двадцати семи расстрелянных по этому делу, в том числе и Каменецкого, и нескольких юношей и девушек, отправленных в северный край в ссылку на три года.
Здесь уместно рассказать о том, что мне стало известно во время этапа, что я узнал значительно позже на Соловках, подружившись с черниговской молодежью, все, что касалось черниговской организации социал-демократической молодежи, раздутой ОГПУ, об организации, к которой и я был причислен волей ОГПУ.
В городе Чернигове, как и во всех небольших провинциальных городах и городках, были тесноспаянные с детства компании вроде нашей в городке Н [Нежин]. В одной из этих компаний был еврейский мальчик, племянник видной деятельницы социал-демократической партии большевиков Розалии Землячки, имевшей большой стаж подпольной революционной борьбы. После революции Землячка стала почти бессменным членом Центральной контрольной комиссии большевицкой партии и членом Центрального Исполнительного Комитета съезда советов (ЦИКа). В свои частые приезды в Чернигов к своей сестре, матери этого еврейского мальчика, Землячка рассказывала своему племяннику и приходившей к нему его компании много эпизодов из подпольной борьбы, разжигая воображение подростков, прививая им вкус к романтике революционной борьбы.

Гордон Вениамин Бенцианович
Сначала детьми, а потом подростками, члены этой компании охотно играли в «революцию», обыскивали и «арестовывали» друг друга, писали листовки. Словом, это была та же детская игра, которой предавалась и моя компания в городке Н., только участниками ее были не заграничные «бандиты» и «сыщики», а отечественные «революционеры» и «жандармы». Наша игра для властей была не опасна и с нашим возмужанием умерла. У черниговской компании она переросла, по их же собственному мнению, в серьезное дело сопротивления большевицкой диктатуре и обратила на себя внимание, ищущих «работы» агентов ОГПУ. К сожалению, эти взрослые дети из компании племянника Землячки, уверенные в значительности своих возможностей в борьбе с большевицкой диктатурой, не зная, с каким беспринципным противником им придется иметь дело, своей наивностью только облегчили впоследствии для ОГПУ производство кровавой расправы над собой.
Чтобы лучше понять случившееся с этой черниговской молодежью, необходимо проанализировать политическую обстановку, сложившуюся в нашей стране к 1928 году. Диктатура большевицкой верхушки, все более перерождавшаяся в единоличную диктатуру Сталина, развернула в середине двадцатых годов ликвидацию оставшихся в живых после первых революционных лет офицерского корпуса Русской армии, технической и прочей интеллигенции, всех тех, кто мог бы возглавить действия народных масс недовольных предстоящей коллективизацией в деревне и наступлением на жизненный уровень рабочих в городах в связи с индустриализацией страны на костях миллионов. Но особенную, по-видимому, тревогу у Сталина вызывало отношение молодежи к предстоящему нажиму на народ, потому что молодежь, в своей массе всегда более честная, более вдумчивая, более способная жертвовать собой во имя какого-либо идеала, могла серьезно противодействовать безжалостной политике власти по отношению к народу. К концу двадцатых годов увлечение большей части молодежи марксизмом заметно ослабело под влиянием действительности, все более отдалявшейся от теории марксизма. Численно интеллигентная молодежь, подросшая за десятилетие, восполнила убыль интеллигентной части общества, части, наиболее пострадавшей в гражданскую войну. К интеллигентной молодежи присоединялись выходцы из деревни, дети рабочих получившие достаточное образование. Думающих молодых людей становилось все больше, они становились опасными при проведении первого пятилетнего плана, начало которого было приурочено к 1928 году. И с 1928 года на молодежь, наравне со взрослыми, обрушились репрессии, преддверием к которым была развернувшаяся слежка за молодежью.
В такой политической обстановке мужавшие дети из этой черниговской компании стали задумываться над дальнейшей судьбой своего народа и делиться своими мыслями друг с другом. Постепенно осознав свой долг перед народом, эти молодые люди решили вступить в борьбу с диктатурой методами, так хорошо им знакомыми по рассказам Землячки, племянник которой стал одним из вожаков этой компании. Естественно, они все хорошо знали программу социал-демократов, и поэтому неудивительно, что свою организацию они назвали социал-демократическим союзом молодежи, молодежи - потому что все они были молоды, в возрасте от шестнадцати до девятнадцати лет. Программа этого союза, поскольку можно было судить по цитированным мне черниговцами отрывкам из нее, ничем не отличалась от программы социал-демократов начала нашего столетия, только слово «царизм» всюду было заменено словами «большевицкая диктатура».
После такого самооформления в организацию, возможно, и без всякой нужды для задуманного ими дела, но следуя традиции революционеров, упоенные романтикой подпольщины, члены союза регулярно проводили собрания с письменными протоколами и стали вербовать новых членов путем переговоров с отдельными молодыми людьми. Настроение умов интеллигентной по происхождению учащейся молодежи было таково, что довольно быстро организация разрослась более чем до двух десятков членов. В числе завербованных оказался и мой знакомый по городку Н. Борис Рублевский, учившийся в городке Н. в той же профессиональной школе, что и я, но двумя курсами старше меня. Не доучившись в профшколе, он вместе со своим отцом, финансовым работником, в 1927 году переехал в Чернигов, по месту перевода по службе его отца.

Рублевский Борис Евгеньевич
Безусловно, вербовка новых членов в организацию, заседания в составе такого количества членов, не могли не укрыться от внимания черниговского ГПУ, и в организацию был заслан секретный сотрудник из молодежи, оказавшийся, как после уже догадались, еще и провокатором. Кроме того, племянник Землячки, который, пользуясь родством с высокопоставленной особой, позволял себе публично не скрывать своих убеждений, очевидно, давно уже был под особой слежкой ГПУ. Возможно, что для установления за ним слежки послужило его выступление на митинге в школе по поводу преступления чубаровцев (чубаровцами назвали двадцать шесть молодых ленинградских рабочих, которые в 1926 году в Ленинграде в районе Лиговского проспекта в Чубаровском переулке изнасиловали несовершеннолетнюю девочку), когда он заявил, что все должны помнить, что преступники не «сюсюкающая интеллигенция», а гегемон - рабочий класс, его молодежь. Он явно намекнул на презрительное определение русской интеллигенции «сюсюкающая», какое ей дал Ленин. Эти высказывания не в бровь, а в глаз по поводу низкого морального уровня класса, «осуществляющего в стране диктатуру», и насмешка над высказыванием Ленина, незаслуженно втоптавшего в грязь русскую интеллигенцию, сразу обратило на себя внимание карающего меча пролетарской революции: организация стала обреченной.
Между тем на заседаниях писались тексты листовок, разъясняющие населению вред большевицкой диктатуры. Листовки размножались от руки и распространялись среди молодежи. Некоторым членам организации казалось распространение листовок малодейственным средством, и многие хотели более действенных методов борьбы, вроде проведения забастовок хотя бы и на малочисленных по количеству рабочих производственных предприятиях Чернигова.
Приток новых членов прекратился, членам организации стало надоедать вариться в собственном соку, дело шло к распаду социал-демократического союза молодежи. Положение усугублялось еще и тем, что большинство членов организации, закончив среднее образование, осенью 1928 года стало разъезжаться в Ленинград, Москву, Киев для поступления в высшие учебные заведения, в то время как в Чернигове для получения высшего образования тогда только был педагогический институт «ИНО».
В конце лета 1928 года на собрании Союза было выдвинуто предложение о распространении деятельности Союза на другие города, организовать в них такие же союзы социал-демократической молодежи. Предложение всем понравилось, и членам черниговского союза, выезжающим в другие города для поступления в высшие учебные заведения, было предложено проводить работу по созданию организаций по месту учебы в городах. Холопцев, Воробьев, Бычков и еще один еврей, которого доставили с нами из Ленинграда в Москву, выехали в Ленинград.

Холопцев Виктор Александрович

Воробьев Николай Григорьевич

Бычков Авраам Яковлевич
Кореневский, Рублевский и еще двое или трое поехали в Киев. Человека четыре поехали в Москву.

Кореневский Владимир Петрович

Забело Виктор Григорьевич

Каменецкий Олег Александрович
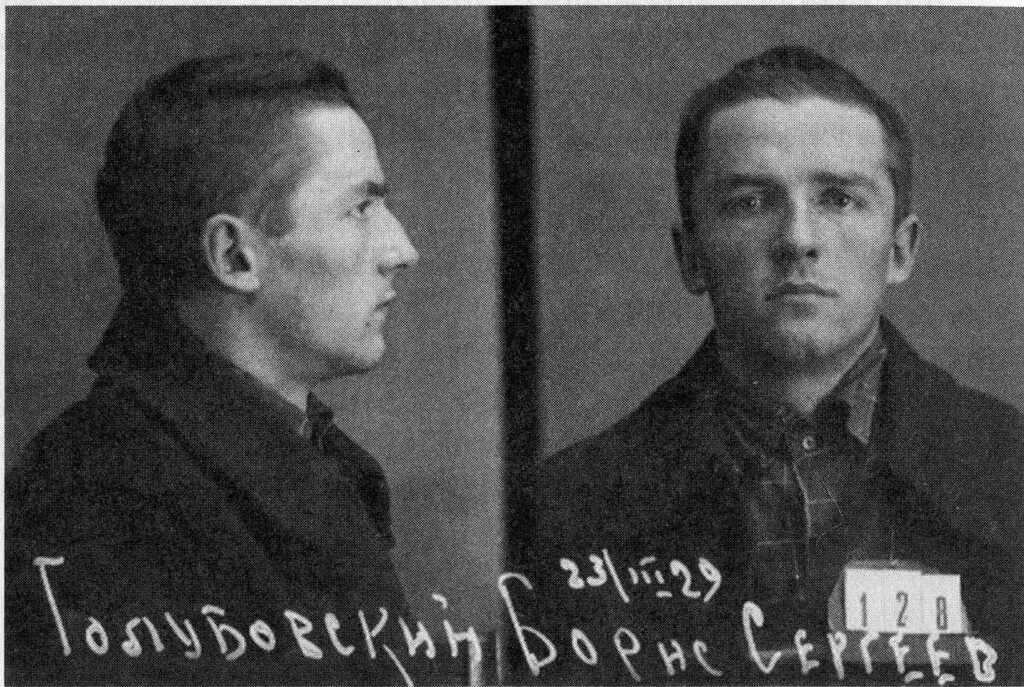
Голубовский Борис Сергеевич

Вовк Иван Иванович

Вербицкая Мария Федоровна
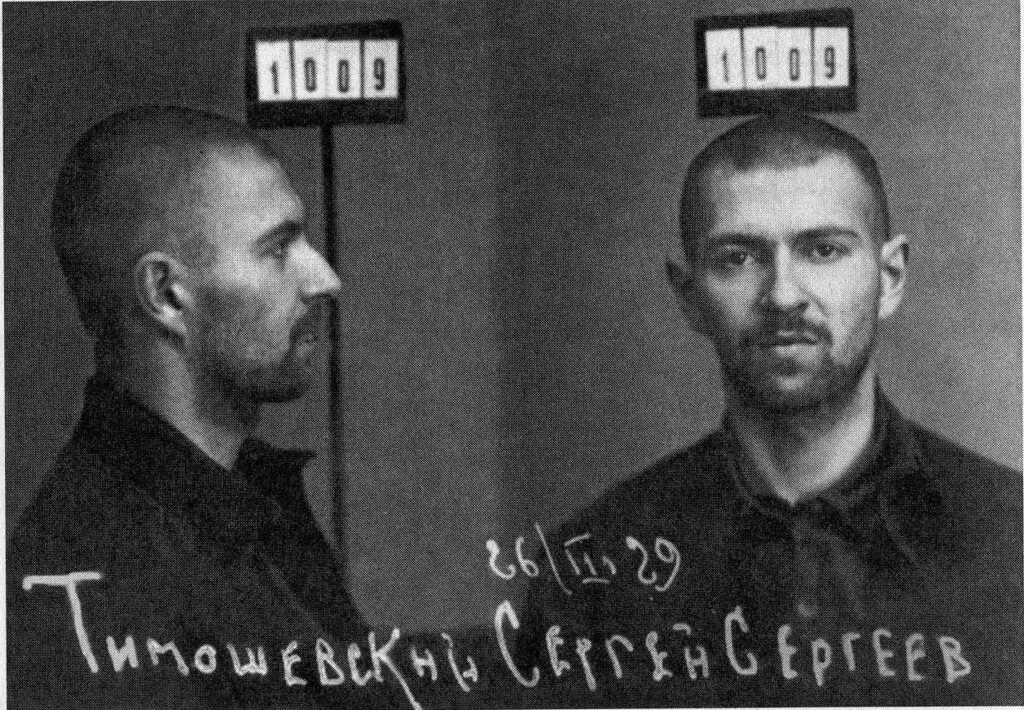
Тимошевский Сергей Сергеевич
Из уехавших в Ленинград все четверо там остались, трое поступили в ВУЗы, Воробьев поступил на работу. Из тех, кто поехал в Киев, вернулся один Рублевский, провалившийся на экзаменах. Остальные все поступили в киевские ВУЗы. Неясным осталась судьба выехавших в Москву, так как на Рождественские каникулы они не приезжали обратно в Чернигов, о них никто ничего не знал, поступили ли они в ВУЗы, поступили на работу в Москве или оставались там безработными. Их никто больше не видел, так как все они были расстреляны, а их знакомые по Москве и черниговцы, ранее переселившиеся в Москву, были причислены ОГПУ к организации социал-демократической молодежи и репрессированы по нашему «делу».
Занимались ли Холопцев, Бычков, Воробьев и четвертый поехавший с ними черниговец выполнением в Ленинграде порученного им задания, из их рассказов установить было трудно. Скорее всего, они ничего в Ленинграде не сделали и оформленной организации не создали. Поехавшие в Киев члены организации действовали более успешно. Возможно, что они и не успели организационно оформить Киевский союз эсдекской молодежи, но по количеству расстрелянных и черниговцев, поехавших в Киев, и киевлян и посаженных в лагерь киевлян, черниговцы выявили много единомышленников и завязали обширное знакомство среди учащейся молодежи. Душой всей киевской компании была Ладя Могилянская, дама лет двадцати пяти. Политическая биография ее была довольно пестрая. Почти девочкой, в конце гражданской войны, вступив в Украинскую коммунистическую партию (УКП), во время конфликта последней с Коммунистической партией большевиков Украины (КП(б)У), она публично резко осудила разгон УКП, как проявление великороссийского шовинизма, и была посажена в концлагерь на двадцать лет. Освободившись досрочно в 1924 году, она отошла от политической жизни и вышла замуж за редактора центральной украинской большевицкой газеты «Коммунист», издававшейся в Харькове. Но познакомившись с черниговской молодежью в Киеве, Могилянская снова окунулась в водоворот политики и по делу черниговской эсдекской молодежи впоследствии была приговорена к расстрелу, который по хлопотам ее мужа был заменен десятью годами концлагеря.

Могилянская Лидия Михайловна

Левицкая Гали Филипповна
Поездка Рублевского в Киев сыграла роковую роль в моей личной судьбе. На экзаменах в ВУЗ он встретился с одним из членов нашей компании в городке Н., другом моим с детства, от которого в разговоре случайно узнал о моем переселении в Ленинград. Сама по себе эта невинная информация не могла мне повредить, поскольку, не чувствуя за собой никакой вины перед советской властью, я и не думал скрывать от кого-либо свое местожительство. Но... Но настали Рождественские каникулы. Черниговцы съехались в родной город в свои семьи, и было созвано очередное собрание союза социал-демократической молодежи, на котором черниговские «эмиссары» отчитывались о выполнении ими задания союза в других городах. На фоне успехов киевской группы доклад Холопцева выглядел очень бледно. Желая поправить его дела, Рублевский во всеуслышание назвал мою фамилию, посоветовав связаться со мной, так как я коренной ленинградец и, следовательно, смогу помочь в установлении знакомств с ленинградской молодежью. Надо подчеркнуть, что Рублевский не предложил мою фамилию для вербовки в организацию, а только предложил со мной познакомиться, чтоб войти в контакт с ленинградской молодежью. Действительно Рублевский знал меня слабо и не знал моих политических убеждений, почему он и не рекомендовал меня для вербовки в организацию, он не сомневался в моей честности и органической неспособности донести на кого-нибудь, если бы я даже о чем-нибудь и догадался, не сочувствуя идеям организации. И в этом он был прав. Если бы Холопцев и разыскал меня, я ничем не мог бы быть ему полезен, так как знакомств у меня было мало, а если бы он предложил вступить в их организацию, я не только не вступил бы в их союз, но и всячески стал бы отговаривать Холопцева и его друзей от продолжения их деятельности, но не донес бы на них. Действовал бы я так не из трусости перед диктатурой, а из убеждения, сложившегося у меня под влиянием большевицкой пропаганды о неизбежности победы «пролетарской» революции и «крушения» капитализма. Не донес бы я на этих мальчишек в ОГПУ, так как был воспитан в традициях русской интеллигенции, часто спасавших революционеров от жандармерии не в силу симпатий к первым, а в силу высших моральных принципов помощи слабому и аморальности всяких доносов. По всей вероятности, если бы Холопцев разыскал меня, то недоносительство осложнило бы мое положение, и я вряд ли был бы оставлен в живых. Фамилия моя на собрании была записана Холопцевым и, конечно, провокатором, и стала известна ОГПУ, и моя судьба уже была решена не меньше чем за два месяца до моего ареста, возможно, в тот самый день, когда я с группой студентов в Пулковской обсерватории познакомился с шлиссельбуржцем Николаем Морозовым и рассеянно слушал его рассказ о тюремном режиме Шлиссельбургской крепости, узником в которой он просидел двадцать пять лет, пропуская все мимо ушей, как весьма отдаленное от меня, и не подозревая, как оно близко ко мне по времени.
На этом собрании произошло еще одно событие, стоившее потом жизни стольким членам организации и сотен лет концлагеря остальным, членам союза и не членам ее.
В 1928-29 годах по уголовному кодексу РСФСР по пункту 10-у 58-й статьи максимальный срок наказания был три года концлагеря (в 1937 году этот срок был увеличен до десяти лет). Писание и распространение листовок, то есть то, чем занимались члены союза, могли быть квалифицированы лишь по пункту 10-у как «антисоветская агитация», хотя, по существу, она не была антисоветской, а в пользу советов, чтобы возвратить им свободу, отнятую у них большевицкой диктатурой. Такой «мягкий» приговор Каменецкому, племяннику Землячки, другим выдающимся энергичным молодым людям, настроенным антибольшевистски, не устраивал ОГПУ. Уполномоченным ОГПУ хотелось крови, физически уничтожить эту «опасную» молодежь, выслужиться перед начальством, «раскрывши чрезвычайно опасную контрреволюционную организацию». Для ликвидации организации и отправки всех ее членов в концлагерь сроком на три года у ОГПУ были все возможности значительно ранее начала 1929 года, так как при наличии в рядах организации секретного сотрудника все лица были известны, известна была и их деятельность. Но в ОГПУ решили повременить с нанесением удара по организации, пока провокатору не удастся спровоцировать союз на подготовку террористического акта против какого-нибудь представителя власти. Нелепый случай, наличие психически больного в одной семье ускорил реализацию этого дьявольского плана.
В Москве проживала одна польская семья Любарских, переехавшая туда из Чернигова еще до революции. С пожилыми отцом и матерью в Москве проживали в одной квартире два их сына, старший Вася и младший, женатый на сотруднице секретариата ЦИКа. Звали ее Анной, и злые языки утверждали, что она являлась любовницей секретаря ЦИКа Енукидзе.

Любарский Василий Георгиевич

Любарская Анна Ивановна

Любарский Лев Георгиевич

Шелкова Ольга Александровна
Самый старший сын был дипломатическим курьером Польской республики, подданным Польши, и навещал родителей, когда привозил дипломатическую почту в польское посольство в Москве. Дочь Любарских была замужем за директором московского финансово-экономического техникума и жила отдельно от родителей. Существование дипкурьера иностранного государства и работа Анны в аппарате ЦИКа делали эту семью объектом повышенной слежки со стороны ОГПУ.
Под влиянием ли ревности к жене Анне или по каким-либо другим причинам, но младший сын Любарских стал проявлять признаки невменяемости. Врачи-психиатры его лечили, но так как помешательство его было тихим, родители его очень любили, он проживал дома и не был отдан в психиатрическую больницу. К лету 1928 года он стал всех пугать разговорами о самоубийстве, не выставляя никаких мотивов. Когда в ответ на его рассуждения родители его уговаривали отказаться от самоубийства, он их уверял, что у него просто не хватит воли покончить с собой. При одном из таких уговоров он неожиданно вскользь заметил, что если убить кого-нибудь из начальства, у кого больше знаков различия, то это верный путь самоубийства. Родители приписали это его ревности к Енукидзе, к начальству, и не придали особого значения его словам, зная, какая охрана у секретаря ЦИКа.
Летним днем 1928 года муж Анны, стащив малокалиберный пистолет «Монте-Кристо» у среднего брата, поехал на трамвае по Москве и, встретив на площадке трамвая начальника Политуправления Красной Армии с четырьмя ромбами в петлицах Шляпникова, выстрелил в него в упор и убил наповал. В поднявшейся суматохе убийца скрылся, но оставил пистолет на месте преступления. Вернувшись домой, он рассказал брату Васе о случившемся, торжествующе добавив, что обеспечил теперь себе смерть. Так как пистолет был зарегистрирован на Васю Любарского, последний немедленно отвел своего сумасшедшего брата на Лубянку-2, в ОГПУ. Оттуда оба не вернулись. В тот же день была арестована жена сумасшедшего убийцы Анна Любарская. Начало тянуться следствие. Врачи ОГПУ признали убийцу умалишенным, не могущим отвечать за свои поступки, но арестованных не выпустили, не выпустили потому, что в недрах ОГПУ созрел план приписать этот террористический акт черниговскому союзу социал-демократической молодежи.
В Москве проживал молодой инженер Привезенцев, коренной москвич. Его жена, года на три его моложе, весьма охотно устраивала вечеринки у себя на квартире для молодежи, и там постоянно собиралась московская молодежь, преимущественно студенты того финансово-экономического техникума, директором которого был муж дочери Любарских. Приехавшие в Москву черниговцы, через вновь приобретенных московских знакомых, попали на вечеринку к Привезенцевым и стали завсегдатаями в этой квартире.

Привезенцев Владимир Алексеевич

Привезенцева Зоя Ивановна
Привезенцев говорил, что он всегда гонял этих «щенков», заставая их у жены, когда приходил с работы. По-видимому, квартира Привезенцевых стала местом политических разговоров, а может быть, даже штабом организации социал-демократической молодежи, если организационно черниговцы успели ее оформить. Однако, только то обстоятельство, что большинство молодежи, встречавшейся с черниговцами на квартире у Привезенцевых, были студентами техникума, где директором был муж сестры «террориста», было настолько малоубедительным даже для падких на самые нелогичные подозрения чекистов, что последние все же не решились обвинить черниговцев в причастности к убийству Шляпникова, и аресты членов организации пришлось снова отложить, концы с концами не сходились. Провокатору был дан приказ во что бы то ни стало изменить программу черниговского союза так, чтобы он выглядел террористической организацией.
Такая возможность представилась только на том злополучном собрании, на котором Рублевский огласил мою фамилию. Проведя предварительно индивидуальную обработку наиболее нетерпеливых членов союза, провокатор на собрании, играя роль наиболее непримиримого антибольшевика, предложил дописать к программе Союза после слов: «всеми способами разъяснять населению факты лишения народа демократических прав со стороны диктатуры большевиков» фразу: «и призывать к свержению ее, будируя массы методом террора». Воспитанные на рассказах Землячки, впитавшее марксистское мировоззрение ядро организации всеми силами сопротивлялось этой дописки, доказывая, что идеология террора не имеет ничего общего с социал-демократизмом. Однако Снежков, Бар и некоторые другие, подогретые провокатором, столь бурно насели на руководство Союза, что те сдались и поставили вопрос на голосование. Резолюция прошла незначительным большинством и добавление было вписано в программу. Это была не только последняя резолюция, принятая на этом собрании, но и последнее собрание организации.
ОГПУ больше ничего не требовалось, чтобы обвинить союз социал-демократической молодежи в террористической деятельности, расправиться с ее членами по пунктам 8 и 11 58-й статьи, по которым применялся расстрел и заключение в концлагерь сроком до десяти лет. Улика в программе была на лицо. После окончания Рождественских каникул в одну ночь были произведены аресты членов Союза и их знакомых в Чернигове, Москве, Киеве и Ленинграде. Затем к ним добавили в этих городах знакомых и родственников. Холопцев был арестован на перроне Московского вокзала в Ленинграде при выходе из поезда. С ним был ящик с яблоками, которые были завернуты в листовки к питерским рабочим. В Ленинграде вместе с молодежью были арестованы Васьков-отец и Ласкоронский. Их раньше нас отправили в Москву.
Из Чернигова и Киева арестованных свезли в Харьков, который тогда был столицей Украины и где помещалось украинское ГПУ (ДПУ - Державне политiчне управлiння). По дороге в Харьков молодежь, еще не разобравшись, с кем ей придется иметь дело, открыто в лицо называла уполномоченных ОГПУ «жандармами», «душителями свободы» и прочими нелестными эпитетами, запомнившимися из рассказов Землячки о подпольной деятельности. Конвоирующие уполномоченные не обращали внимания, но один не выдержал и сказал: «Вот в Харькове побываете, там вам «пропишут», всех жандармов забудете».
В харьковской тюрьме ГПУ молодые люди впервые почувствовали в бесконтрольную власть каких карьеристов они попали. Если на предварительном следствии в Чернигове и Киеве члены организации достойно защищали свою точку зрения, то в Харькове на допросах некоторые уже стали умалять свою роль в делах организации. Некоторых допрашивал сам начальник ДПУ Балицкий, известный тем, что он, будучи председателем «Особого совещания» ОГПУ на Украине, приговорил к смертной казни вождя венгерской коммунистической партии и организатора советской республики в Венгрии в 1919 году Бела Куну. Два других члена этого совещания, подписавших смертный приговор Бела Куну, были от Коминтерна Димитров и от ВКП(б) Варга. Снежный ком рос, дело раздувалось всеми звеньями ОГПУ. Всю молодежь свезли в Москву. Переправляли в Москву небольшими группами, изолировав друг от друга в отделениях «столыпинских» тюремных вагонов. В Москву везли уже не «болтунов», а «террористов», всем уже было предъявлено обвинение по пунктам 8 и 11 58-й статьи, все обвинялись в соучастии убийства Шляпникова Любарским.
Обычно в ОГПУ приговор выносил сам следователь, ведший допросы, а затем его штамповали последовательно начальник отделения, отдела, «тройка ГПУ» или коллегия ОГПУ. Двадцать шесть юношей, по-видимому, до конца отстаивали на допросах свои социал-демократические взгляды и за это поплатились жизнью. Возможно, в их числе были даже и не члены союза, даже и не имевшие понятия о нем, но в силу своей честности, возмущенные несправедливостью обвинений, просто насолили своим следователям, за что и отдали молодую жизнь. Двадцать седьмым был расстрелян умалишенный Любарский. Вася Любарский получил пять лет концлагеря. Любарская была приговорена к расстрелу (она обвинялась еще и в шпионаже), но по ходатайству, вернее, распоряжению Енукидзе, расстрел был заменен десятью годами концлагеря. Через восемь лет после этого Енукидзе был сам расстрелян Сталиным.
Трагедия семьи Любарских на этом не закончилась. В конце 1932 года студент-еврей того самого техникума, где директором был зять Любарских, совершил на улице Москвы террористический акт против первого секретаря посольства Германской республики, тяжело его ранив. На суде, частично проходившем при открытых дверях, он был обвинен в совершении террористического акта в целях вызвать войну Германии против СССР. Соучастниками террориста были признаны директор техникума, в котором он учился, и многие студенты этого техникума. Перед судом прошли и жена директора, дочь Любарских, и престарелые ее родители. Анну Любарскую с Соловков возили в Москву, где она выступала свидетельницей на процессе. Излишне говорить о том, что после трехлетнего сидения в лагере особого назначения она давала показания, составленные ОГПУ, и не могла сказать ни одного слова от себя в защиту истины, в защиту своих родственников. Газеты широко освещали этот процесс, вспомнив о многочисленных «террористах», вышедших из стен этого техникума и осужденных в 1929 году по нашему делу. Любарские и их зять получили по этому процессу длительные сроки заключения в концлагерь. Дальнейшая судьба их мне не известна. Последним из этой семьи погиб старший сын Любарских, бывший дипкурьер. Как сообщали советские газеты, он, будучи комиссаром польского города Гдыни, застрелился за несколько дней до нападения Германии на Польшу в 1939 году. При этом советские газеты не преминули напомнить, что его братья занимались контрреволюционной террористической и шпионской деятельностью на территории СССР.
Уцелевшие от расстрела прочие молодые люди, члены организации и причисленные к организации, получившие от пяти до десяти лет срока заключения в концлагерь, теперь чинно сидели рядышком за столами в клубе Кемперпункта, выполняя работу по учету таких же жертв ОГПУ, как и они сами, работу по приказу лагерных тюремщиков, ставши рабами-заключенными на принудительном труде. Бок о бок сидели и беспартийные, и комсомольцы, теперь уже бывшие комсомольцы, которые одни вышли из комсомола, вступая в члены союза эсдекской молодежи, другие официально оставались в комсомоле, чтобы своим выходом из комсомола не навлечь на себя подозрения и тем самым на самое существование организации, и были исключены после ареста. В живых остались единицы из комсомольцев, большинство было расстреляно.
Смотрел я на всех этих молодых людей, с которыми меня свела горькая судьба, с которыми ОГПУ поставило меня на один жизненный путь, и не мог уже отделить себя от них. Скольким из нас, сидящим здесь в клубе, суждено пройти живыми через лагерь и чей был уже «близок час»? Хладнокровно рассуждая, для нас, двадцати с лишним десятилетников, не оставалось ни одного шанса остаться в живых, так как «естественная» смертность в лагере составляла 10% в год, а ведь каэров еще подстерегали и всякие другие неожиданности, повышающие их шансы на смерть. Недаром десятилетний срок в лагере назывался «смертной казнью в рассрочку». Для пятилетников выжить шансов было больше. И все-таки я знал случаи, когда освобождались каэры, просидевшие полностью десять лет. Но это были единицы, какие-то мельчайшие доли процента от количества посаженных в лагерь на срок в десять лет. Еще больше шансов имели выжить трехлетники, но их по нашему делу были только Васьков-отец и Ласкоронский. Всего по делу черниговской молодежи было посажено около ста тридцати человек, и только несколько из них, в том числе Троцкий и та девица-еврейка, которую везли с нами в Москву, отделались высылкой в Северный край на три года. Остальные все попали в лагерь. Так расправилось ОГПУ с неугодной ему молодежью и с совершенно невиновными людьми, вроде меня.
Подробнее о Любарских и деле Васильева-Штерна написано в очерке «Трагедия семьи Любарских».
НА СОЛОВКИ
«На Соловки поедешь» сказал мне Курилка на другой день, 30-го июля, когда я утром из барака зашел к нему в канцелярию роты, желая избавиться от возможной посылки на какую-нибудь работу. Он явно был очень расстроен, не смотрел мне в глаза. Видно, он очень переживал за меня. «Ничего не мог сделать, ни одного десятилетника здесь не оставляют, продолжал он и стал меня утешать; ну ничего, перезимуешь на Соловках, пройдешь этап, обязательный для десятилетников, а весной, с открытием навигации, опять с тобой встретимся здесь, я заберу тебя с Соловков к себе, так и прокоротаем наши сроки!»
Бедный Курилка, он не знал, что с открытием навигации его самого привезут на Соловки, арестованного в концлагере, со связанными за спиной руками, что это будет его последний путь на этой грешной земле, чтобы на Соловках, на Секирной горе, закончить свой жизненный путь, получив две пули в затылок. Я не знаю, за что он был приговорен к расстрелу в лагере, возможно, он попал в кампанию по чистке комсостава в лагере от офицеров Русской армии, производившуюся по постановлению Совнаркома в 1930 году. Во всяком случае, погиб он невинно, умножив ряды лагерных мучеников. У меня о Курилке остались самые прекрасные воспоминания, он действительно был человек с большой буквы.
Я стоял перед Курилкой растерянный, тяжело переживая сообщенную им новость. Соловки были мне известны лишь из смутных слухов, ходивших о них в народе. Более подробно, как о лагере смерти, о Соловках я узнал только в тюрьме. Поэтому так и тяжело было на сердце, когда я получил приговор, зная, что другого лагеря, как Соловки, нет, и мне придется там закончить свою жизнь. Неожиданная встреча с Курилкой буквально на пороге лагеря, его благожелательное покровительство как-то отодвинули в сознании предстоящий мне ужас заключения на Соловках, появилась какая-то слабая надежда зацепиться на краю пропасти, остаться на материке, пусть в лагере, но под крылышком Курилки. Теперь и эта слабая надежда исчезла. Усилием воли я согнал тоску со своего лица и горячо поблагодарил Курилку за его отношение ко мне. Он был растроган, горячо обнял меня, мы расцеловались. Не знал я, что больше не увижу его, даже на Соловках.
Когда я вернулся в барак, нарядчик уже вызывал по фамилиям заключенных на этап. Вызывали много казаков, шли с вещами и наши однодельцы-пятилетники. Вызвали Рублевского, он получил срок в пять лет. Он подошел ко мне, попрощался со мной за руку. В глазах у него была тоска и какая-то неловкость, смотрел он как-то неуверенно. Может быть, он думал, что я зол на него, что он назвал мою фамилию и сам отделался пятью годами, а мне влепили десять. Откровенного разговора у нас не вышло. Он не решился начать, а я, не имея ничего против него, естественно, не завел разговора на эту тему, а искренне пожелал ему всего доброго, что подняло его настроение. Так я его видел в последний раз. Весной следующего года, подорвав здоровье на зимних лесозаготовках, он умер от скоротечной чахотки в лагерном лазарете в Кемперпункте.
Шло формирование большого этапа на лесозаготовки в Карелии. Формировали из нашего и казачьего этапов, пятилетников и трехлетников, каэров и шпаны. Снова десятилетники оказались в привилегированном положении, поскольку их не посылали на лесозаготовки. Этап отправляли на одну из «командировок», как назывались лесопункты, по Ухта-Кемскому тракту, строительство которого заканчивалось в дни нашего прибытия в Кемперпункт и происходило буквально на костях заключенных. Условия работы и бытовые условия на этих бездонных топях были таковы, что мало кто из заключенных выживал на этих командировках. Показательно, что крупный биржевой петербургский маклер Натан Френкель, подвизавшийся с валютой при НЭПе, будучи арестованный в 1927 году, прошел в ДПЗ через все карцера, холодные и горячие, световые и фекальные, но не выдал следователям ОГПУ припрятанных ценностей. Получив срок, прибыв в Кемперпункт и узнав о зачислении его в этап на строительство Ухта-Кемского тракта, волевой еврей не выдержал. Одна только угроза попасть на эту стройку заставила Френкеля подать заявление начальнику концлагеря с просьбой принять от него в пользу лагеря все его ценности при условии не посылать его на стройку тракта. Одновременно он изложил свои соображения об организации производства в концлагере. Принятый его проект произвел буквально революцию в лагерном хозяйстве, о чем я подробно расскажу в дальнейшем. Таково было строительство Ухта-Кемского тракта, куда направляли наших однодельцев. Об их дальнейшей судьбе, за исключением единиц, я так больше ничего и не знаю.
В бараке остались одни десятилетники. Пришел и наш черед. Нарядчик вызывал по фамилии, заключенный выходил с вещами и становился перед бараком в строй, стандартный лагерный строй по четыре в затылок друг другу. Вызвали и меня. Я взвалил через плечо несколько уменьшившиеся в весе мешки, вышел из барака и стал в строй. Когда наш этап сформировали, нарядчик сделал перекличку. Вызывая каждого по фамилии, он передавал пакет с личным делом начальнику принимавшего нас конвоя, отделенному командиру войск ОГПУ, с двумя треугольниками в кроваво-красных петлицах. Вокруг нас стояли охранники с винтовками наперевес. Большинство из них были заключенные из бытовиков и уголовников, примерным поведением, доносами и подхалимством завоевавшие доверие лагерного начальства и к концу срока осчастливленные стать тюремщиками-солдатами частей войск ОГПУ. В отличие от служивших солдатами по воинской обязанности или вольнонаемными в этих частях, заключенные носили петлицу грязно-синего цвета и получали солдатский паек, во много раз превышавший паек заключенного. Поскольку на фоне голода, количеством поедаемых продуктов измерялось благополучие заключенного, эти тюремщики-заключенные оказывались на высшей ступени лагерного благополучия. Очевидно, все же полностью этим солдатам не доверяли, и в отделениях из заключенных солдат всегда служило несколько вольнонаемных солдат. Так и теперь несколько солдат нашего конвоя выделялись кроваво-красными петлицами, которые носили только вольнонаемные или служившие в войсках ОГПУ по воинской обязанности.
Всего в метрах тридцати от нас, развернутым фронтом градусов на сорок пять к нашему фронту, тоже по четыре в ряд, стоял этап, сформированный до нашего, готовый выступить по Ухта-Кемскому тракту пешком. Друзья-однодельцы еще недавно находившиеся в тесном контакте, бок о бок на нарах, теперь могли лишь смотреть издали друг на друга, разделенные двойной враждебной нам цепью охранников, и подойти друг к другу, чтобы проститься уже не могли. Таков был жестокий закон лагеря, исключающий все естественное, человеческое в отношениях между заключенными. Раздались команды, щелкнули затворы винтовок конвоиров, заколыхался громаднейший этап и зашагал, удаляясь от нас. Наша молодежь и казаки смотрели друг на друга, прощаясь взглядами, не смея даже поднять руки, смотрели многие друг на друга в последний раз.
К нашему этапу подвели несколько заключенных женщин, из них три интеллигентных молодых дамы. Это были Анна Любарская, Ладя Могилянская и ее подруга Левицкая, худенькая, маленькая, с пышной шевелюрой иссиня-черного цвета, весьма похожая на цыганку.
Подвела к нам эту группу женщина, вид которой был необычайный. Хотя на ней и была юбка, но комсоставский бушлат с двумя полосками на рукаве, комсоставская фуражка на голове и здоровенные сапоги создавали ей весьма воинственный вид, как-то не вяжущийся с представлением о прекрасном поле. Грубоватые окрики низким хриплым, почти мужицким голосом, которыми она подгоняла приведенных ею женщин, еще более заставили нас призадуматься, чья доля легче в лагере - мужчин или женщин. На такие размышления нас навела лишь чисто внешняя мимолетная оценка, главным действующим лицом которой была помкомроты женской роты Кемперпункта. Мы не знали в тот момент всего ужаса, который скрывался за этим чисто внешним обращением с женщинами, о тех чудовищных пытках чисто морального порядка, которым в лагере подвергалась порядочная женщина.
Помкомроты передала начальнику конвоя соответствующее количество пакетов и поставила женщин в строй по четыре в хвосте колонны с небольшим интервалом от хвоста колонны. Этот интервал занял конвоир с винтовкой, чтобы не допускать общения женщин с мужчинами-заключенными.
Недалеко от меня в колонне стоял с вещами инженер Привезенцев. Он был вне себя, и мы все очень боялись, что он что-нибудь сделает непоправимое в нарушение лагерного распорядка, навлечет на себя, а косвенно и на нас никому не нужные репрессии. Он, зная, что его жену как получившую срок в десять лет ни под каким видом не оставят на материке, а обязательно должны отправить на Соловки, после долгих просьб и унижений перед лагерным начальством добился того, что и его включили в список этапа идущего на Соловки, хотя он как пятилетник должен был остаться на материке с назначением, как инженер, на руководящую должность на производстве. На такое ухудшение своей судьбы в лагере Привезенцев пошел исключительно, чтоб не расставаться со своей женой, считая, что, находясь в одном лагере, он все же сможет хотя бы морально поддержать ее, а его присутствие умерит аппетит начальства в отношении его жены. Ужас его положения оказался в том, что его включили в этап, и он уже стоял под конвоем, а жену его не включили, оставив для утех начальства. Видя только троих наших «одноделок», не видя среди них своей жены, от тщетно пытался спросить их о причине отсутствия ее. Конвой не давал ему говорить, дамы молчали, боясь навлечь на себя гнев решительной командирши. Всем нам очень было его жаль, что мы могли бесправные сделать?
Через две недели Привезенцеву привезли в этапе на Соловки. Я видел ее, красивую, молодую, опустошенную, со страшной тоской в глазах. Начальство или побоялось все же нарушить высший приказ об обязательном концентрировании заключенных с десятилетним сроком на Соловках, или Привезенцева надоела кемперпунктовским развратникам, но факт тот, что и она Соловков не миновала.
Среди нас, стоящих для отправки на Соловки, не было еще одного десятилетника - инженера Васькова. На другой день после нашего прибытия на Кемперпункт, его назначили главным механиком лесопильного завода, здесь же на Кемперпункте. Я часто потом убеждался, что производственная необходимость внутри лагеря вынуждала чекистов отступать от приказов, получаемых из Москвы. Эту должность в очень вежливой форме Васькову предложил имевший большой вес среди лагерной инженерно-технической администрации заведующий лесопильным заводом. Он был офицером-сапером Русской армии, сражался против большевиков в армии генерала Пепеляева на Камчатке и после разгрома ее получил десять лет концлагеря в 1922 году. Сейчас он сидел уже восьмой год и поднялся довольно высоко по лестнице технической администрации. Переговоры с Васьковым он вел в присутствии большой группы нашей молодежи, с которой он обращался без всякого высокомерия, как равный заключенный с заключенным. Он много рассказал нам о лагерных порядках, от многого нас предостерег на первых наших шагах в концлагере.
С Васьковым я еще раз встретился на Соловках года через два, когда он, будучи уже заместителем главного механика управления Соловецких лагерей, приезжал из Кеми по приемке из капитального ремонта главного котла Соловецкой электростанции. Высокая должность Васькова не испортила, он обошелся со мной по-дружески, как с равным. Впоследствии я узнал, что его перевели на строительство Беломорканала, на какую-то большую должность. По окончании строительства он был досрочно освобожден, просидев все же около четырех лет, и благополучно вернулся к жене в Ленинград. На этапе Васьков рассказал мне, что за несколько дней до ареста он, проверяя какой-то измерительный прибор, сунул руку в ртуть и когда вынул обратно руку обручального кольца как не бывало. Оно растворилось в ртути. Этот случай поверг его в суеверный страх о судьбе своего брака, и когда он был арестован, вспомнил об обручальном кольце и решил, что все кончено. К счастью, примета оказалась не верной, Васьков вернулся в объятия своей достойной молодой жены, которая с достоинством несла свой крест и поддерживала дух мужа в заключении.
В сформированном из нас этапе были не только десятилетники. В строю стоял наш спутник по вагону, на костылях уголовник, склонный к побегу. Около него стояли четверо детей в возрасте от девяти до четырнадцати лет со всеми человеческими пороками отпечатавшимися на их прозрачных костлявых личиках. Они были босиком, одеты только в одни мужские белые сорочки казенного типа, спадавшие с их плеч и доходившие им до колен. Больше на них ничего не было, даже какой-нибудь шапчонки на их бритых головенках, которые они прятали от стужи, натягивая на них сорочки. Так попеременно, то натягивая, то спуская с головы сорочку, они согревали голову или ноги. Излишне говорить, что эти дети на руках не имели никаких вещей.
Раздалась уже знакомая команда «направо», «шаг вправо, шаг влево - конвой стреляет без предупреждения», щелкнули затворы винтовок. «А-рш», протяжно раздалась еще одна команда, ряды заколыхались, мы двинулись в последний путь по Большой земле навстречу неизвестному. Черниговцы шли рядами вместе, и я присоединился к ним. Из тех, кого везли со мной из Ленинграда в Москву, шли Холопцев, Воробьев, Бычков. Из черниговцев также были Кореневский, Снежков, Гуля-Яновский и еще человек десять, с которыми впоследствии я мало общался и потому фамилии их не помню. Подавляющее число последних были из Чернигова, хотя некоторые и учились в Киеве.

Гуля-Яновский Михаил Петрович
Идти пришлось недолго, из-за громадных валунов все отчетливее вырисовывалась панорама гавани. Колонна замедлила ход и остановилась. Открыли ворота, и по четыре в ряд со счетом охранники пропустили нас через ворота на пристань, у которой под парами стоял окрашенный в стальной цвет однотрубный, с двумя наклонными мачтами, с изящным маленьким бугшпритом, небольшой, водоизмещением около полутора тысяч тонн, пароход «Глеб Бокий».
Подхалимство неотделимый спутник диктатуры, и подхалимство, в особенности среди лагерного начальства расцветало пышным цветом. Глеб Бокий был членом коллегии ОГПУ и начальником спецотдела ОГПУ, ведавшим в Москве концлагерем. В дальнейшем, когда, кроме Соловецкого, лагеря начали расти, как грибы, еще большее количество концлагерей в аппарате ОГПУ в Москве появился еще один отдел - Главное управление лагерей (ГУЛАГ), который тоже возглавил Г. Бокий, а спецотдел стал заниматься только вопросами «личного состава» лагерей, заключенными в разрезе добавления им срока или уменьшения срока сидения в лагерях. Кто-то из лагерного начальства подхалимно назвал самый большой пароход флотилии Соловецкого лагеря «Глеб Бокий», именем своего высокого начальства. Характерно то, что когда в начале тридцатых годов флотилия пополнилась более мощным пароходом в 3000 тонн водоизмещения, и этот пароход был назван «Глеб Бокий» уже каким-то другим подхалимом. Пришлось меньший «Глеб Бокий» переименовать в «СЛОН» (Соловецкий лагерь особого назначения). Меньший «Глеб Бокий» принадлежал Соловецкому монастырю под названием «Вера». У Соловецкого монастыря таких полуледокольного типа пароходов было три: «Вера», «Надежда» и «Любовь». Два из них увезли за границу части генерала Миллера, когда происходила эвакуация Северной армии, и остались заграницей. Третий достался лагерю. Каверин, автор известного романа «Два капитана» в своей повести «Семь пар чистых и семь пар нечистых» придерживается другого мнения, что оставлен был пароход «Надежда», переименованный к началу второй мировой войны в «Онегу» и занимавшийся по-прежнему, как десять-пятнадцать лет тому назад, перевозкой этапов заключенных.
В конце концов, для нас было совершенно безразлично бывшее название парохода, на котором нам предстояло погрузиться, был ли он «Верой» или «Надеждой», потому что если раньше богомольцы сами ехали на Соловки с верой к Святым местам и надеждой на вечное спасение, то теперь заключенных везли насильно на остров смерти, при попадании на который не оставалось ни веры в справедливость, ни надежды вернуться живым из мест, подчиненных Глебу Бокию.
Закончилась погрузка в кормовой отсек трюма продовольствия и предметов технического снабжения в бочках и ящиках. Перестала грохотать лебедка, и в водворившейся тишине раздалась команда: «По одному на трап на пароход». По трапу на шканцы потянулась вереница заключенных нашего этапа. Пришла и моя очередь сделать последние шаги по земле, по материковой земле, и вступить на шаткие доски трапа. В эти минуты у меня не было никакой надежды когда-либо снова увидеть Большую землю. Я приготовился к окончанию моей жизни на острове. Это было очень невесело, так как последнее, что покидает человека,- надежда на что-нибудь, и без нее человек перестает быть человеком, а надежда покинула меня.
Идя гуськом, заключенные подходили к люку переднего отсека трюма и спускались в него по вертикальной лесенке мимо двух конвоиров, стоявших у люка. Прошел и я шканцы, тоже по лестнице спустился в трюм, предназначенный для живого груза - заключенных. В трюме не было никакой мебели, садились прямо на пол или старались протиснуться к бортам парохода или перегородке отсека. Все располагались, как только могли. Кто сидел на чемодане, кто на корточках, облокотившись к стенке. Я пристроился на своих мешках и спиной прильнул к борту парохода. В трюме царил почти полный мрак, так как освещения не было, и свет проникал только через люк трюма.
Весь этап был загнан в трюм за исключением женщин, которых поместили на носовой палубе под охраной конвоиров. На палубе затопали матросы, в трюм донеслись обрывки команд. Корпус парохода содрогнулся от запущенной паровой машины, за бортом послышалось булькание воды, становившееся все более громким по мере увеличения хода парохода.
Сон никогда не покидал меня, даже при особо неприятных переживаниях. И тут, под мерный стук машины, под убаюкивающий плеск воды за бортом, я незаметно уснул, сидя на своих мешках, плывя навстречу неизвестному. Сон выключил меня из действительности, дал мне душевный покой, возможность не думать о тягостном будущем, о возрастающем расстоянии до Большой земли.
Последней мыслью было сознание, что этой дорогой уже провезены на Соловки десятки тысяч заключенных, и напрашивался вопрос, сколько их везли в обратном направлении, скольким единицам посчастливилось выйти живыми из Соловецкого лагеря. Пароход, как мне показалось, шел на Соловки несколько часов. Проснувшись, я вернулся к своим невеселым мыслям, чувствуя, что перехожу Рубикон и что если я даже останусь в живых, возврата к прежней жизни не может быть, потому что, прежде всего, я уже стал другим, с одной моей жизнью было покончено. Наступала вторая моя жизнь, жизнь раба, жизнь, которая по всем данным не могла быть долгой в концлагере на Соловецких островах.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ. СОЛОВКИ
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
Соловецкие острова находятся на севере нашей страны на Белом море у входа в Онежский залив (по-местному губу) под 65*40' северной широты и 35*46' восточной долготы (по Гринвичу). Если на карте провести прямую линию от города Кемь на Карельском берегу Белого моря до мыса Крестового на Летнем берегу, то группа Соловецких островов окажется на середине этой линии в равном расстоянии как от Кемского, так и от Летнего берега, от обоих примерно в 60-и километрах (32 морские мили).
Группа Соловецких островов состоит из Большого Соловецкого острова, к востоку от него островов Анзерского, Большой и Малый Муксалмы и Заяцких островов у юго-западного края Большого Соловецкого острова, в одном километре от него. К северу от Заяцких островов расположены у самого берега Большого Соловецкого острова небольшие островки Парусный, Сенные и Песьи. Последние, по преданию, получили свое название в связи с тем, что по монастырским правилам на Соловецких островах запрещалось иметь собак, и если таковое животное оказывалось на подходившем к острову корабле, собаку сбрасывали в море у этих островов, поскольку они прикрывают вход в бухту Благословения, где имеется пристань.
Проливы между Большим Соловецким островом и обеими Муксалмами называются Железными воротами, между Большим Соловецким островом, Муксалмами и Анзеровским называется Анзерской Салмой, а между Большим Соловецким островом и Заяцкими островами – Печаковской Салмой. Около островов много мелей, каменных луд и подводных камней. Единственный расчищенный, но довольно извилистый фарватер для подхода к острову кораблей, ведет в бухту Благословения, расположенную в юго-западном углу Большого Соловецкого острова. Побережье островов изрезано и другими многочисленными заливами, из которых наибольший на восточном берегу Большого Соловецкого острова – Глубокая губа, разрезающая остров почти полностью на две неравные части, меньшую северную и большую южную. Вторая по величине губа – Сосновая на севере Большого Соловецкого острова. Большой Соловецкий остров вытянут с севера на юг, имеет в длину около 25 километров, в ширину 16 километров. Площадь его составляет 250 квадратных километров, площадь всей группы островов около 800 квадратных километров.
Покатость морского дна направлена к северу. Так близ северных берегов Большого Соловецкого и Анзерских островов глубина достигает 20 метров, а в 10 морских милях промеры дают уже глубины от 60 до 100 метров. В проливах между островами глубины достигают от 20 до 60 метров. Соленость воды, благодаря обилию полноводных рек, впадающих в Белое море, и ничтожность испарения, весьма незначительна, не более 0,3%. В бухте Благословения отмечается необыкновенная прозрачность воды, окрашенной в зеленоватые тона. Дно легко просматривается до глубины шести метров.
В геологическом отношении Соловецкие острова представляют собой мореные отложения из песка и большого количества валунов. Находясь на Скандинавском щите, Соловецкие острова, благодаря поднятию почвы, отличаются обилием террас вдоль побережья на различных горизонтах над уровнем моря. Побережье островов низменно, состоит из песка и мелких и крупных камней. Исключение составляет южная оконечность Большого Соловецкого острова вдающимся в море гранитным мысом Печак восьмиметровой высоты. Поверхность Большого Соловецкого острова гориста, но без крутых подъемов. Высшей точкой острова в 105 метров над уровнем моря является каменистая, покрытая лесом, Секирная гора в юго-западной части острова. Посередине большей части Большого Соловецкого острова проходит горный кряж – Гремячевские горы.
На Большом Соловецком острове около трехсот озер, расположенных на разных уровнях террас. По своему происхождению большинство из них древние лиманы, образовавшиеся вследствие поднятия острова над уровнем моря. В противоположность лиманам южных морей, постоянно засолонявшимися от интенсивного испарения, Соловецкие лиманы, содержавшие почти пресную воду Белого моря, со временем, вследствие избытка атмосферных осадков над испарением воды из лиманов, последние совершенно опреснились и превратились в озера с пресной водой. Рыбой озера бедны.
Верхний землистый слой почвы весьма тонок и ограничен небольшой частью островов, главным образом на склонных холмов Большого Соловецкого острова, где произрастает смешанный лес характерный для средней полосы России. Сосной преимущественно богаты горы, смешанный же лес, состоящий главным образом из березы, осины и ели растет в более низких болотистых местах, перемежаясь с кустарником, которым и сплошь покрыты малые острова. Из ягод произрастают морошка, брусника, черника, голубика, вороника, клюква, рябина, черемуха и малина. Возделываются черная и красная смородина.
Фауна островов состоит из лисиц, зайцев и белок и разнообразных пернатых: глухарей, тетеревов, рябчиков, куропаток и разных мелких птичек. По количеству особей доминируют морские чайки, больших размеров, гнездящиеся на стенах монастырского кремля. На зиму чайки улетают. С XV века на Большом Соловецком острове жило несколько оленей, завезенных с материка Настоятелем Соловецкого монастыря Митрополитом Филиппом. Однако к концу двадцатых годов нашего столетия остался лишь один олень, почти ручной, по кличке Мишка. В водах Белого моря, омывающего острова, водится много промысловой рыбы: соловецкая сельдь и другие ее сорта, в том числе и иваси, появившаяся в бассейне Белого моря после большого землетрясения в Японии в 1923 году. В число промысловых рыб также входит и треска, заходящая большими косяками из Баренцева моря. Объектом промысла так же являются беззубый кит-белуха и разной величины тюлени от самого большого – гренландского, до самого малого – морского зайца.
Благодаря заходу Гольфстрима в горло Белого моря, средняя годовая температура на Соловецких остовах несколько выше средней температуры на Карельском и Летнем берегах на той же широте, но все же составляет лишь +1* по Цельсию. Лед вокруг островов образует припой до 15-18 километров, а на просторе Белого моря вода зимой не замерзает и по ней движутся в направлении дующего ветра ледяные поля и разбитый лед по-местному шуга. Последнее обстоятельство препятствует установлению сообщения островов с материком по льду, и Соловецкие острова фактически отрезаны от Большой земли на все время полярной зимы. Навигация закрывается в конце декабря и возобновляется в середине июня. Снежный покров лежит с октября по май месяц включительно. Наиболее теплые месяцы июнь и июль. В августе начинаются заморозки. Число солнечных дней в году очень мало, наиболее солнечные месяцы февраль и август. Ниже 30*С морозов не бывает. Количество осадков очень большое, часты туманы. Климат чрезвычайно сырой, с резкими переходами температур.
СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Соловецкий монастырь был основан в 1429 году двумя монахами Кирилло-Белозерского монастыря Савватием и Германом, приплывшим на лодке в бухту Благословения на Большом Соловецком острове. Острова были совершенно необитаемы и два монаха, срубив небольшой скит у подножия Секирной горы, в уединении прожили 6 лет. Решив основать новый монастырь, Савватий на той же лодке поплыл обратно, но добравшись до села Сороки (теперь Беломорск у начала Беломорско-Балтийского канала) умер там, а на смену ему на Большой Соловецкий остров прибыл монах Зосима с несколькими другими монахами, с помощью которых Герман поставил первую церковь на Соловках на Секирной горе. Одновременно Зосима получил назначение от Новгородского Архиепископа стать первым Игуменом Соловецкого монастыря. Впоследствии и Зосима и Савватий были причислены к лику святых и их мощи хранились в серебряных раках в Троицком соборе в Соловецком монастыре. При третьем Игумене, Ионе, монастырь выхлопотал у Великого Новгорода дарственную грамоту на вечное владение всей группой Соловецких островов, что было в дальнейшем подтверждено Московским царем Иоанном III. Дальнейшее укрепление материальной базы Соловецкого монастыря последовало в 1450 году, когда новгородская боярыня Марфа Посадница передала безвозмездно в собственность монастыря принадлежавшие ей беломорские волости Суму и Кемь. Поскольку эти волости, хотя были и редко населены, все же из них оказался некоторый приток рабочей силы для строительства монастыря, в котором принимали участие не только все увеличивающееся количество соловецких монахов, но и крестьяне с материка.
С увеличением численности монахов центр строительства монастыря был перенесен на восточный берег бухты Благословения в юго-западной части Большого Соловецкого острова, где воздвигались из дерева церкви и монастырские постройки. В 1485 и 1557 годах монастырь дважды сгорал и после второго пожара, при Игумене Филиппе, впоследствии Митрополите Московском, было воздвигнуто первое каменное здание.
Но не только огонь угрожал деревянному монастырю. В 1571 году на монастырь было произведено, правда неудачное, нападение шведской воинской части, что вызвало необходимость со стороны Московского государства обратить внимание на защиту самого северного русского форпоста, и в Соловецкий монастырь был прислан отряд стрельцов с пушками под командованием воеводы Озерова. Так было положено начало военному значению Соловецкого монастыря, превращению его и в крепость на Белом море.
Воевода обнес деревянной стеной с башнями монастырские постройки, сделав святую обитель опорным пунктом защиты северных границ Российского государства. Последующая планировка и строительство монастыря, его архитектура, сохранившаяся до наших дней, наравне с служением Господу, отражало и военное значение Соловецкого монастыря, как неприступной крепости.
В 1584 году взамен деревянных крепостных стен началось строительство Соловецкого кремля, принявшего форму вытянутого с севера на юг пятиугольника, напоминающего в плане очертания корабля, нос которого венчает Головленковская башня, обращенная на юг. Кроме Головленковской башни, на остальных четырех углах пятиугольника стоят в северо-восточном углу Архангельская, в юго-западном Прядильная и северо-западном Сторожевая. Последняя наиболее высокая от подножья и приподнятая рельефом почвы доминирует над всеми башнями. С ее верхней площадки в ясную погоду хорошо виден низменный Карельский берег. На восточной стене кремля возвышаются две башни, а на западной одна, размерами и высотой меньше чем угловые башни. Стена и башни сложены из огромных глыб весом в десятки тонн из дикого камня, верхняя зубчатая часть стены и верх башен сложены из обожженного, до твердости стали, кирпича. Ширина стен у основания до десяти метров, наверху шесть метров, высота стен двенадцать метров. В стенах имеются семь ворот, в том числе Святые и Сельдяные, выходящие на запад на берег бухты Благословения, восточные – Никольские, Успенские, Квасоварные и Поварские и южные – Архангельские в юго-восточной стене. Когда Соловецкий монастырь был занят под концлагерь в Святых воротах разместили пожарную команду, имевшую выезд и вовнутрь и внаружу кремля. Сельдяные ворота были оставлены для выхода монахов из отделенного от остальной части кремля высоким забором с колючей проволокой и электрической сигнализацией Сельдяного корпуса, отведенного для их проживания. Никольские ворота охранялись вооруженным нарядом войск ОГПУ и служили единственным выходом из кремля для заключенных по пропускам. Южные ворота открывались только для провоза зерна на мельницу, расположенную в подвале Головленковской башни. Остальные трое ворот были заделаны наглухо толстой кирпичной кладкой, а тоннели ворот были использованы концлагерем для хозяйственных нужд. В одних воротах была сделана серная камера для дезинфекции меховых вещей заключенных, там же иногда и производились расстрелы заключенных. Площадь кремля 0,6 квадратных километра, строился он 12 лет.
Внутри кремля постепенно в XVI и XVII веках были воздвигнуты девять каменных церквей. Из них главный Троицкий собор и самый большой Преображенский собор, который, по свидетельству побывавших в нем до революции богомольцев, отличался весьма великолепной, художественной и богатой отделкой. Непревзойденной странной архитектурой отличалась церковь Благовещения над Святыми воротами, превращенная лагерным начальством в общежитие пожарной команды, откуда по столбам, во время тревоги, пожарники попадали прямо в пожарное депо. Архитектурно связанная с Троицким собором возвышалась шестидесятиметровая главная колокольня монастыря с тридцатипятью колоколами, из которых самый большой весил около 17 тонн. Пятнадцати метровый шпиль этой колокольни, покрытый золотом, в ясную погоду был виден от Карельского берега и служил ориентиром судам направлявшимся на Соловецкие острова. И золото и колокола с колокольни были изъяты советской властью, и колокольню я увидел уже в очень непривлекательном виде и с ободранным шпилем.
Под церковью Николая Чудотворца помещалась монастырская ризница, в которой хранились пожертвования Московских царей начиная от Иоанна III и других богатых жертвователей и богомольцев. В ней также хранились реликвии русского народа: палаш князя Михаила Скопина-Шуйского и соболя князя Пожарского.
Двор кремля был замощен булыжником и кое-где были насажены деревья. У Троицкого собора сохранились надгробные плиты над могилами некоторых игуменов монастыря и украинских гетманов и атаманов Запорожской Сечи, сосланных в Соловецкий монастырь в царствование императрицы Екатерины II и принявшие здесь монашеский сан.
Вдоль кремлевской ограды с внутренней стороны были возведены также здание трапезной с неповторимой росписью потолка неизвестных мастеров и жилые дома в два и три этажа с кельями для монахов. Дома имеют коридорную систему. Большинство келий имеют размеры 8-9 квадратных метра и были рассчитаны на проживание двух монахов. Отопление печное – одна печь на две смежные кельи, с топкой из коридора. Со стороны келий печи облицованы кафельными плитками и занимают до половины смежной стенки келии. Особенность этих печей состояла в том, что они имели очень толстые стенки и большой объем. Топить их приходилось один раз в неделю большим количеством дров, и максимум теплоотдачи печки приходился на четвертые-третьи сутки после топки. Вентиляция келий также очень своеобразна, но в то же время и эффективна. Форточки отсутствуют, но в верхней части среднего весьма широкого переплета обеих рам вырезаны круглые отверстия диаметром 6-7 сантиметров, которые затыкаются деревянным кляпом. Достаточно вынуть кляп, чтобы наступила быстрая вентиляция кельи. Скорость поступающего воздуха такова, что задувает свечу, стоящую у окна.
Постройка каменного кремля на Большом Соловецком острове и деревянных острогов в принадлежавших Соловецкому монастырю двух посадах Сума и Кемь на Карельском берегу превратили этот район Белого моря в неприступную границу Руси, что сразу сказалось при новом военном столкновении со шведами в 1582 году, когда противник был снова разбит. А в 1596 году войска Соловецкого монастыря провели успешную карательную экспедицию против финнов, разграбивших г. Каяну и прилегавшие к нему поморские и карельские селения. Эта карательная экспедиция надолго установила мир на Севере.
К этому времени численность русских войск базировавшихся в Соловецком монастыре была доведена до тысячи человек. Эти войска содержались за счет монастырских средств, и настоятель Соловецкого монастыря стал фактическим командующим этими стрелецкими соединениями. Стратегическое значение монастыря, превратила духовного пастыря монашеской братии в светского администратора большого края и к тому же еще и военачальника. Фактическое положение дел было оформлено в конце шестнадцатого века, сначала изъятием Соловецкого монастыря из юрисдикции местной духовной и светской власти, а затем отозванием в 1637 году последнего воеводы стрелецкого войска, который сдал настоятелю монастыря все «письменные» дела, ключи от крепостных ворот и воинские запасы. Одновременно настоятель монастыря стал назначаться непосредственно Московским Патриархом и Царем.
Оставшись полновластным правителем и военачальником, настоятели приложили немало усилий к дальнейшему укреплению обороноспособности вверенного им форпоста. Так во время шведско-ливонской войны при царе Алексее Михайловиче настоятель распорядился о поголовном вооружении монахов и «ратному делу их обучению». Это мероприятие пополнило подчиненную настоятелю рать на 454 солдата-монаха. Имея перед собой полуторатысячную соловецкую армию, шведы воздержались от нападения на севере и возможных действий не произошло.
Раскол, потрясший Русскую Православную Церковь в середине XVII века, раскол, вызванный исправлением церковных книг Патриархом Никоном, тяжело отразился на политическом и материальном величии Соловецкого монастыря. Не принявшие «новой» веры многочисленные старообрядцы бежали от преследования церковных и светских властей, заполняя дикий Север. Оплотом этого сопротивление Патриарху Никону и Московскому царю, принявшему реформу Никона, стал Соловецкий монастырь. Против крамольного монастыря было двинуто стрелецкое войско под командованием воеводы Мещерякова, начавшее осаду Соловецкого кремля в 1667 году. Монахи мужественно защищали свои убеждения, и осада длилась безрезультатно семь лет. На зиму воевода осаду снимал и отплывал на зимовку в Кемь, а с открытием навигации стрельцы снова высаживались на Большом Соловецком острове, жгли деревянные постройки, отстроенные за зиму монахами, вне стен кремля, ходили на приступы кремлевских стен и снова отплывали на материк. Неизвестно чем бы окончилась эта осада, если бы на седьмой «сезон» осады не предал бы монастырь соловецкий монах Феоктист. Через потайную дверь в Головленковской башне он ночью провел отряд стрельцов внутрь кремля. Стрельцы открыли ворота для вторжения всего стрелецкого войска, которое перерезало сонных монахов и разграбило монастырь.
Последним военным эпизодом в истории Соловецкого монастыря, как северной крепости, Российского государства, была попытка англичан захватить монастырь с моря во время Крымской войны. 7 июля 1854 года английская эскадра на отказ о безоговорочной капитуляции Соловецкого монастыря, подвергла сильному обстрелу кремль и прилегающие к нему постройки. Был поврежден Преображенский собор и была разрушена гостиница для богомольцев. Повреждений кремлевским стенам ядра почти не нанесли, но до сих пор можно видеть английские ядра вплавившиеся в кирпичную толщу стен. Большая пирамида из ядер сложена внутри кремля, что свидетельствует об интенсивности обстрела. Составлявшая гарнизон кремля воинская команда под командой офицера, а не настоятеля монастыря, который утерял эту должность после разгрома монастыря стрельцами, имела на вооружении на кремлевской стене устаревшую артиллерию, уступавшую, по дальнобойности английской корабельной. Вследствие этого ответный огонь крепости не причинял английским кораблям какого-либо вреда поскольку эскадра вела огонь с предельной дистанции. Исход боя решил выезд одной батареи на открытую позицию на выдающейся далеко в море низменной косы в юго-западной части острова в районе Кремля. Несколько попаданий в английские корабли заставил эскадру отойти от островов и снять морскую блокаду монастыря.
О причине бегства английской эскадры сложена поэтическая легенда, героями которой являются не римские гуси, а соловецкие чайки, которые испугавшись пальбы, бесчисленной стаей взлетели с гнезд на кремлевской стене и долго кружились над морем. Обессилев, они сели на отдых на реи английских парусных судов. Английский адмирал, зная на редкость едкую консистенцию гуано морских чаек, испугался за целость парусов своих кораблей и приказал эскадре отойти от Соловков, чтобы избавиться от чаек, которые вернулись на свои гнезда. «Так чайки спасли Соловецкий монастырь от англичан» - заканчивается легенда. Истлевшие лафеты пушек геройской батареи находились на этой косе еще в начале тридцатых годов нашего столетия. Я сам видел их и свалившиеся с них стволы орудий, которые лежали на них. История сохранила и фамилию командира этой батареи – Другинский.
Значение Соловецкого монастыря в истории определяется не только, и не столько его военными эпопеями, сколько выполненной им роли центра духовной жизни населения всех северных губерний европейской части России, его просветительной ролью в самые глухие закоулки северных губерний и чтимость этих Святых островов выливалось в посещении их десятками тысяч паломников. Во всех Северных губерниях верующие, погружаясь в мирские дела, мысленно всегда обращались к Соловецкой обители, и часто давали обет Богу, в случае удачи в своих земных делах или спасении верующего от какой-либо нависшей над ним беды, прожить в Соловецком монастыре один-два-три года вдали от семьи и своим трудом, лишь за свое пропитание, умножить богатство монастыря. Таких верующих, давших обет временного жития на Соловках, постоянно проживало в обители до трех тысяч человек. Назывались они труднями. Для них были построены специальные дома вблизи стен кремля, и они работали наравне с монахами в многоотраслевом хозяйстве монастыря.
Со времени своего основания Соловецкий монастырь был центром культуры всего Севера и трудно переоценить его колоссальную просветительную роль. В библиотеке монастыря собирались рукописи, и монахи занимались переписыванием, размножением и распространением не только духовных книг всех наименований, зачастую весьма художественно оформленных, но и занимались распространением, так называемых, светских книг, преимущественно в области прикладных знаний и начального образования. Размах этого вида деятельности монастыря стал еще больше с устройством типографии, единственной, в то время, на все северные губернии. Одновременно с рукописями, библиотека все интенсивнее пополнялась не только богословскими, но и чисто научными книгами. Была собрана настолько уникальная библиотека, что министерство просвещения в 1854 году признало целесообразным передать ее Казанскому университету, что и было выполнено.
Соловецкие монахи внесли крупный вклад в дело освоения не только самих Соловецких островов, но и Приполярья, как в использовании естественных богатств края, так и продвижения на север овощных и зерновых культур и молочного скотоводства. На необитаемых, пустынных Соловецких островах монахи создали образцовое хозяйство. Была проложена густая сеть мелиоративных каналов, осушивших большую часть Большого Соловецкого и Большого и Малого Муксалмы островов. На осушенных землях, путем систематической их культивации, были созданы двадцать две тысячи гектаров прекрасных сенокосных лугов, дававших ежегодно до 1000 тонн сена. Расположенных на разных горизонтах озера на Большом Соловецком острове были соединены сетью каналов со шлюзами для регулирования спуска воды в созданное руками монахов искусственное Святое или Кремлевское озеро. В сеть наполнявшую Святое озеро было включено 110 озер. Благодаря очень влажному климату в воде никогда недостатка не было, что позволило монахам использовать воду Святого озера не только для водоснабжения кремля, но и разность горизонтов Святого озера и Белого моря, как гидроэнергетический ресурс. В направлении берега бухты Благословения из Святого озера проложено под землей четыре канала, два едва прикрытых слоем земли и два на большой глубине с истоками в центре озера на его дне. Из первых двух один служит для наполнения сухого дока монастырского судоремонтного завода, второй подводил воду к пилораме для ее работы. Глубоко расположенные под землей два канала подходят под кремлевской стеной и служат для водоснабжения кремля. Вода одного из них, подходящего под юго-восточную стену вращала мельничные жернова водяной мельницы. Таким образом во время осады кремля монахи всегда были с водой и мукой из имевшихся у них запасов зерна. Последние два канала имели безусловно военное значение, также как и расположение самого Святого озера, омывавшего кремль с востока и наполнявшего своей водой ров, защищавший северную стену кремля. Аналогично водой из Святого озера заполнялись рвы вдоль юго-восточной и юго-западной стен кремля. Западная стена кремля проходит в метрах пятидесяти от кромки воды берега бухты Благословения. На этой полоске суши не могли развернуться штурмующие кремль войска. Таким образом, фортификатор XVI века Трифонов не мог выбрать более удачного места для постройки кремля, а монахи с большим мастерством и продуманно использовали водные ресурсы и рельеф местности для создания еще большей неприступности монастыря. Основные работы по использованию водных ресурсов острова и прокладки отличных дорог были сделаны в XVI веке при настоятеле Филиппе, впоследствии Митрополите Московском. При нем же был перекрыт пролив Железные ворота между Большим Соловецким островом и Большим Муксалмой полуторакилометровой дамбой с небольшим для пропуска приливных вод мостом.
На острове Большой Муксалма монастырь имел молочную ферму на 80 голов крупного рогатого скота и овчарню на 150 овец. Первая в изобилии снабжала всевозможными молочными продуктами богомольцев и трудней, продукция второй разнообразила меню в скоромные дни тех же потребителей, а монахи и трудни всегда были тепло одеты в валенки и шерстяные одежды. Конюшня на 180 лошадей находилась вблизи кремля на северо-восток от него, где начинались монастырские огороды и пахотные земли, уходившие вглубь острова. На огородах выращивались картофель, капуста, свекла, морковь, лук, чеснок и другие огородные культуры в количествах вполне обеспечивавших на круглый год монахов и трудней. Благодаря большому парниковому хозяйству, в котором выращивалась рассада огородных культур, короткого лета хватало для получения обильных и качественных урожаев. Из злаковых монахи сеяли только ячмень. В мою бытность на Соловках лагерный сельхоз из злаковых сеял еще скороспелые сорта овса и ржи. Последняя не все года успевала вызреть.
Имея рыболовецкий флот из весельно-парусных карбасов, имевших такие мореходные качества, что улов рыбы производился и далеко от берегов, Соловецкий монастырь для пропитания своего населения нуждался только в двух видах продуктов: зерне и растительном масле, которые завозились в монастырь. Всем прочим монахов обеспечивало их собственное хозяйство.
На Большом Соловецком острове монахи организовали многоотраслевое производство, которое не только обслуживало население монастыря, но и давало прибыль монастырю от продажи его изделий на рынках материка. Монастырь, построив для некоторых производств специальные здания, организовал заводы судоремонтный, кожевенный, кирпичный, известково-алебастровый, гончарный, лесопильный, смолокуренный, салотопный, мельницу, которая перемалывала покупаемое зерно (муку монахи не ввозили на острова), мастерские: карбасную, канатную, санную, корзино-экипажную, слесарную, столярную, переплетную, сапожную, портняжную и свечную. Была организована типография. При начальном училище была иконописная мастерская.
Судоремонтный завод, обладая сухим доком, вмещавшим суда до полуторатысяч тонн водоизмещением, и вагранкой для чугунного литья, медеплавильной печью, кузнечным и механическим цехами с набором токарных, сверлильных и строительных станков, производил капитальный ремонт не только судов принадлежавших монастырю, но и судов пароходных компаний, имевших арктический флот.
Карбасная мастерская строила карбасы не только для нужд рыболовства монахов, но и на продажу поморам всего Белого моря.
Лесопильный завод работал с полной нагрузкой, поставляя в избытке пиломатериалы главным образом для продажи, даже за границу. Леса, покрывающие Соловецкие острова вырубались лишь на топливо, а деловой лес сам приплывал к берегам Соловецкого острова и выбрасывался волнами на его берега, благодаря течению, омывающему острова. Шедший молевым сплавом по рекам впадающим в Белое море, лес в известном проценте прорывался мимо запаней в устьях рек и выносился в открытое море, откуда течением неизменно попадал на монастырскую лесопилку.
Если всевозможные бытовые мастерские и заводы избавляли монастырь от расходов по покупке на материке необходимых в быту предметов, то целый ряд заводов и мастерских, работая в очень большой степени на «внешний» рынок, давали возможность вести монастырское хозяйство с прибылью даже без пожертвований паломников.
Немалый доход давали соляные промыслы монастыря, расположенные как на островах так и в скитах Сумы и Кемь. Солеварни давали ежегодно до двух с половиной тысяч тонн поварской соли на сумму двадцать две – двадцать три тысячи рублей, поставляя соль на весь Север.
Общий доход монастыря в начале ХХ века от продажи товаров произведенных на монастырских предприятиях, как лесоматериалы, карбасы, продажи сена и ремонта судов компаний, составлял в год около 150 тысяч рублей, какая сумма с лихвой покрывала расходы на покупку зерна и растительного масла.
В начале ХХ столетия монастырь построил гидроэлектростанцию у кремлевской стены почти на берегу бухты Благословения, использовав напор вод Святого озера, подававшихся на гидротурбину Френсиса каналом через лесопильную раму. Динамо-машина, мощностью в 25 киловатт подавала электроэнергию для освещения трех, построенных для богомольцев, гостиниц, двух двухэтажных деревянных и одной трехэтажной каменной, на берегах вокруг бухты Благословения. Не отставая от прогресса, монастырь имел искровую радиостанцию для сношения с материком. Монах-радист в клобуке и подряснике отстукивал ключом точки и тире по азбуке Морзе, в то время как другой монах-электрик внимательно следил за показаниями приборов на распределительном щите гидроэлектростанции, регулируя напряжение в электросети лампочек в гостиницах для богомольцев. В кельях и храмах монахи довольствовались свечами и лампадами.
Для удобства паломников монастырь содержал подворья в Архангельске и Кеми, где путешественники могли отдохнуть в ожидании переезда морем. Архангельск и Кемь были связаны с Большим Соловецким островом регулярными пароходными рейсами, поддерживаемыми тремя монастырскими грузопассажирскими пароходами, полуледокольного типа, водоизмещением по полторы тысячи тонн. Они назывались «Вера», «Надежда» и «Любовь». Построены на английских верфях в 1909-1910 годах и по своей конструкции были приспособлены для плавания во льдах. Деревянный корпус был обшит стальными листами, дававшими возможность сходу дробить лед 20-30-сантиметровой толщины.
Монастырь имел также два скита на острове Анзерском - Голгофа и Анзерский. Последний пользовался печальной славой, так как на него под строгий надзор переводили провинившихся монахов. Омрачавшей Святость монастыря была и ссыльная тюрьма в Головленковской башне, куда ссылались противники Московских царей и Российских императоров. Как правило, это была пожизненная ссылка. Здесь окончили жизнь духовник Иоанна IV Сильвестр, келарь Троицко-Сергеевской Лавры Авраамий Палицын и многие светские деятели, начиная от Касимовского царя Симеона Бекбулатовича и кончая многими запорожскими атаманами и украинскими гетманами. Камеры для ссыльных размещались в нескольких этажах башни, в том числе и подвальных, и были оборудованы кольцами в стенах, к которым цепями приковывали ссыльных. И кольца и цепи сохранились до наших дней. Однако камеры были безусловно сухими, так как после закрытия тюрьмы в девяностых годах XIX столетия, монахи устроили в камерах лукохранилище, которое должно быть безусловно сухим. Другим косвенным подтверждения хороших условий содержания ссыльных является тот факт, что например последний атаман Запорожской сечи Петр Кальнишневский скончался в возрасте 112 лет. Согласно виденным мною надгробным плитам и другие ссыльные умирали в очень почтенном возрасте.
Во всем обширном многоотраслевом хозяйстве монастыря кроме трудников, работали и сами монахи, количество которых в разные века колебались от почти 500 человек в XVII веке (до разгрома монастыря) до 230 человек в начале ХХ века и до 115 человек в момент ликвидации монастыря летом 1930 года. Трудники в подавляющей массе составляли на предприятиях «рабочий класс» и выполняли все работы в сельском хозяйстве монастыря, в то время как многие монахи были высококвалифицированными специалистами в разных областях производства и выполняли работу мастеров. Так монахами был радист, электрик, механики, докмейстер, мастера литейного и механического цехов судоремонтного завода, мастера карбасного, кирпичного и других производств, слесаря и маячные сторожа, лоцманы и смотритель внутренней водяной системы, капитаны и механики на пароходах. Специалистов не монахов в монастырских хозяйствах не было.
Захват Соловецкого монастыря Красной армией в 1920 году после эвакуации с Соловецких островов частей армии генерала Миллера, нанес монастырю второй в его истории сокрушительный и уже непоправимый удар. Изъятие большевицкой диктатурой ценностей из монастырской ризницы и золотой и серебряной утвари из монастырских церквей лишило монастырь былого блеска, а организация в 1921 году лагеря особого назначений не только потеснило территориально монастырь, но и разрушило его многоотраслевое хозяйство, одновременно закрыв доступ богомольцев на Соловецкие острова.
В противоестественном симбиозе Святого места с земным филиалом ада, где заключенные терпели муки физические и нравственные, Соловецкий монастырь в агонии просуществовал еще девять лет. Монахи, за исключением настоятеля монастыря, были зачислены, как специалисты, вольнонаемными сотрудниками концлагеря, с выдачей им пайка и зарплаты, вносимых ими в общий котел монастыря для пропитания и своего настоятеля. Обмундирование с кроваво-красными петлицами монахи не брали и донашивали свои подрясники, выполняя работу мастеров, маячных сторожей, кладовщиков и тому подобное. Захватив монастырь, лагерь не мог остаться без коммунальных услуг – воды, света, ремонта одежды и обуви заключенных, и чекисты оказались вынужденными оставить монахов на выполняемых ими работах, лишь заменив трудников рабочей силой заключенных. Агенты «карающего меча революции» обратились к проводникам «опиума народа».
Для совершения богослужения монахам была оставлена церковь Святого Онуфрия на кладбище за пределами кремля. Все церкви и соборы внутри кремля и другие церкви на территории островов были закрыты и использованы частично под проживание заключенных. На богослужение монахи длинной вереницей попарно выходили из своих келий через Сельдяные ворота и шли в церковь в 4 часа утра к Заутрени и Обедни и в 6 часов вечера к Вечерни. Во главе своей паствы шел настоятель монастыря с большим посохом. Однажды я видел его в лучах заходящего солнца, окрашивавшего гранит глыб кремлевской стены в розоватые тона. Он сидел на скамеечке у Сельдяных ворот, наслаждаясь тишиной угасающего дня. Седой, как лунь, с огромной бородой, доходившей почти до колен, в скромном монашеском одеянии, опираясь на посох, он казался пришельцем из далекой седой старины, сошедшим с полотна художника, удачно изобразившим старца на фоне покрытых мохом глыб средневекового кремля.
А в метрах тридцати от него бесновался ХХ век устами чекиста, распекавшего за что-то худенького шпаненка, то и дело вздрагивавшего от энергичных жестов начальника, жестов, которые несли мордобитие.
В этой картине нельзя более выпукло представить разницу эпох, разницу мировоззрений.
Летом 1930-го года монастырь был окончательно ликвидирован. Под конвоем большую часть монахов с настоятелем монастыря вывезли на материк где они рассеялись, кто где нашел приют. Оставлены на Соловках вольнонаемными были монахи: заведующий внутренней водной системой, докмейстер, мастер карбасной мастерской, маячные сторожа, бригадиры рыболовецких бригад, на должности, занимаемые вывезенными монахами, подобрали специалистов-заключенных. Процесс замены монахов специалистами-заключенными на этом не закончился и в следующую навигацию были вывезены и остальные монахи за исключением заведующего водной системой и маячных сторожей. Они оказались совершенно незаменимыми, так как никто не мог разобраться в сложной системе соединения озер и регулировки спуска воды, а маячных сторожей заменить заключенными просто побоялись, ввиду возможности побега заключенных с маяков, расположенных на Песьих островах далеко выдвинутых в море.
Так закончилась пятивековая история Соловецкого монастыря.
СОЛОВЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ
Соловецкий лагерь Особого назначения ОГПУ был организован в Соловецком монастыре в 1921 году. Первыми заключенными были три тысячи балтийских матросов, сдавшихся при подавлении Кронштадтского мятежа. Бывшая «краса и гордость революции», как называла матросов большевицкая пропаганда, под усиленными конвоями ЧОН (часть особого назначения) была привезена с открытием навигации на Соловки для медленного уничтожения голодом, холодом и беспричинными расстрелами. В лагерь попали те матросы, которые уцелели от непосредственного расстрела в самом Кронштадте. Расстрелять сразу тысячи матросов, овеянных славой героев революции, большевики не решились и предпочли их изолировать, чтобы прикончить без шуму. Матросскую вольницу опасно было держать в концлагерях в центре страны, где преградой могла служить только колючая проволока. Соловецкий кремль, расположенный далеко от густонаселенных мест, изолированный водной преградой, был более подходящим местом для этой цели.
Матросы для большевицкой диктатуры стали действительно опасны, и даже не потому что представляли собой наиболее отчаянно-храбрую силу, но главным образом потому что лозунг Кронштадтского восстания матросов «за Советы без коммунистов» лишал большевицкую пропаганду главного стрежня в обработке масс для привлечения последних на свою сторону. Терялась действенность, ставшая привычной, натравливание народных масс на «контрреволюционеров», якобы угрожавших Советской власти.
Потеснив монахов в один трехэтажный Сельдяной корпус кремля, матросов разместили по келиям, соборам и подсобным помещениям на территории Соловецкого кремля. Из кремля заключенных не выпускали, а внутри кремля работа была только по самообслуживанию заключенных и на всю массу заключенных работы не хватало. Монастырские предприятия были закрыты и монахи и заключенные влачили голодное существование. Восстановлением и развитием монастырского хозяйства, первый начальник лагеря, балтийский матрос, чекист Угрюмов не занимался. Вся его власть была направлена лишь на удержание в повиновении своей же «братвы». Матросскую вольницу он же систематически физически уничтожал, поливая пулеметным огнем с кремлевских башен скопления заключенных в кремлевском дворе. Оставшиеся в живых разбегались по зданиям, а убитые и тяжело раненные устилали своими телами в черных бушлатах землю, как тюлени на льдинах на своем лежбище. Медицинской помощи раненым после этих экзекуций не оказывалось. Но не только от пуль редели ряды матросов, они умирали и от болезней, вызванных голодом и холодом. К осени 1929 года из трех тысяч матросов осталось в живых только … два. А взамен истребляемых матросов в концлагерь привозили других политзаключенных и постепенно число заключенных, несмотря на большой процент смертности, все же увеличивалось.
Не большее внимание на ведение хозяйства обращали и последовательно сменявшие друг друга чекисты-начальники Соловецкого лагеря. Не говоря уже о том, что кто-нибудь побеспокоился бы об открытии каких-либо монастырских предприятий на бесплатной рабочей силе заключенных, и тем самым, не только бы занял трудом заключенных, но и дал бы какую-то материальную помощь своему социалистическому отечеству, облегчив бы для последнего финансовое бремя по содержанию лагеря, но даже и в снабжении лагеря продовольствием и обмундированием царил полный хаос.
Так после закрытия навигации на зиму 1926-27 годов выяснилось, что запас продовольствия на зимовку по самым низким нормам питания заключенных оказался всего на … несколько дней, тогда как навигация закрывалась на полгода. В копеечку ОГПУ влетел вызванный из Архангельска ледокол для проводки судов с продовольствием на Соловецкие острова. Однако, несмотря на то, что тогда был НЭП и все склады буквально ломились от избытка продовольствия, первый приведенный ледоколом на Соловки пароход оказался полупустым. Продовольствие он привез только изысканное для начальства лагеря и дивизиона войск ОГПУ, охранявшего лагерь, а главным грузом на нем было шампанское и дорогие вина. И только вторым рейсом ледокол привел уже не один пароход, а целый караван судов с грузом зерна, картофеля, капусты, растительного масла и соленой рыбы, что обеспечило заключенных хотя и голодным, но на всю зиму, пайком. От такой бесхозяйственности в первую очередь страдали заключенные; помимо угнетенного состояния людей лишенных свободы, бездельничания для людей привыкших трудиться, еще и голод зимовки 1926-27 года повлек за собой увеличение смертности заключенных в этот период истории лагеря.
Подлинную революцию в хозяйстве концлагеря произвел в 1927 году бывший санкт-петербургский биржевой маклер Натан Френкель, чье имя необходимо поставить в первый ряд наиболее безжалостных эксплуататоров человеческого труда во всей истории народов, во всем мире. Этот способный еврей умел делать деньги для себя, будучи биржевым маклером и до революции и при НЭПе, он умел делать деньги для ОГПУ за счет пота, крови и жизней заключенных, став на высоком посту в главном управлении лагерей (ГУЛАГе) ОГПУ. От заключенного до высокого поста в ОГПУ Френкель сделал карьеру в считанные недели.
Френкель был арестован ОГПУ в Ленинграде в 1926 году с целью конфискации у него больших валютных и золотых ценностей, местонахождение которых, несмотря на тщательные обыски, так и осталось неизвестным ОГПУ.
Френкель выдержал все пытки, которым он был подвергнут в ДПЗ в Ленинграде. Его держали в холодных и горячих карцерах, его морили в световых и фекальных карцерах, но добиться от него хоть одной золотой монеты так и не могли. Административно ему дали десять лет концлагеря и отправили в Соловецкий лагерь особого назначения. В Кемском пересыльном пункте лагеря он, к своему ужасу, узнал, что он зачислен в этап, отправляющийся на строительство тракта Ухта-Кемь. Условия труда и быта на строительстве тракта были таковы, что заключенные там быстро становились либо покойниками, либо инвалидами на всю жизнь. И вот перспектива оказаться заключенным на этой стройке сделала то, что не могли сделать все карцера. У Френкеля не выдержали нервы и он сдался. Он написал заявление на имя начальника концлагеря, предлагая открыть тайну местонахождения своих кладов, взамен отмены приказа о его посылке на Ухта-Кемский тракт. К заявлению он приложил подробный проект организации в концлагере многоотраслевого производства трудом заключенных под девизом: «заключенные для государства не расход, а прибыль», и цифровыми данными доказал, возможность не только покрывать расходы на содержание лагеря стоимостью продукции вырабатываемой производительным трудом, но и давать еще прибыль государству.
Направление проекта Френкеля совпало с установкой взятой Сталиным на сверхбыстрое развитие индустрии, требовавшее не только большого количества рабочих рук, таких рабочих, с которых можно было бы максимум выжать и минимум им дать вследствие такой безжалостной сверхэксплуатации человека. Формулируя марксистки: организовать получение неслыханной в истории нормы прибавочной стоимости.
Политическая верхушка большевицкой партии не задумывалась перед изъятием из общества путем заключения в концлагеря и расстрелами миллионов людей, которые так или иначе, с точки зрения диктатуры, могли возможно помешать начавшемуся с конца двадцатых годов наступлению на жизненный уровень рабочих, служащих и крестьян в связи со сверхбыстрыми темпами индустриализации. Но экономически, лишая страну миллионов трудоспособных и квалифицированных работников, исключая их из сферы производства, большевицкая диктатура сводила на нет свои же собственные замыслы о сверх быстрой индустриализации страны. Проект Френкеля и устранял это противоречие. Одним выстрелом диктатура убивала двух зайцев: миллионы изолировались от народа и эти же миллионы людей участвовали в общегосударственной стройке, платить им не надо было ничего, а только кое-как кормить. Получалась выгода и политическая и экономическая.
За проект Френкеля ухватились обеими руками. Френкель не только не был отправлен на Ухта-Кемский тракт, но и немедленно освобожден, вызван в Москву в ОГПУ и назначен начальником планово-производственного отдела ГУЛАГа с присвоением ему соответствующего звания и некоторого количества ромбов в петлицы военной формы. Клад Френкеля поступил в казну, но он, при своей абсолютно значительной величине, был несравненно мал с тем количеством валюты, которая была получена государством от экспорта древесины, добытой в последующие годы, на лагерных лесозаготовках, развернутых по проекту Френкеля.
Впервые Соловецкому лагерю ОН ОГПУ производственный план был дан в 1928 году, главным образом по лесозаготовкам и производству пиломатериалов. Его показатели вошли в общегосударственный план первой пятилетки. План был законом подлежащим выполнению в полном объеме. На Соловецкие острова стали поступать этапы только десятилетников и заключенных склонных к побегу. Остальная масса поступавших по этапу заключенных с Кемперпункта отправлялись в дебри карельских лесов для выполнения плана лесозаготовок. Был введен не только одиннадцатичасовой рабочий день, для заключенных, но и установлены непомерно высокие нормы выработки почти исключавшие возможность уложиться в одиннадцатичасовой рабочий день. Начальникам «командировок», как назывались лесозаготовительные лагерные пункты предоставлялось право отмены дней отдыха для безусловного выполнения плана.
Одновременно были пущены и расширены на Соловецких островах монастырские предприятия, на которых тоже по одиннадцати часов в день работали заключенные-десятилетники под руководством мастеров-монахов. Из года в год производственные планы спускались ГУЛАГом Соловецкому лагерю все в большем объеме и постепенно Соловецкий лагерь охватил почти всю Карелию от Петрозаводска до Кандалакши с юга на север и до границы с Финляндией на западе, вкрапливая огражденные колючей проволокой территории, на которых содержались работающие под конвоем в лесу заключенные.
Опыт нового вида деятельности ОГПУ, как производственной организации, был настолько успешен, что в 1929 году был организован еще один концлагерь – Северный – «Севлаг» близ Архангельска тоже для проведения лесозаготовок на севере Архангельской области. С 1929 года со всей возрастающей быстротой концлагеря были организованы от Карелии до Чукотки и в Средней Азии, всюду, где по характеру производимых работ, по плану первой пятилетки, требовался ручной труд десятков тысяч людей, где по суровости климата, или бытовых условий, сопряженных с отдаленностью от цивилизованных мест, не выдерживал энтузиазм комсомольцев, бегство которых со строек пятилетки не могла предотвратить железная партийная дисциплина. Строительство «основ социализма» только и выручали подконвойные рабы.
С 1930 года ОГПУ взялось, помимо лесозаготовок, которые оставались главным видом производственной деятельности, за разработку угля и добычу нефти, золота, руд, редких металлов, и за строительство каналов, железных и шоссейных дорог. Так возник Ухт-Печлаг в районе поселка Ухта на реке Печоре для добычи нефти и угля на Воркуте, Котласлагерь для строительства железной дороги Котлас-Воркута по вывозке угля из Воркуты. Белбалтлаг с 1931 по 1932 год построил Беломорско-Балтийский канал, имевший огромное стратегическое значение для переброски флотилии подводных лодок в Ледовитый океан, где организовывался Северный флот. Далее возникли Карагандинский лагерь для разработки Карагандинского угольного бассейна и добычи редких металлов, Бамлаг для строительства Благовещенско-Амурской железной дороги в обход озера Байкал, Колымалагерь в устье реки Колымы для разработки золотых приисков. В середине тридцатых годов концлагеря стали организовывать и в центральных областях нашей страны, как Дмитлаг для строительства канала Москва-Волга, Вяземлаг для постройки автострады Москва-Минск и другие концлагеря.
Все «великие стройки социализма» стали производиться исключительно трудом подневольных рабов-заключенных. Строительство материальной базы социализма, который в своей идеи должен был принести освобождение трудящимся от «капиталистического рабства», в действительности оказался неотделим от форм рабства докапиталистического общества, отбросив производственные отношения к дохристианским временам, более чем на две тысячи лет развития человечества.
Здесь надо отметить очень интересный факт: марксисты, как крайние материалисты, истолковывают все положительные для людей реформы в досоциалистических общественных формациях как вынужденные материальной необходимостью, а не как гуманные акты «правящих классов». Так ликвидация рабства, в частности отмена крепостного права в России, марксистами трактуется и с пеной у рта доказывается, не как добрая воля буржуазии или Александра II, а как следствие неэффективности труда рабов. Эффект от использования ОГПУ труда рабов-заключенных опроверг и это утверждение марксизма.
Масштабы производственной деятельности ОГПУ требовали десятки миллионов рабочих рук, десятки миллионов заключенных-рабов. Следствие переросло в причину, вызвав необходимость во все возрастающих арестах и заключения людей в концлагеря, с упором на существовавший тогда максимальный срок десять лет. Подобно тому, как все расширявшиеся плантации на юге Североамериканских Соединенных штатов в XVII и XVIII веках требовали все больше и больше черных рабов из Африки, ОГПУ, для выполнения государственных планов пятилеток, требовалось все больше и больше заключенных – белых рабов, своих соотечественников. Использовав все резервы из, так называемых, свергнутых классов, кулаков и подкулачников, офицеров Русской армии и старой интеллигенции, ОГПУ стало производить аресты, тоже совершенно невинных людей, и крестьян-бедняков-колхозников и потомственных пролетариев. Состряпывались дела и гигантские этапы шли в концлагеря. Характерно, что для облегчения работы ОГПУ по пополнению концлагерей даровой рабочей силой – заключенными, и притом на максимальные сроки, по приказу Сталина ВЦИК издавал «Указы» о привлечении к уголовной ответственности за преступления, либо не преследуемые уголовным кодексом, либо хотя и содержавшимися в каких-либо статьях уголовного кодекса, но за которые уголовным кодексом не предусматривалось долгосрочного заключении. Особо печальной памяти был указ от 7 августа 1932 года, по которому «за хищение социалистической (то есть государственной и колхозной) собственности полагалось десять лет, и не меньше, заключения в концлагерь. Практически по этому указу стали заключенными миллионы тружеников города и села. Крестьяне, пережившие насильственную коллективизацию, пополняли концлагеря за взятый с поля колос злаков или клубень картофеля, чтоб утолить голод царившей в деревнях. Рабочие выносившие с предприятий какой-нибудь кусок металла, чтоб изготовить из него какую-нибудь домашнюю утварь и тем самым немного повысить свой нищенский жизненный уровень времен пятилеток, тоже пополняли ряды заключенных. Пошивочная фабрика ГУЛАГа на 1935 год получила план изготовления двадцати миллионов комплектов обмундирования для заключенных. Поскольку комплект обмундирования в лучшем случае выдавался на год, можно себе представить до какого потрясающе-громадного количества выросло количество заключенных к середине тридцатых годов, еще до, так называемой, «ежовщины», каким числом рабов обладало ОГПУ-НКВД, это государство в государстве, к тому же в государстве, в котором, к тому времени, было объявлено официально о «построении социализма».
Структура концлагерей ОГПУ, в том числе и Соловецкого особого назначения, была единообразна. Территория, занимаемая концлагерем, делилась на отделения, которые объединяли более мелкие единицы сосредоточения заключенных в обнесенной колючей проволокой участок, по месту производства работ. Эти мелкие единицы от нескольких сот до нескольких тысяч заключенных назывались до 1930 года «командировками», а затем лагерными пунктами, сокращенно «лагпунктами». Еще более мелкие подразделения внутри колючей проволоки от ста до тысячи, в зависимости от характера работ производимых лагпунктом, назывались ротами. С переименованием в 1931 году всех концлагерей в «исправительно-трудовые», роты, как понятие чисто военное, не соответствующее смененной вывеске, были переименованы в «колонны».
Управление концлагерем осуществлялось начальником лагеря – чекистом, власть которого была безгранична и не только в рамках инструкций получаемых от Спецотдела и ГУЛАГа ОГПУ; начальник мог распоряжаться на основании «революционного самосознания», то есть по существу не стесняясь ни с какими законами. Аппарат управление концлагеря при начальнике состоял из отделов: общего, Учетно-распределительного (УРО), информационно-следственного (ИСО), планово-производственного, снабжения (который в 1931 году разделился на технического и общего), финансового, сельскохозяйственного и культурно-воспитательного (КВО).
Общий отдел ведал кадрами вольнонаемных, делопроизводством управления, выдачей командировочных удостоверений вольнонаемным и заключенным по распоряжению начальника лагеря. УРО ведал учетом и распределением на работу заключенных. В нем хранились дела заключенных. Страшнее страшного был ИСО, переименованный в 1930 году в 3-й отдел. Это название было фиговым листком, которым чекисты хотели скрыть главную функцию этого отдела, собирать через секретных сотрудников из заключенных информацию о политическом настроении каждого заключенного сидящего по 58 статье и вести следствия по создаваемым в лагере делам с целью добавления срока заключения уже и так посаженным в концлагерь заключенным. Деятельность остальных отделов и так понятна из их названий. О КВО подробно коснусь ниже.
Соответственно в Отделениях, в подчинении начальнику отделения, по отраслям управления находились части: Особая часть, УРЧ, ИСЧ и т.д. На командировках или лагпунктах в подчинении начальника лагпункта части имели свои Бюро, однако не в полном «ассортименте», а по характеру выполняемых лагпунктом работ.
Начальник лагеря, его заместитель и помощник, начальники отделов, отделений и лагпунктов, а также начальники таких частей в отделениях, как Общего, УРЧ, ИСЧ были кадровые чекисты, ходившие в больших чинах. Так, начальник лагеря носил четыре ромба, что по армейским званиям соответствовало командарму, его заместитель, помощник и начальник ИСО носили по три ромба, начальники отделений по два ромба, начальники отделов по одному ромбу, начальники лагпунктов и частей по три шпалы. Они назывались «вольнонаемными», в отличие от чекистов-заключенных, носили форму ОГПУ, получали зарплату и паек и жили с семьями. Название «вольнонаемные», сокращенно в/н, было довольно условно, так как в/н в лагерях работали только чекисты-штрафники за совершенные ими преступления, за которые обыкновенные смертные получили бы срок заключения в лагерях. Эти штрафники так и работали в лагерях три, пять или десять лет, соответственно срокам, которые по уголовному кодексу предназначались прочим гражданам по тяжести совершенного преступления. Штрафники не теряли звания и работа в лагерях засчитывалась в стаж работы в органах ОГПУ. Когда характер преступления вызвал бы непременно расстрел трудящегося, чекиста за аналогичное преступление коллегия ОГПУ приговаривала к заключению в лагерь. Эта категория чекистов жила в лагере неплохо, занимая ключевые должности, большей частью по своей «специальности» в ИСО и его подразделениях, а также в УРО, УРЧ и общем отделе и общих частях. Одевались они с иголочки, были на особом пайке и носили оружие. От многих заключенных я слышал, что наибольшей жестокостью к заключенным отличалась именно эта категория лагерной администрации, в своем рвении выслужиться перед вышестоящим начальством и, освободившись за это досрочно, перейти в состав вольнонаемных. Тысячу раз правы были те заключенные, которые предпочитали иметь начальником вольнонаемного чекиста, чем чекиста-заключенного.
Аппарат отделов, частей и бюро заполнялся заключенными не чекистами, большей частью интеллигенцией, заключенной в лагерь по 58 статье. Однако если каэрам доверялись должности в таких отделах (и их подразделениях) как снабжения, финансовом и писцов в планово-производственном, то в Общем отделе, УРО, ИСО и КВО могли работать лишь заключенные чекисты или уголовники. Последние сплошь заполнявшие УРО, УРЧ, УРБ, благодаря своей органической неспособности к усидчивому труду и малограмотности вносили хаос в учет заключенных, почему никто никогда не знал абсолютно точной цифры количества заключенных. Когда сплюсованные данные о количестве заключенных, представляемые ежедневно в УРО из отделений катастрофически расходились с данными УРО, в концлагере назначалась генеральная поверка, т.е. пересчет поголовья заключенных по лагпунктам, а в них по ротам-колоннам. С полученной цифры снова начинался учет и снова запутывался. Такие генеральные поверки происходили не реже шести месяцев и были очень тяжелы для заключенных, которых держали в строю без пищи с утра до вечера, пока безграмотные УРЧисты сверят каждого заключенного с имевшимся у них его делом.
Уголовникам чекисты доверяли и всячески, вопреки здравому смыслу, заменяли ими в аппарате ненавидимых чекистами каэров. Единственной цитаделью каэров был планово-производственный отдел. Здесь техническую интеллигенцию, составлявшую среднее звено аппарата и сидевшую по 58 статье, никак не могли заменить безграмотные чекисты и уголовники. При таких попытках дело оборачивалось против самого же начальства. Производство приходило в упадок, производственный план не выполнялся, и из ГУЛАГа следовала нахлобучка начальнику лагеря.
Так концлагеря ОГПУ представляли собой совершенно особую, не имевшую прецедента в истории, производственно-рабовладельческую организацию, в которой мне предстояло пробыть долгих десять лет.
СОЛОВКИ
«Соловки!» - воскликнул высокий белокурый юноша из нашего этапа, когда смолкнувшая судовая машина, толчок бортом парохода о какое-то препятствие и беготня матросов по палубе дали знать нам, находящимся в трюме парохода «Глеб Бокий», о конце нашего пути, о прибытии к месту нашего заключения, и для многих и к месту вечного упокоения. Особых иллюзий на обратный выезд с острова «пыток и смерти» никто из нас питать не мог.
Белокурый юноша в нервном подъеме с небольшим мешком на спине ринулся к трапу, ведущему на палубу. Десятки других заключенных тоже повскакивали с мест и сгрудились у трапа, подняв головы к открытому люку. Белокурый юноша, поднявшийся почти до самого люка, был остановлен прикладом винтовки конвоира, стоявшего на палубе, и быстро спустился вниз. Я сидел на своих мешках и удивлялся непонятному стадному чувству, охватившему пожилых благоразумных людей, чувству, которое заставляло их спешить лезть в петлю. Они так стремились поскорее выбраться на палубу, точно там их ожидала свобода.
Прошло около получаса, и зычный голос конвоира скомандовал сверху через люк: «Выходи». И снова, к моему удивлению, у трапа возникла давка. Все заспешили на остров Смерти. Эти несчастные, вероятно, так же спешили, если бы в люке им рубили головы. Я долго думал над этим поразившим меня явлением, и пришел к выводу о растрепанной нервной системе заключенных, которые так неожиданно были вырваны из повседневной привычной жизни, прошли пытки допросов, объявление приговора на долгие годы заключения. Нервы не выдерживали пассивного ожидания, они толкали на какое-то действие, наперед ничего не могущее принести хорошего, на рабское подчинение приказу грубой силы. Мои «однодельцы» оказались выдержаннее и не спешили к трапу, так же как и я. Мы вылезли последними, цепочкой прошли по палубе, спустились на полубак парохода, а затем по трапу на пристань.
Огороженная высоким забором пристань, к которой пришвартовался пароход, была расположена у подножья большого каменного трехэтажного здания бывшей монастырской гостиницы для богомольцев, которую теперь занимало управление СЛАГа особого назначения. Все окна были открыты и полны глазевшими на нас заключенными, работниками отделов управления. В высоких окнах второго этажа, из комнат, занимаемых Общим отделом, выглядывали два миловидных женских лица, одетых в гражданскую одежду. Как потом я узнал, это были тоже заключенные, но из числа более фешенебельных девиц легкого поведения, увивавшихся около высокого начальства. Любопытство заключенных, проявленное в отношении нас, было вполне объяснимо. Прибытие очередного этапа все же было для них каким-то развлечением, как-то нарушавшим монотонное существование оторванных надолго от нормальной жизни людей.
Мы стали в строй на пристани, и снова началась процедура передачи каждого заключенного от конвоя местным тюремщикам. Принимал нас, отдавая пакеты с нашими личными делами работнику УРЧ, франтоватый кавказец с двумя нашивками помкомроты на рукаве, аджарец Жаев. Он же и повел нас после приемки всего этапа с пристани вглубь острова в сопровождении только одного комвзвода даже без дрына. После Кемперпункта мы были поражены отсутствием конвоя с винтовками, но потом сообразили, что с острова не убежишь, и отсутствие конвоя совсем не означает изменения к нам отношения со стороны лагерного начальства.
Пройдя по грунтовой дороге с полкилометра, мы оказались у небольшого каменного здания, около которого был небольшой участок, обнесенный колючей проволокой. На этот участок нас и загнали, закрыв ворота, снаружи которых остался все тот же один комвзвода, тогда как Жаев ушел. Мы сели на свои вещи, и я стал наслаждаться окружавшей нас природой, от которой был оторван столько времени, находясь в каменном мешке тюрьмы. После голых камней Кемперпункта, полутундры Карельского берега Белого моря, меня поразила флора Соловецкого острова. Роскошная зеленая трава, кустарник и смешанный лес воссоздавали картину уголка средней полосы России. К тому же было тепло, сияло солнце, отогревая наши исстрадавшиеся души.
Однако время шло, между нами и природой маячила колючая проволока, и радужное настроение начало рассеиваться. К тому же дохнуло Севером, пошел мелкий пронизывающий дождь. Никакого укрытия не было, и одежда начала промокать. На вопросы комвзвод отвечал нехотя, односложно: «Помоетесь в бане, тогда пойдем». Окончательно мне настроение испортил проезд мимо нас начальника лагеря Мартинелли. Он ехал из управления по направлению к своему дому, бывшей летней резиденции настоятеля монастыря в Горках, чрезвычайно живописной местности. Он ехал, развалившись в прекрасном фаэтоне, запряженном двумя горячими конями, которыми управлял вожжами на вытянутых руках, как заправский лихач, заключенный, сидевший на козлах. Повстречавшийся на дороге заключенный не успел снять шапку перед начальником, и Мартинелли на полном ходу длинным арапником сбил с головы заключенного шапку и как ни в чем не бывало скрылся в облаке пыли. Наше поколение довольно начиталось в революционной литературе о «самоуправстве» помещиков в прежние века по отношению к крестьянам, об их обращении с последними как со скотами. Чекист Мартинелли преподал нам наглядный урок об этом, но уже в XX веке.
Наконец группами по очереди нас повели в баню. Одежду, белье и все вещи отобрали, наголо подстригли. Помывшись в бане, мы получили лагерное белье, зеленые гимнастерки, такие же шаровары с завязками внизу и серые, солдатского сукна, бушлаты, в получении которых мы расписались в заведенных на каждого заключенного формулярах и тем самым приняли на себя материальную ответственность за полученное обмундирование. Носки, портянки, ботинки и шапки нам не выдали, и мы долго сидели босыми у бани пока нам не выдали наши вещи, прошедшие дезинфекцию, матерчатые в паровой, а кожаные в серной камерах. Запах серы от наших вещей, в частности от моего тулупа, долго преследовал нас и отравлял воздух в закрытом помещении. Но на это нельзя было сетовать, мы были еще счастливчиками, так как эта самая санобработка спасла нас от вшей, которые могли быть у кого-нибудь из этапа, а главное уберегли от еще большего несчастья от сыпного тифа. Последовавшие за нами этапы, ввиду их большого количества и ограниченной пропускной способности дезокамеры, уже не все проходили эту процедуру и последствия для заключенных были ужасны.
Когда все оделись, комвзвод построил нас в колонну по четыре, пересчитал и повел нас, идя впереди, обратной дорогой мимо управления к седому Соловецкому кремлю. Кремлевские стены с высоченными башнями, рвом с северной стороны, поразили мое воображение. Громадные глыбы природного камня, из которых сложены стены, поросшие мхом, навеяли уважение к создателям этого сооружения, возведенного монахами во времена не знавших сложной строительной техники. И какими лишними и маленькими в величественном тоннеле северо-восточных ворот показались мне стрелки охранного дивизиона войск ОГПУ, сторожившие этот единственный незакрытый выход из Кремля!
Этап остановился. Комвзвод доложил стрелку с двумя треугольниками в малиновых петлицах, и тот скомандовал: «Становись по четыре». Мы и так стояли по четыре, и команда оказалась тоже лишней. Эта команда была условным рефлексом у этих «попок», как называли стрелков заключенные за их ограниченность и малокультурность, условным рефлексом при виде заключенных, которых надо было по пропуску пропустить из Кремля или обратно. «Становись по четыре», - услышал я однажды эту команду, когда по врученной нам бумажке, называемой «сведением», мы должны были выйти из Кремля, а нас было только... трое!
С интервалами, по четыре в ряд, мы прошли ворота и снова остановились, пока весь этап не прошел ворота и дежурный в воротах отделенный командир не просчитал рядов, помножив их число в уме на четыре. На этот раз счет сошелся со строевой запиской врученной комвзводом и последний повел нас дальше. Мы шли по мощеному булыжником двору Кремля среди величественных зданий соборов, приходивших у новых хозяев в упадок. Все они были превращены в жилые для заключенных или хозяйственные службы лагеря. Нас подвели к паперти самого большого Троицкого собора, и комвзвод приказал нам заходить в него через двери, в те самые двери собора, в которые веками входили монахи и богомольцы с благовением на общение с Всевышним. Заходили мы строем, комвзвод тщательно пересчитывал ряды и вошел последний, скомандовав: «стой, на-ле-во»!
Мы оказались в центре собора, перегороженного тесовыми стенками между колоннами, поддерживающими арки громадных сводов. В стенках были двери, ведущие в отгороженные части собора, превращенные в камеры для заключенных с тремя ярусами нар на 250-300 человек каждая. Также был отгорожен и алтарь, иконостаса и в помине не было.
Комвзвод ушел в дверь, которая, как я потом узнал, вела в канцелярию пересыльной роты, в которую поступали этапы и из которой они убывали на «командировки» на Соловецких островах.
Всего рот в кремлевском первом отделении СЛАГа было восемнадцать мужских и одна женская. Из них номерных было четырнадцать, в том числе и пересыльная, носившая номер тринадцатый. Затем были электрометаллрота, в которой были сосредоточены заключенные, работавшие на судоремонтном заводе, электростанции и телефонной связи, строительная рота из заключенных, работавших на строительных работах постоянно, сельхозрота и сводная рота, на списочном составе которых значились вся заключенная знать, заведующие предприятиями, кладовщики, сотрудники ИСО-ИСЧ и УРО-УРЧ, жившие в отдельных комнатах, как-то прилепленных к вверенным предприятиям, складам и учреждениям. В электрометаллроте, стройроте и сельхозроте находились далеко не все заключенные, работавшие на соответствующих предприятиях, потому что ИСЧ, как правило, весьма неохотно соглашалось на перевод десятилетников на жительство в эти роты, поскольку они находились вне стен кремля. Действительно заключенные последних четырех рот, не говоря уже о заключенных сводной роты, имели некоторые преимущества перед заключенными номерных рот, так как они пользовались бо́льшей свободой передвижения вне стен кремля, ходили на работу и с работы без процедуры прохождения с проверкой документов через кремлевские ворота. Но и в номерных ротах, расположенных в кремле, условия жизни в разных ротах разнились довольно резко. Самой печальной славой пользовалась одиннадцатая рота, по существу лагерная тюрьма с одиночными камерами, из которых не разрешался выход даже во двор кремля. Заключенных этой роты на работу не водили, паек был штрафной – только хлеб и вода. В этой роте содержались заключенные пойманные на каком-нибудь нарушении лагерного распорядка, по распоряжению представителей многочисленной лагерной администрации, от начальника лагеря до лагерного старосты. Срок заключения в одиннадцатой роте давался заключенному от нескольких дней до месяца. В одиннадцатой роте содержались и те заключенные, которые находились под следствием в ИСО или ИСЧ, и которым после окончания быстрого следствия, либо добавлялся срок заключения в концлагере с содержанием на тяжелых физических работах с переводом на жительство на командировку, на лесозаготовки или торфоразработки, или на остров Анзер, либо давался срок содержания в штрафизоляторе в течение нескольких месяцев до одного года включительно. Штрафизолятор был устроен в храме на вершине Секирной горы, в храме, особо почитавшемся богомольцами. По Соловецкому лагерю ходил анекдот, имевший в основе действительный факт: одна мать заключенного, в молодости посетившая Соловецкий монастырь и знавшая об особой святости храма на Секирной горе, настоятельно советовала в письме своему сыну обязательно побывать на Секирной горе. А в этом храме был создан исключительно жестокий режим для заключенных-штрафников. И не столько он был жесток в разрезе принудительного труда для штрафников на лесозаготовках, куда их ежедневно гоняли под усиленным конвоем, так как такие же непосильные нормы должны были выполнять заключенные не штрафники на всех лесозаготовках, сколько, во-первых, в штрафном пайке, обеспечивавшем лишь медленное умирание неработавших людей, а тем более приводившем к быстрому истощению работавших, во-вторых, в бытовых условиях штрафников. В храме, стоящем на вершине высокой горы, обвеваемом сильным ветром со всех точек горизонта, в окнах не было стекол и штрафники во все времена года постоянно были на сквозняке. На ночь от штрафников отбирали одежду, оставляя в белье. Чтобы как-нибудь согреться, штрафники укладывались спать штабелями друг на друга на каменном полу, меняясь рядами ночью через известные промежутки времени. Зимой надо было не больше месяца, чтоб свести в могилу самого физически крепкого штрафника.
Все номерные роты находились в кремле. Двенадцатая и четырнадцатая роты размещались в храмах и состояли из заключенных, работающих на «общих» работах, т.е. не имевших определенной работы, а посылавшихся ежедневно на участки производства работ по разнарядке УРЧ на основании заявок руководителей работ, как чернорабочие или по завуалированной советской терминологии – разнорабочие. В таком же положении находились и заключенные тринадцатой роты, если только они в данный день не предназначались к отправке этапом на «командировки» на острове. Заключенных на общие работы из рот выпускали только группами, выдавая коллективное «сведение», как называлась бумажка, в которой отмечалось место работы, время выхода из роты, время прихода в роту. Зачастую, неизвестно по каким признакам, если такую группу посылали за пределы кремля, ее вел под конвоем стрелок войск ОГПУ.
Остальные номерные роты размещались в монашеских келиях, где бытовые условия резко отличались к лучшему по сравнению с ротами, размещенными в храмах. В последних в камерах размещалось по 200-250 заключенных на тройных нарах. В келиях у каждого заключенного был индивидуальный топчан и в келии помещалось от пяти до пятнадцати заключенных. Численность рот, помещавшихся в храмах, была от пятисот-шестисот человек в 12-й и 14-й ротах, а в 13-й доходило при прибытии этапа до полутора тысяч. В остальных ротах численность колебалась около ста заключенных, почему в них отсутствовали комвозводы и никаких дежурств комсостава не было, все передоверялось дневальным. В момент моего прибытия на Соловки, 30 июля 1929 года, общая численность заключенных на островах была около трех тысяч.
Во второй, третьей и четвертой ротах размещались канцелярские работники управления лагеря и кремлевского отделения, музыканты и артисты театра, почти сплошь интеллигентные люди. В первой, пятой и остальных по десятую роту включительно были размещены заключенные, работавшие на предприятиях постоянными рабочими. И рабочие и служащие заключенные имели на руках индивидуальные месячные «сведения», служившие одновременно и пропуском для прохода через Никольские ворота в часы перед началом работ и после их окончания. Разумеется, эти «сведения» не могли быть пропуском для выхода из кремля для тех заключенных, предприятия и учреждения которых находились внутри кремля. Такие заключенные годами не могли выйти из кремля. В течение рабочего дня патрули стрелков ВОХРа и дивизиона войск ОГПУ проверяли сведения у встречавшихся им заключенных и забирали их в одиннадцатую роту, если в «сведении» не было отметки руководящего работника о посылке им заключенного по делу. Все «сведения» сдавались при приходе с работы нарядчику роты, который утром раздавал их снова с отметкой о проверке.
С вечерней поверки до утренней выход из помещений всех рот был строжайше запрещен, и патруль забирал сразу, без объяснений, даже на территории кремля.
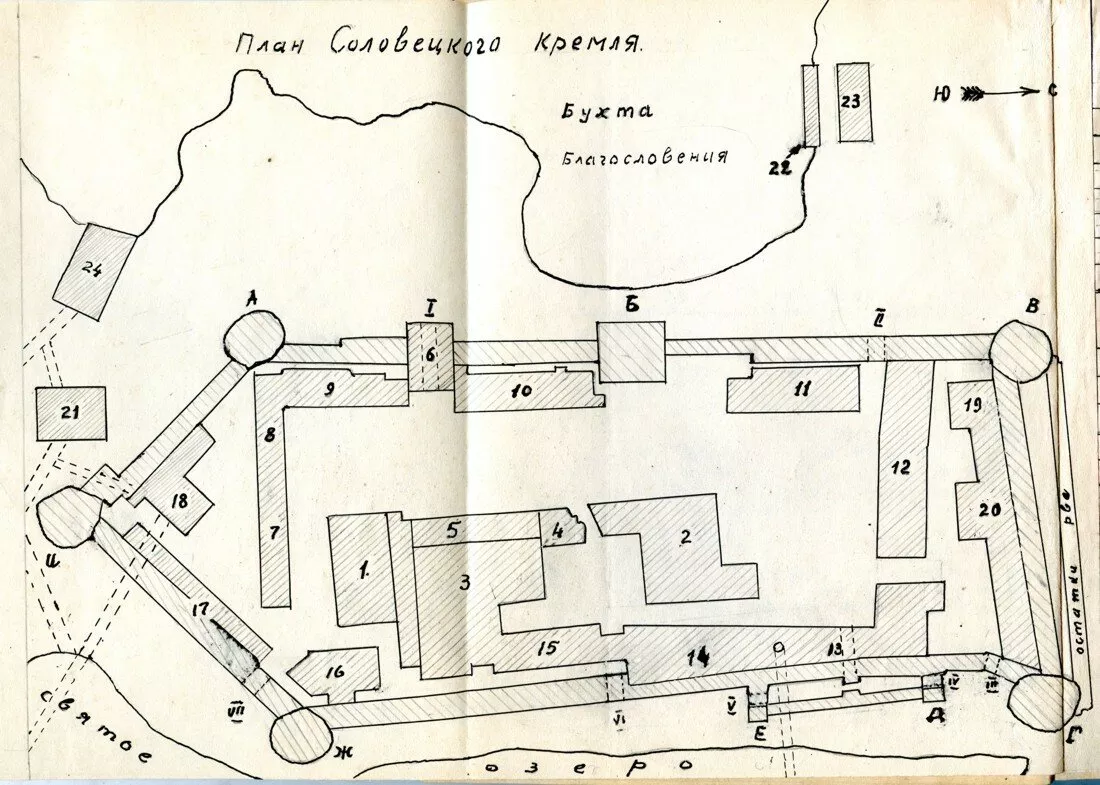
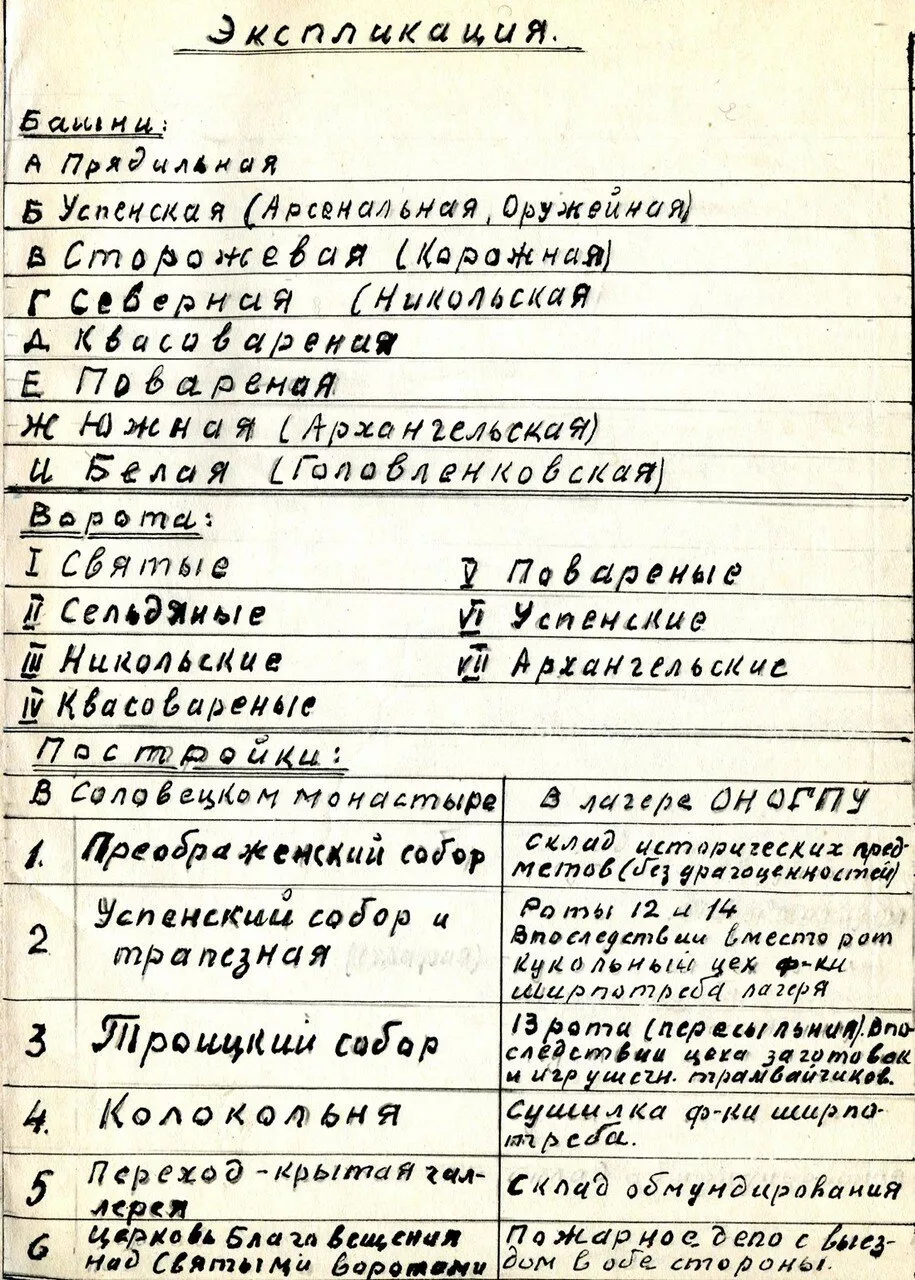
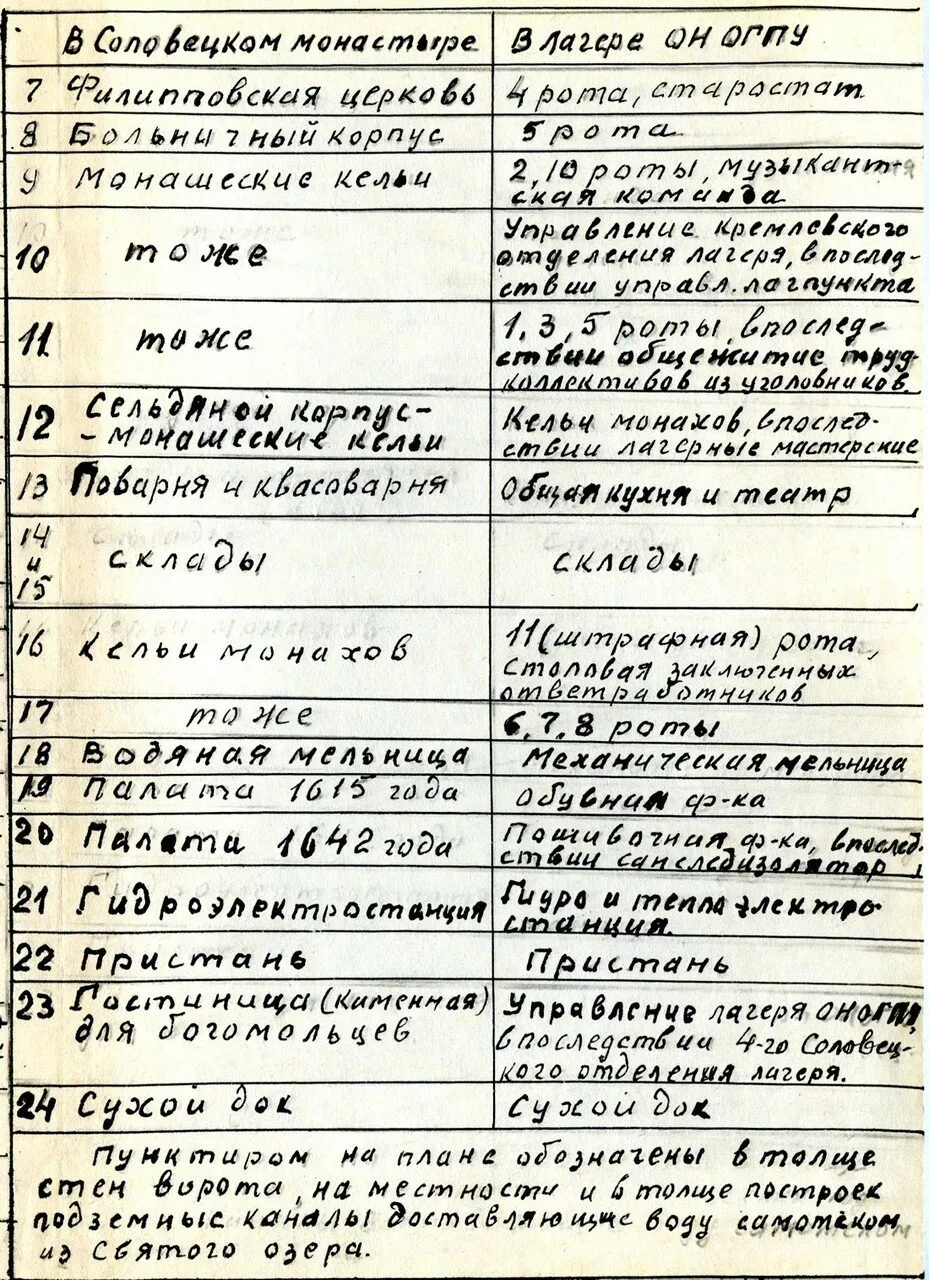
В 13-й РОТЕ
В 13-й, пересыльной, роте Кремлевского отделения Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ я пробыл около месяца. Эта рота оставила у меня тягостные воспоминания, не только по бытовым условиям в ней, но и в силу постоянного сознания во время пребывания в ней, поскольку она пересыльная, опасности нового этапа, отправки дальше в неизвестном направлении, в неизвестные места, где условия могли быть еще хуже. Да и сам этап был весьма тяжелым испытанием.
Итак, с неприятным сознанием нахождения в пересыльной роте, хотя это казалось вполне логичным, поскольку ни в какую другую роту этап и не мог поступить, я стоял в строю посередине собора и не спускал глаз с двери, в которой исчез комвзвод, все время мысленно спрашивая себя, что можно ожидать после его появления обратно?
Прошло минут двадцать и из дверей канцелярии к нам вышел командир роты с тремя нашивками на комсоставском бушлате и с ним уже знакомый нам Жаев. Комроты был высокого роста брюнет, не более лет тридцати, с бледным, застенчивым лицом тонких аристократических черт. Это был князь Оболенский*, как я потом узнал, известный в лагере тем, что променял спокойную вторую канцелярскую роту на тринадцатую пересыльную, с текучим составом прибывающих из тюрем заключенных, в том числе отъявленных бандитов-рецидивистов, осужденных судами на расстрел с последующей заменой расстрела десятилетним сроком заключения. Выходец из аристократической семьи никак не мог примириться с широко распространенной в лагере системой мордобоя, применяемого комсоставом рот и на совещаниях комсостава в лагстаросте с горячностью доказывал всю омерзительность подобной системы, применяемой к таким же товарищам по несчастью – заключенным комсоставом к заключенным-рядовым. Особенным мордобоем отличался комсостав тринадцатой роты, который доказывал, что без избиения заключенных дисциплину нельзя поддержать. Чтобы доказать обратное, он добился своего перевода в тринадцатую роту и, к удивлению остальных комрот, не только не распустил эту роту, а поднял в ней дисциплину, не разрешая комвзводам бить заключенных и сам не применяя кулачной расправы. За все мое пребывание в этой роте я ни разу не видел и не слышал об избиении заключенных в роте. В то же время дисциплина в роте была на высоте. Никто не осмеливался не подчиниться приказу комсостава, не было воровства, уголовники сидели тихо, даже опасаясь играть в карты, без чего они нигде не обходились, чтобы не угодить в одиннадцатую роту. У меня создалось впечатление, что Оболенского и боялись и уважали, он как-то умел подавлять своей личностью всякую волю к сопротивлению у заключенных, кто бы они ни были.
Оболенский поздоровался с нами. Помня уроки в Кемперпункте, мы набрали в легкие воздух и крикнули «здра». Вышло неодновременно, Оболенский улыбнулся и в нескольких словах предупредил нас о необходимости абсолютного подчинения комсоставу, добросовестной работы, куда пошлют трудиться, и закончил: «Чем более будете сами дисциплинированные, тем легче будет в лагере вам самим; кто это не поймет, тот пропащий человек, всегда помните это»! Закончив речь, он скомандовал «Напра-во» и комвзвод повел нас в открытые двери камеры – отгороженный деревянной стенкой алтарь собора.
Вход в камеру находился примерно там, где были Царские врата. При входе в храм никто шапок не снимал, а вот при входе в камеру, по-видимому, некоторые что-то вспомнили, догадались, куда входят, и сняли шапки.
Середина алтаря и все стенки были заставлены трехъярусными нарами. Комвзвод приказал освободить один отсек нар для нас, уплотнив бывшими на них заключенными остальные отсеки нар, и приказал нам занимать освобождаемый отсек. Я полез вслед за молодежью на третий ярус нар, где мы и разместились. Было тесно, но не до такой степени, как в Бутырской тюрьме, повернуться с боку на бок было довольно легко, не тревожа соседей. В камере оказалось с нами человек триста. Это были большей частью заключенные, небольшие сроки которых заканчивались в ближайшие месяцы, и они подлежали вывозке на материк. Большинство были уголовники, но значительную часть составляли офицеры Русской армии, так называемого Войковского набора, т.е. они были арестованы после убийства советского полпреда Войкова в Варшаве в 1927 году и тогда получили преимущественно только по три года концлагеря и, следовательно, в 1930 году должны были освободиться, а пока использовались до отправки на тяжелых физических работах. Судьба этих офицеров-краткосрочников в дальнейшем сложилась очень тяжело. Эхо событий на Китайско-Восточной железной дороге, докатившееся до лагеря осенью, сыграло роковую роль в их предполагаемом освобождении. Вывезенные этапами на материк, их снова по этапу вернули на Соловки обратно, и многие, пересидев данные им сроки заключения, заразившись на этапах сыпным тифом, навсегда остались лежать на Соловках.
В этой же камере я встретил нескольких однокамерников по Бутырской тюрьме, вывезенных ранее меня на Соловки. Финн Виролайнен, очень отощавший на лагерном пайке, слезно просил меня кусок сахара. Увы, у меня уже тоже ничего не было, по дороге всё было съедено, и я довольствовался тоже одним пайком.
После похлебки, данной нам на ужин, с нашим этапом провел беседу воспитатель роты, молодой человек, непохожий на уголовника, а, как я потом выяснил, сидевший за растрату. Он быстро перечислил, что мы должны делать и чего не должны делать, и затем подробно остановился на нашей переписке с родными. Кое-что удивило меня. Письма в обоих направлениях проходили через цензуру ИСО или ИСЧ. Цензор имел право вычеркивать не понравившиеся ему места писем, как от заключенного, так и заключенному от родственников, или вообще их уничтожить полностью, не доводя об этом до сведения заключенного. Последнему не разрешалось писать о быте лагеря, выполняемой работе, пайке и обмундировании, наказаниях и болезни, а также о других заключенных. Переписка ограничивалась двумя письмами в месяц от заключенного и на всем протяжении срока заключения вести переписку можно было только с одним лицом, состоящим в близком родстве. Фамилия, имя, отчество и точный адрес этого лица необходимо было указать в заявлении, подаваемом заключенным начальнику лагеря о разрешении переписки. Только после подачи такого заявления воспитатель принимал письмо от заключенного. Письма нельзя было запечатывать, их читал и воспитатель для характеристики заключенного, и цензор ИСЧ, который потом их и заклеивал. Письма от родного лица с воли доходили до заключенного вскрытыми со штампом «проверено цензором». Свой адрес заключенный должен был сообщить только в письме (но не на конверте), своим родным: «Соловецкий лагерь ОГПУ», номера или названия отделений, командировок, рот сообщать не разрешалось. Письма шли долго не только потому, что залеживались у цензоров, но и вследствие поисков местопребывания заключенного по центральной картотеке лагеря, которая всегда отставала от жизни, от имевших место постоянных перебросок заключенных из отделения в отделение, из роты в роту.
Я тотчас же написал требуемое заявление, в котором адресатом указал свою мать, и вручил воспитателю, который собрал и от других аналогичные заявления. От одного поляка из нашего этапа воспитатель не принял заявления. У поляка не было родственников в СССР, и он указал адрес своей жены, проживавшей в Польше. С заграницей заключенным переписываться не разрешалось. Получив через несколько дней разрешение на переписку, я написал матери первое письмо из лагеря и вообще после ареста, вручив его воспитателю, как требовалось по лагерному уставу. Однако это первое письмо так и не дошло до матери, а дошло только второе, более чем через месяц после моего прибытия в лагерь. Причиной пропажи моего первого письма некоторые из моих новых друзей объясняли тем обстоятельством, что в ИСЧ его подшили к моему делу, чтобы иметь образец моего почерка на тот случай, если вдруг появятся в лагере какие-нибудь писанные от руки листовки. Впоследствии, изучив психологию чекистов, взвинченную постоянными напоминаниями о бдительности, заставляющую цензора в каждом слове письма искать скрытый смысл его, я пришел к заключению, что письмо было просто уничтожено из-за одной фразы, которой я закончил письмо. Я опасался боязни матери о возможном моем моральном падении под влиянием уголовной среды, тесно окружавшей меня и в тюрьме и в лагере. Желая ее успокоить, я писал в письме: «Я не отступил и не отступлюсь от тех правил, в которых ты меня воспитала». Цензор понял эту фразу в том смысле, что я заверяю родителей, что ни тюрьма, ни лагерь не сломили моих «контрреволюционных» убеждений, в которых меня воспитали родители, что я не раскаявшийся «контрреволюционер», о чем и сообщаю на волю для передачи моим «еще нераскрытым единомышленникам». Я думаю, что мое объяснение исчезновению письма более правдоподобно.
Несмотря на колоссальную физическую усталость, обилие неприятностей за богатый событиями день, поздний час отхода ко сну, я проспал очень недолго, проснувшись от нестерпимого зуда по всему телу и в голове. Я сел на своем месте, сняв кепку, в которой спал. Из нее посыпалась такая масса клопов, что я не успевал их уничтожать. Клопами были покрыты и пальто, под которым я спал, и тела спящих моих соседей. Дощатая стена у нар была также усеяна клопами, которые, разбегаясь, искусно скрывались в щелях между досками. Любой турецкий клоповник прошлых столетий, служивший для наказания преступников, которых сажали на определенное время в эти клоповники, позавидовал бы такому обилию клопов, отравлявших существование заключенных в тринадцатой роте Соловецкого лагеря. Несколько позже, когда я был переведен в другую камеру этой же роты, я увидел противоклоповые костюмы, которые натягивали на себя, ложась спать, заключенные, постоянно проживавшие в этой роте, два писаря ее. Это был просторный комбинезон с капюшоном, с единственным отверстием для надевания у шеи, где он туго стягивался шнурком после надевания, имея еще большой клин, заходящий внутрь для увеличения герметичности шнуровки. На руки надевались рукавицы выше локтей, где они стягивали рукава комбинезона резинками. Капюшон плотно прилегал к голове, стягивая ее резинкой вокруг носа и рта, которые закрывались сверху спускающейся со лба накидкой. Эти писаря мне говорили, что в комбинезон клопы не забирались, а если и забирались, то единицы. Но за нос во время сна писарей все же клопы кусали, забираясь под накидку. Тут уже ничего нельзя было сделать.
Истощив последние силы в борьбе с клопами, я снова заснул, но опять очень ненадолго. На этот раз я был разбужен не только укусами клопов, но главным образом невероятно громким гоготанием несметного количества соловецких чаек, проснувшихся под лучами солнца на своих гнездах на Восточной стене кремля, почти вплотную подходившей к окнам алтаря, где была наша камера. Окна не могли приглушить гоготание, так как многие стекла были выбиты, и чайки заглядывали в них. Звуки, издаваемые чайками, были похожи и на мяуканье мартовских котов и на плач ребенка. Такой какофонии звуков мне никогда больше не приходилось слышать. Чайки разбудили всех. Бывалые заключенные только плотнее закутывали головы, новички пытались прогнать шумливых оркестрантов, но чайки были совершенно ручными и не обращали внимания на агрессивные жесты людей. Веками не боявшиеся монахов, соловецкие чайки нисколько не боялись и заключенных, так как по лагерному уставу за убийство чайки заключенный получал шесть месяцев штрафизолятора, и заключенные обходили стороной этих пернатых нарушителей тишины.
Вскоре чайки улетели на рыбную ловлю, крика стало меньше, но в борьбе с клопами я так больше и не уснул в оставшиеся часы до подъема, который объявил в шесть часов шумно ворвавшийся в камеру дежурный комвзвод. Все поспешили занять очередь в уборную, которая была пристроена из досок к правому алтарю собора. Пропускная способность ее явно не соответствовала списочному составу роты. Там же стояли умывальники. Утренний туалет занимал время около часа стояния в очереди, а в семь часов утра уже принесли в больших котлах завтрак – жидкую пшенную похлебку, и каптенармус роты раздавал пайки хлеба на день. Сахар пересыльным не полагался. К половине восьмого роту построили в середине собора буквой «П» по четыре в ряд. Ровно половина восьмого электростанция дала протяжный гудок – сигнал начала утренней поверки. Утренняя поверка, как и вечерняя, носили скорее символический характер, психологическое воздействие каждые двенадцать часов на заключенных, чтобы последние не забывали о тщательной слежке за ними и не вздумали бы бежать, чем приносили реальный результат по выявлению бежавших. Через некоторое время в дверях появился ответственный дежурный по кремлевскому отделению – комвзвод войск ОГПУ в сопровождении лагерного старосты грузина Пхакадзе, заключенного офицера Нижегородского кавалерийского полка Русской армии. Оболенский, прокричав: «Внимание», отдал рапорт и вручил строевую записку дежурному.
Строевые записки составлялись очень просто. Предварительно просчитав число заключенных, стоящих в строю, цифра вносилась в графу «налицо», а разница между списочным составом и ставшим в строй заносилась в графу «на работах». В эту графу попадали не только действительно находившиеся на работах посменно, но и приближенные комсостава, которым делалась поблажка не стоять в строю, и неизвестно где застрявшие на время поверки, так как хождение по лагерю для заключенных было запрещено особо строго от гудка на поверку до отбоя.
Дежурный поздоровался, ответили ему «здра» недружно. Оболенский скомандовал: «По порядку номеров рассчитайсь». «Первый, второй, третий...», выкрикивали заключенные, стоящие в первой шеренге, начиная с правофлангового и поворачивая голову в сторону соседа слева. «Триста семнадцатый неполный из трех», зычно заключил расчет левофланговый, который всегда подбирался комвзводами из старых заключенных, не одну тысячу раз прошедших эту комедию. Дежурный даже не взглянул в строевую записку, чтобы проверить, сошлись ли наличие 316-и помноженных на четыре плюс три из триста семнадцатого ряда, с цифрой, указанной в ней, и быстро выбежал из собора в сопровождении лагстаросты, кинув небрежно на ходу Оболенскому: «Продержать в строю до отбоя». Это было нам наказание за недружное «здра», и Жаев начал с нами репетировать это злосчастное «здра». Без четверти восемь последовал второй протяжный гудок - отбой поверки. Дежурный успел оббежать все роты в кремле. За кремль он не ходил.
Начался «развод», т.е. посылка заключенных на работы. Помкомроты – нарядчик раздавал группам заключенных по одному «сведению», отобранному от них накануне, и заключенные группами уходили на работу. Несколько групп нарядчик сформировал вновь, выдав новенькие «сведения», и тоже отправил из роты. Осталось довольно много заключенных, стоявших в строю, которых некуда было послать. Приток в лагерь явно превышал освобождение из него, смертность и расширение производства, так как плановость хромала на обе ноги и эксплуатирующие органы отставали от деятельности органов карающих.
Оболенский подошел к той части, где стоял наш этап. Он внимательно посмотрел на нас и как-то совсем не по-командирски заговорил с нами: «Есть работа в порту, по разгрузке парохода, работа физическая, тяжелая, предупреждаю, кто хочет пойти поработать из молодежи, выходи вперед»?! Из строя вышли Воробьев, Бычков, Холопцев, Кореневский **, еще несколько интеллигентных молодых людей не из нашего этапа и молодые казаки. Набралось двадцать добровольцев, которых и отправили в порт, вручив Холопцеву «сведение». Оставшимся нарядчик приказал разойтись по камерам.
Когда я подходил к дверям камеры, меня нагнал комвзвод и приказал мне идти в канцелярию. Я сразу заметил стоящего в дверях канцелярии благообразного, с небольшой седеющей бородкой заключенного в смешанной форме, что дозволялось лишь не рядовым заключенным. Он вошел вместе со мной в канцелярию, представился мне, что он ротный писарь и сказал мне, что я буду работать у них в канцелярии. Последнее меня очень приободрило, я возомнил, что уже влез на первую, пусть очень незначительную, но все же ступеньку лестницы строго иерархической башни лагерного аппарата и уже чем-то возвышаюсь над общей массой рядовых заключенных.
В действительности это было не так. Меня просто взяли нештатным писцом, в отчете трудиспользования заключенных меня показывали в графе безработных, а, следовательно, мне полагался по-прежнему паек по самым низким нормам и я в любую минуту мог угодить на этап, отправляющийся по разнарядке УРЧ на лесозаготовки вглубь острова. Всего этого я не знал и ревностно принялся за работу, состоявшую в том, что я должен был составить список заключенных, против фамилий которых в другом списке стояли кружочки. Не обладая хорошим почерком, я тщательно выводил буквы фамилий, за каждой из которых был живой человек с его величайшей индивидуальной трагедией приведшей его в лагерь. А я превратился в исправно работавший маленький винтик той бесчеловечной гигантской машины, несущей страдания стольким миллионам моих сограждан. И тот список, с которого я делал выборку, составлялся таким же незначительным винтиком, и мы все работали в этой машине на тех, кто ее запустил против нас же самих. Мне стало ясно, что я готовлю список заключенных для отправки из роты по этапу, куда, на какие новые страдания - это не положено было мне знать, да от этого ничего бы и не изменилось. Несмотря на это, я тщательно проверил список еще раз, чтоб убедиться, что я никого не пропустил, ни одного заключенного «не освободил» от этапа.
Между тем оба писаря, переложив свою работу на меня, деловито стряпали себе обед на топившейся в канцелярии плите, переставляя кастрюльки и пробуя их содержимое. Находясь на какой-то ступеньке иерархической лестницы, они были в лучших условиях, чем рядовые заключенные, получая «сухой паек», т.е. продукты, полагающиеся на заключенного, и эти продукты не прилипали к рукам поваров и бесчисленных их прислужников на общей кухне, а целиком доходили до желудков писарей. Мне, находящемуся на общем котле, приходилось только слюнки глотать, так вкусно пахло с плиты, но я не отвлекался и безупречно закончил порученную мне работу, предвкушая, как и я так же буду себе готовить, когда получу в посылке из дому кастрюли, о высылке которых я попросил мать в первом же письме, уверенный вполне в своей полноправности с этими двумя писарями.
Один из писарей, оторвавшись от плиты, считал со мной список и остался доволен моей добросовестностью. Затем он поручил мне написать еще два экземпляра этого списка и снова считал их со мной.
Но не только я им делал, но и писарь, встретивший меня в дверях канцелярии, оказал мне внимание. Заметив, что у меня очень истрепанные сапоги, он осведомился, есть ли у меня во что переобуться (у меня с собой были ботинки), и тотчас же написал записку ротному сапожнику, который в течение двух дней великолепно отремонтировал мне сапоги, и они мне еще долго служили в лагере. А на третий день моей работы в канцелярии, по ходатайству писарей, комвзвод перевел меня в другую камеру, где жили заключенные, находившиеся на более или менее постоянных работах, в том числе в этой же камере помещались на третьем этаже нар и оба писаря. Хотя на третий этаж нар было и нелегко взлезать по узким колодкам, прибитым к стойкам, обхватывая последние обеими руками, и сорваться на каменный пол во время этого путешествия было очень просто, тем не менее, места на третьем этаже считались привилегированными, потому что на них хоть не сыпались клопы сверху. Противоклоповые костюмы, о которых я говорил выше, одевали на себя оба писаря, с которыми староста камеры поместил меня рядом.
Староста камеры, общительный молодой человек, с большим количеством татуировок на руках и теле, изобличавших его принадлежность к уголовному миру, имел замену расстрела десятью годами заключения по пункту 6-у 58-й статьи уголовного кодекса. Он охотно рассказал, что был английским шпионом, работая шофером в Средней Азии, где и попался с поличным. Почему-то ко мне он благоволил и открыл мне глаза на непрочность моего положения внештатного писаря, положения, при котором я мог угодить первым же этапом на лесо или торфоразработки в глубине острова. Он настоятельно советовал мне незамедлительно пустить в ход весь имеющийся у меня «блат», чтобы зацепиться на какой-нибудь постоянной работе в кремле. Блата у меня не было и я призадумался о своей дальнейшей судьбе.
Работы в канцелярии было много. Иногда работали над списками ночи напролет, поспав в затишье несколько часов днем. Ритм прибытия этапов на остров учащался, требовалось более срочно направлять из роты этапы на Анзер, Муксалму и вглубь острова, чтобы очищать места на нарах для прибывавших заключенных. Но напряженная работа не так меня тяготила, как присутствие в канцелярии одного убийцы из Киева, имевшего за убийство пять лет заключения. Он был дневальным в канцелярии и, став холуем у комсостава роты, считал себя полновластным хозяином канцелярии. Его явно побаивались и писаря, задабривая его подачками со своего стола. Ничего плохого в отношении меня он не делал, но надо было видеть, с каким снисхождением он разрешал мне иногда налить кружку кипятка из чайника всегда кипевшего на плите. Неприязнь к этому убийце я почувствовал, когда он доказывал скучавшему на дежурстве комвзводу, что он заключен в лагерь совершенно напрасно, потому что он убил человека, которого надо было убить, поскольку последний из «паразитических» классов. Такого цинизма, каким был проникнут этот самосудчик времен февральской и октябрьской революций, я не встречал ни у одного самого жестокого бандита-рецидивиста.
На шестой день моей работы в канцелярии, после развода, увидев меня в канцелярии, нарядчик роты сказал мне, что меня вызывает начальник финчасти 1-го (Кремлевского) отделения, и объяснил как пройти к нему. Так как управление отделения помещалось внутри кремля у Святых ворот, никакого пропуска мне не выписали, а нарядчик проводил меня до выхода из роты, сказав дежурному комвзводу, чтобы он меня выпустил из собора.
Не выходя из здания шесть дней, я, выйдя на паперть, был ошеломлен свежим воздухом, солнцем, зеленью травы и деревьев и остановился как вкопанный. Я был слишком дисциплинирован, чтобы вполне отдаться овладевшему мной блаженству и с запозданием явиться в финчасть. И все же я не мог сделать ни шагу вперед, меня обуял страх пространства, страх непонятный для человека, находившегося в нормальным условиях. Если бы за мной шел конвоир и командовал, куда идти, я бы не испытывал страха отделиться от двери и идти через двор. Но управлять в движении самим собой, проявить инициативу приказать своим ногам передвигать мое тело в каком-то направлении у меня не хватало смелости. Я просто боялся. Моя психика за шесть месяцев сидения в четырех стенах камеры с выходом из нее только с конвоиром и следования по этапу тоже под конвоем настолько перестроилась, что я превратился в безвольного раба, лишенного какой-либо самостоятельности в своих действиях, да еще в одиночку. Возникал парадокс с точки зрения нормального человека, который бы обрадовался возможности, после такого срока заключения в тесной камере самостоятельно идти в пространстве, а я не мог и не двигался. Впоследствии об этом страшном состоянии психики мне говорили некоторые заключенные, которые также испытали этот страх пространства после долгого сидения в тюрьме.
Я почувствовал, как мне на плечо легла чья-то дружеская рука. Я обернулся и увидел ласковое лицо Оболенского. Я вытянулся во фронт, приложив руки по швам брюк. Он, очевидно, догадался о моем состоянии: «Что же Вы не идете, - спросил он меня, - пойдем вместе со мной»? Тотчас же мои ноги задвигались, а он, не снимая руки с моего плеча, шел рядом со мной и расспрашивал о моем образовании и составе семьи. Так мы пересекли двор кремля, он подвел меня к двери финчасти и откозырял мне.
Удивительное дело, переступив порог здания, я уже не испытывал никакого страха и снова превратился в человека с нормальной психикой. Разыскав на втором этаже дверь с табличкой «Финчасть», я вошел в нее и очутился в большой комнате так густо заставленной столами, что проходов почти не было. За столами сидели за работой заключенные. Несмотря на открытое окно, в комнате чувствовался едкий запах табачного дыма. Что же, подумал я, здесь делается зимой, когда нет вентиляции, в какой атмосфере работают здесь заключенные по одиннадцать часов в день!
Начальник финчасти, седеющий человек с жидкими, но длинными усами, слегка подкрученными кверху, сидел в самом углу комнаты, как бы прижатый к стене своим столом, к которому я с трудом пробрался. Отрапортовав ему: «По Вашему вызову явился», назвав свою фамилию и номер роты, я вытянулся перед ним в узком проходе между столами. Начальник как-то растерянно посмотрел на меня и замотал головой в разные стороны, что привело меня в недоумение, смешанное даже со страхом, от такого странного приема. Оказалось, что он выискивал в комнате свободный стул и, найдя его взглядом, попросил передать его ему. Стул поехал по воздуху, переходя из рук в руки встававшими на своих местах у столов. Ближайший к начальнику счетовод передал стул в руки начальника, который поставил его рядом с собой за свой стол и вежливо пригласил меня сесть, одновременно протянув мне руку и представившись мне. Окончательно растерявшись от такого приема, я сел на стул, а он начал дружелюбно меня спрашивать, по какой статье я сижу, на какой срок, сколько мне лет, какое у меня образование, сколько времени я в лагере, давно ли я с воли. Узнав все обо мне из моих ответов, он перешел к причине моего вызова к нему. Начальник предложил мне, а не приказал, что весьма удивило меня в условиях лагеря, занять должность по моей специальности помощника бухгалтера, счетным работником на молочной ферме в Муксалме. Меня это очень устраивало, так как я избегал общих, т.е. тяжелых физических работ, на которых в подавляющем большинстве были некультурные заключенные, да и бытовые условия были очень плохие, мало чем отличаясь от условий в пересыльной роте, которые я уже испытал. Счетный работник уже стоял на какой-то ступеньке на иерархической лестнице над массой этих заключенных, к тому же не отягченный обязанностью командовать и распоряжаться своими товарищами по несчастью. Кроме того, я смекнул, что находясь на молочной ферме, мне будет перепадать молочко, что было бы существенным добавлением к полуголодному лагерному пайку, и было мне жизненно необходимо, поскольку совсем недавно перед арестом я вылечился от серьезного туберкулезного процесса.
Совсем осмелев от глубоко человеческого тона разговора со мной начальника финчасти, я задал ему совершенно наивный в условиях лагеря вопрос: «А мне там будет хорошо»? По-видимому, я еще более понравился ему своей наивностью, он еще более ласково на меня взглянул и ответил: «Да, Вам там будет хорошо, это я Вам говорю, не утешая Вас, а действительно потому что это так». После этого я дал свое согласие на посылку меня на Муксалму, а начальник стал спрашивать о моих родителях. Я ответил, что мать жива, а отца нет. Я не хотел распространяться о своем происхождении из военной семьи, которое мне уже стоило десяти лет заключения. Я уже понял, что о происхождении правду без крайней необходимости не надо никому сообщать, чтобы не было каких-либо разговоров могущих повредить мне в повседневной жизни в лагере и лишний раз не напоминать, таким образом, о себе той секретной службе (ИСО и УРО), которые располагали всеми данными обо мне и были вершителями судеб заключенных в лагере. Полувопросительно–полуутвердительно начальник финчасти сказал мне: «Вы из военной семьи»? Отрицать было глупо, он мог проверить по документам, и я сказал, что я сын офицера-артиллериста. Начальник ответил: «Я тоже офицер, получил срок заключения на десять лет, и я позабочусь о Вас особо, как о сыне офицера». Я поблагодарил его и спросил в какого рода войсках он служил. Он отвел глаза и ответил: «В пехоте». Мне он соврал: впоследствии я узнал, что он жандармский ротмистр, за что и получил десять лет. Но от этого степень светлости воспоминаний о нем у меня нисколько не уменьшилась, и когда мы с ним случайно встречались, наши разговоры носили глубоко дружеский характер, и он всячески старался заботиться обо мне. «С первым этапом, идущим на Муксалму, Вас направят, идите готовьтесь к отправке; впрочем, может быть, я добьюсь Вашей индивидуальной отправки, может быть, даже и без конвоя; желаю Вам всего хорошего», - сказал он мне на прощание. С глубоким чувством благодарности я пожал ему руку на прощание и поблагодарил за всё.
Из финчасти я вылетел на крыльях и, забыв о страхе пространства, быстро пересек кремлевский двор, явился в канцелярию роты и рассказал писарям только о факте отправки меня на Муксалму счетным работником. В лагере я уже кое-чему научился, не хвастать, когда везет, чтоб кто-нибудь не испортил заранее достигаемого успеха. В тяжелых условиях лагеря, которые обостряли у многих заключенных эгоистические инстинкты, безопаснее было больше молчать и не откровенничать. Реакция на мое сообщение обоих писарей, как в фокусе линзы, показала мне их нутро. Один из них, который встретил меня в первый раз в дверях канцелярии, с доброй искренней улыбкой сказал мне, что рад за меня, поскольку я попаду в Муксалму, другой был явно раздражен потерей меня как работника.
Но мне не суждено было сделать в лагере бухгалтерскую карьеру. В ту же ночь я проснулся в камере не столько от очередного нападения клопов, сколько от сдержанных, но возбужденных разговоров заключенных. На втором этаже нар через проход против наших мест в бреду метался заключенный. По лагерным правилам заболевший заключенный мог заявить о своей болезни только после работы после вечерней поверки, и его направляли с соответствующей бумажкой из роты в амбулаторию, где фельдшер, если он находил нужным, мог дать такому заключенному освобождение от работы на один день. Никакие заявки о болезненном состоянии от заключенного не принимались на утреннем разводе, и больного все равно посылали на работу.
Староста вызвал дежурного комвзвода, тот посмотрел на больного и ушел. Через некоторое время снова загремел снимаемый с камеры замок, и комвзвод вошел в сопровождении двух заключенных в белых халатах. Они с трудом увели его в госпиталь, забрав и его вещи. Комвзвод пошептался с писарями, которые сразу стали собирать свои вещи и с вещами исчезли из камеры. Камера до утра не спала, обсуждая страшное предположение, что заключенный заболел сыпным тифом. Все были настроены панически, так как вшей у всех было полно. И я в этой камере набрался столько вшей, что даже после перевода во вторую роту, где у каждого был свой топчан, в течение еще двух месяцев никак не мог вполне избавиться от них.
Наше предположение оказалось правильным. Утром никого из камеры не выпустили, висячий замок снаружи не день не сняли, мы попали в карантин. Для оправки дневальные внесли в камеру несколько параш.
Для пресечения эпидемий лагерная администрация применяла жесткие, но и эффективные меры. Если в камере кто-либо заболевал сыпным тифом, его переводили в госпиталь, а всю камеру на все время инкубационного периода запирали на замок. Если на протяжении этого периода никто не заболевал, то карантин снимали. Если кто-нибудь заболевал в камере, карантин продолжали до истечения нового инкубационного периода. Так это могло продолжаться длительный период времени или все заболеют, или перестанут заболевать.
К удивлению, в нашей камере никто больше не заболел, и через две недели с нас сняли карантин и выпустили из камеры, но, конечно, моя должность на Муксалме за этот период уже была занята каким-то другим счетным работником из заключенных.
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
«На электростанции будете работать», - сказал мне нарядчик тринадцатой роты на разводе в первый же день окончания карантина, вызвав меня по фамилии из строя. Подозвав к себе моего «однодельца» черниговца Мишу Гуля-Яновского и незнакомого здоровенного крестьянского парня, нарядчик сказал им, что с ними пойду и я, и вручил «сведение» на нас троих, Крестьянский парень, белорус Солоненко, сын кулака, тоже десятилетник, и Гуля-Яновский работали на электростанции уже больше недели, первый масленщиком, второй учеником токаря. Они оба остались в камере, в которую прибыл наш этап, и не подвергались карантину, как я.
Меня очень тронуло выражение радости, проявленное Гуля-Яновским по поводу посылки меня на электростанцию, а в дальнейшем нас связала крепкая дружба, хотя он и был моложе меня на шесть лет. Я смутно помнил его по этапу, а он отлично меня запомнил и как-то сразу привязался ко мне. И хотя он был младше меня, он руководил моим поведением в первые дни работы на электростанции, поскольку он уже все знал и считал себя там кадровым рабочим.
Построившись втроем в один ряд по команде постового в Никольских воротах кремля: «Стройся по четыре», предъявив общее «сведение» на троих, мы вышли из кремля и пошли на юг вдоль восточной кремлевской стены по узкой набережной Святого озера. Тут же была проложена узкоколейная железная дорога, по которой нас обогнал товарный состав с торфом и дровами для электростанции. И паровоз и вагончики показались мне какими-то игрушечными, но подняли мой дух также, как шум лесопильного завода в Кемперпункте, дав иллюзию пребывания не в какой-нибудь глуши.
Обойдя Архангельскую башню, вдоль юго-восточной стены кремля мы подошли к Головленковской башне, между которой и сухим доком стояло одноэтажное каменное здание электростанции. Из двух железных труб валил дым.
К одной из них были присоединены два шаротрубных шотландских котла морского типа, к другой - водотрубный котел английской фирмы «Бабкок-Вилькокс» марки «Дюр». В ворота котельной заключенные-разнорабочие закатывали со двора попеременно вагонетки с дровами для шотландских котлов и с торфом для котла «Дюр». Потребность в сутки в дровах была около 25 кубометров, торфа - около 20 тонн. Котел «Дюр» работал на полной мощности не круглые сутки. Электростанция вырабатывала постоянный ток двумя быстроходными пародинамоми напряжением 110 вольт, которые, соединенные последовательно, подавали 220 вольт в трехпроводную сеть с нулевым проводом. Гидротурбина Фрэнсиса с динамо на 220 вольт, мощностью 25 киловатт, работала не более 8 часов в сутки в пределах допустимого расхода воды из Святого озера. Общая мощность электростанции составляла 275 киловатт.
Во дворе бригада заключенных, посылаемая ежедневно из пересыльной роты и не входившая в штат электростанции, разгружала дрова и торф из железнодорожного состава, обогнавшего нас, и разделывала дрова под наблюдением заключенного десятника, казачьего офицера. Мы поздоровались с ним, Солоненко нырнул в ворота котельной, а Миша провел меня в канцелярию электростанции.
Он представил меня делопроизводителю заключенному Леониду Антоновичу Данилову, тоже казачьему офицеру, адъютанту Наказного атамана Всевеликого Войска донского генерала Богаевского, сдал ему наше «сведение» и ушел в механическую мастерскую при электростанции.
Данилов произвел на меня неприятное впечатление. На меня уставились глаза-щелки, еще более казавшиеся узкими из-за одутловатости лица и широкого большого носа, как бы прилепленного к этому неказистому лицу. Из-за узости глазного разреза нельзя было понять действительное настроение смотрящего на меня человека, настроения, которое он всегда предпочитал скрывать и впоследствии, напуская на себя, даже и без надобности, большую важность. В дальнейшем он очень благоволил к нам с Мишей, почему-то мы были его слабостью, и однажды он, будучи превеликим карьеристом, даже предупредил, рискуя многим, Мишу через меня о грозящей ему опасности, безусловно, узнав об этом из секретных источников, так как он был близок к ИСЧ. Холодность его приема стала мне понятна лишь спустя некоторое время, когда я разобрался в отношениях между заключенными сотрудниками на станции и узнал об оказанном мне блате по вызову меня из пересыльной роты на постоянную работу на электростанцию ее заведующим инженером Эдуардом Константиновичем Миткевичем.
Когда меня перевели в камеру, в которой я отсидел карантин, я почувствовал к себе удивительно теплое отношение со стороны группы интеллигентов, помещавшихся подо мной на первом этаже нар. Это были путейцы профессоры Красовский и Рогинский, инженеры Дмоховский, Бонифатьев и Михайлевский. Карл Карлович Дмоховский уже знал меня по камере № 60 Бутырской тюрьмы, куда он был переведен из одиночной камеры в ужасном состоянии после окончания следствия. Он пробыл со мной в камере больше месяца, после чего был отправлен в этапе до меня на Соловки. Все они сидели по делу о «вредительстве» в НКПС (Народный Комиссариат Путей Сообщения) и имели десятилетний срок заключения, которым им заменили расстрел. Инженер фон Мекк, бывший владелец Московско-Казанской железной дороги, был расстрелян в Москве. Все они были спаяны тесной дружбой по многолетней совместной работе и трогательно заботились друг о друге.
Пока на нашу камеру не наложили карантин, к ним каждый вечер приходил и подолгу с ними оставался невысокого роста плотный, почти совсем лысый, пожилой человек в гражданской одежде, в котором я никак не предполагал заключенного. Это и был недавно назначенный заведующим кремлевской электростанцией их «одноделец», связанный с ними тоже узами теснейшей дружбы инженер-путеец Миткевич. Его-то, втайне от меня, и попросили вызвать меня на электростанцию мои новые благодетели. И он это сделал, дав на меня персональную заявку в УРЧ. Инженера Михайлевского он успел вытащить из камеры до начала карантина, назначив его заведующим электромеханической мастерской электростанции, выхлопотал ему право, ссылаясь на производственную необходимость, проживать вместе с собой в своем кабинете на электростанции.
В отношении своих остальных четырех друзей Миткевич ничего не мог сделать, так как у них в личных делах было предписание начальнику лагеря содержать их исключительно на тяжелых физических работах, в исполнении чего семидесятилетний Бонифатьев и, на немного моложе его, трое маститых ученых и инженеров катали валенки в войлочно-валяльной мастерской в банной атмосфере, свойственной этому виду производства. Без содрогания нельзя было смотреть на этих интеллигентных стариков, когда они, совершенно измотанные, приходили вечером с работы и не имели нормального сна на тесных нарах, съедаемые клопами и вшами. Нет слов выразить негодование по поводу этого бесчеловечного, в отношении стариков и вредительского для развития народного хозяйства нашей страны, приговора, так как сколько бы пользы они могли бы принести государству, оставаясь на воле, и, может быть, даже в лагере, если бы не валяли валенки по капризу следователя, ведшего их «дело»!
Профессор Рогинский впервые в мире разработал систему автоблокировки на железной дороге . Его учебник был переведен на все языки и лег в основу работ кафедр автоблокировки путейских факультетов всех стран мира. Профессор Красовский разработал конструкцию товарного паровоза «ФД» («Феликс Дзержинский»), который оказался непревзойденным почти сорок лет последующего стремительного движения технической мысли и до сих пор является единственным оставшимся в эксплуатации паровозом, возящим сверхтяжелые составы на железных дорогах нашей страны. Профессора ОГПУ обвинило в том, что он создал специально во вредительских целях такой мощный паровоз, чтобы... раздавить рельсы! Так не являлась ли борьба с вредительством высшей формой вредительства?!
Миткевич и Данилов к моменту появления моего на электростанции еще не «притерлись» в работе. Чтобы понять обстановку, создавшуюся на станции, необходимо упомянуть о структуре управления электропредприятиями Соловецкого лагеря. Заведующему «Электропредприятиями» (сокращенно «Электро») подчинялись электростанции Кремлевская, Савватьевская и Муксаломская, электросети кремля и телефонная станция острова. Во главе этих единиц стояли заведующие, подчинявшиеся заведующему «Электро». Последний совмещал и должность заведующего кремлевской электростанцией, в здании которой и находилась канцелярия «Электро», и жил заведующий «Электро» инженер Пинскер, деликатный еврей, имевший по бытовой статье срок в три года заключения и вот-вот ожидавший своего досрочного освобождения, что и произошло спустя меньше месяца после моего вызова на электростанцию.
Властолюбивый Данилов, при трусливом краткосрочнике Пинскере был фактическим заведующим кремлевской электростанцией, оставив заведующему «Электро» инженерно-технические вопросы и остальные предприятия, впрочем, протолкнув на должность старшего механика телефонной связи своего двоюродного брата казачьего офицера связиста Каледина. Кстати, последний всегда отрицал свое родство с атаманом Калединым. Потихоньку заключенные называли Данилова «некоронованный король электростанции».
Назначение Миткевича на вакантную должность заведующего кремлевской электростанцией, с явным намерением Планово-производственного отдела УСЛОНа, в дальнейшем продвинуть его на освобождающуюся должность зава «Электро», поставило перед Даниловым вопрос о прочности его власти, державшейся на подборе им лично ведущих кадров электростанции. Назначение Миткевичем инженера Михайлевского заведующим электромеханической мастерской Данилов воспринял как начало кампании нового заведующего по подбору «своих» кадров. Мое появление на электростанции по вызову Миткевича переполнило чашу его терпения.
«Будете работать рабочим в кладовой, - холодно сказал мне Данилов, - кладовая во дворе». В это время в канцелярию вошел Миткевич, подал мне руку и, обращаясь к главному бухгалтеру Турбину, сказал: «Вот молодой человек (он указал на меня) имеет бухгалтерское образование, возьмите его к себе счетоводом». Данилов возразил: «По штату у нас нет вакантной должности счетовода». Миткевич повысил голос: «Пусть числится рабочим по кладовой, а работает здесь!» - и, попыхивая трубочкой, пошел в кабинет к Пинскеру. Я стоял растерянный, интуитивно почувствовав себя в роли хлопца из известной украинской пословицы: «Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат».
Турбин, бросив торжествующий взгляд на Данилова, посадил меня на край стола, за которым сидел молодой интеллигентный человек из донских казаков Кавокин, работавший счетоводом. Он тоже был десятилетник по 58-й статье. Помощник главбуха, тоже десятилетник, Гейбель, офицер благотворительной организации, так называемого Ведомства императрицы Марии Федоровны, дал мне, назвав меня «мое золотце», выписывать счета за отпущенную электростанцией электроэнергию предприятиям Соловецкого лагеря. Тем же занимался и Кавокин.
Я был бесконечно благодарен Миткевичу за оказанный им мне «блат», устройства меня на постоянную и очень легкую работу, хотя это было сопряжено с неприятным чувством от столкновения его с Даниловым, в котором я сразу почувствовал властолюбие, а отсюда возможно вытекающими неприятными последствиями, поскольку я оказался здесь в обход его, да еще все время на его глазах.
Кроме того мне сразу бросилась в глаза бесполезность моей работы. А кто же из нас, воспитанных русскими интеллигентными родителями, не мечтал, в особенности в молодые годы, приносить своим трудом пользу своей родине. Хотя в отношении меня, я знал, была совершена величайшая несправедливость, но это не озлобило меня против родины, против народа, которого я никак не мог отождествить с узурпаторами власти и ее органом ОГПУ, которое так плюнуло в душу, прислав меня, невиновного, на десять лет в концлагерь.
Действительно зачем надо было предприятия лагеря, являвшиеся лишь филиалами внутрилагерного и притом натурального хозяйства, сажать на какой-то «хозрасчет», а учреждениям давать смету расходов с графой «на освещение», когда единственную ценность производимую лагерем - экспортную древесину реализовали на валюту, несоизмеримую с советскими бумажными деньгами? И по учету расходов, определению себестоимости продукции каждого предприятия, продукции, которая тут же потреблялась внутри лагеря, было занято столько заключенных в многочисленных бухгалтериях! Торфо и лесозаготовки присылали счета за сжигаемый в топках котлов электростанции торф и дрова, отдел снабжения за отпущенные смазочные масла и электроматериалы, металл и инструменты, УРО за работающих заключенных по 8 рублей за человеко-день. С серьезным видом аппарат бухгалтерии, состоявший из четырех, не считая меня, заключенных, подсчитывал на основании стоимости потребленных электростанцией материалов, топлива и рабочей силы себестоимость выработанной электроэнергии, которая поразила меня своей высокой себестоимостью (я не запомнил стоимости киловатт-часа), и отфактуровывала внутрилагерным потребителям, которые разносили сумму полученных счетов в своих бухгалтериях учреждения в графу «освещение», предприятия на себестоимость вырабатываемой им продукции. Бухгалтерская работа очень смахивала на выкачивание воды из баржи с пробитым дном, которое я видел в Кемперпункте, чтобы заключенные, хоть и бесполезно, но все же работали. В глаза мне бросилось и еще одно обстоятельство, свидетельствующее об объеме бухгалтерской работы на такой крошечной электростанции. Аппарат явно не справлялся, несмотря на одиннадцатичасовой рабочий день, с возложенными на него обязанностями, потому что, попав на электростанцию в начале последней декады августа месяца, я выписывал счета за отпущенную электроэнергию в июле!
В три часа дня настал обеденный перерыв до шести часов вечера. Занятия в канцеляриях начинались в 9 часов утра и заканчивались в 11 часов ночи. Обед, он же и ужин, на общей кухне в кремле выдавался только после окончания рабочего дня в семь часов вечера. Никто на кухне не выдал бы мне обеда, поскольку я был в тринадцатой роте, в четвертом часу, да и для этого надо было идти в кремль, а «сведение» было общее, которое связывало меня с Гуля-Яновским и Солоненко невидимой цепью, как каторжника. На электростанции была своя кухня, помещавшаяся в часовне на территории электростанции почти у самой воды юго-восточного берега бухты Благословения. В ее куполе была сделана комната, где жили повар и комендант электростанции, казачий офицер, оба заключенные. На этой кухне, так же, как и на общей, питание было двухразовое, но значительно отличалось в лучшую сторону, как по вкусовым качествам, так и по калорийности благодаря заботам коменданта, имевшем хозяйственную жилку. Не малую роль играло и отсутствие прихлебателей, облепивших общую кухню, как мухи.
Фактически за счет коллектива электропредприятий, насчитывавшего до 80 заключенных, проживавших в районе кремля, могли поживиться только повар и сам комендант. Кроме того на улучшение питания каждый заключенный вносил коменданту по его указанию продуктами, стоимостью в пределах одного рубля в месяц, что было посильно каждому. В 1929 году заключенные могли еще покупать продукты в кремлевской лавочке для заключенных: макаронные изделия, разную крупу и жиры, так как карточная система, введенная на воле с 1 января 1929 года, до лагерей еще не докатилась. Комендант умудрился как-то получать для кухни дополнительно еще и овощи из сельхоза.
И тут меня выручил Миша Гуля-Яновский. Он явился ко мне с котелком и эмалированной тарелкой, раздобыв для меня где-то вторую ложку, и по-братски разделил со мной свой обед. Мы пристроились на краю стола, на котором я работал. После более чем полугодового промежутка мне этот суп показался восхитительным, он был как домашний. И на второе мы съели по рыбной котлете с хорошим, даже подмасленным, гарниром из макарон. Так он и кормил меня в течение более недели, пока меня в роте не открепили от общей кухни, как работающего на электростанции и не прикрепили к станционной кухне.
Через несколько дней Данилов, наблюдая, как мы ели из одного котелка, обращаясь к Гейбелю, сказал (больше в канцелярии никого не было в это время): «И так эти птенчики прохлебают десять лет, страшно подумать, и за что? Мы хоть воевали против советской власти, а что они сделали»? Гейбель тотчас же возразил: «Золотце, Леонид Антонович, не распространяйте на всех, я не воевал против советской власти, я ни в чем не виноват». Данилов посмотрел на Гейбеля, и на этот раз сквозь щелки я впервые увидел выражение его глаз. Он подарил Гейбеля таким презрением, что тот весь как-то съежился.
На третий или четвертый день работы на электростанции мне удалось ускорить повышение моего материального благополучия в лагере через Турбина, перед которым за меня ходатайствовал Гейбель, правда, как оказалось, далеко не бескорыстно. При поступлении в лагерь от заключенного отбирали все деньги, занося соответствующую сумму на его лицевой счет в финчасти. На руки заключенному денежных знаков не давали, а выдавалась особая квитанция, по которой заключенный мог покупать в лагерной лавочке продукты и вещи в пределах отобранных денег, каковая сумма фиксировалась в квитанции, но не более тридцати рублей в месяц. Сама процедура покупки была весьма утомительна, так как все было как бы нарочно сделано, чтоб отбить охоту у заключенных лучше питаться за свои же деньги. Лавочка работала мало часов, что вызывало одновременное большое скопление в ней покупателей. Чтобы что-нибудь купить, надо было простоять в трех очередях. Сначала к прилавку, чтоб набрать нужные товары и получить от продавца чек на сумму отобранных товаров. Затем надо было простоять с чеком к кассе, где оформление производилось весьма медленно, так как кассир указанную в чеке сумму должен был вписать в графу «расход» на предъявленной квитанции, в нее же внести остаток суммы квитанции после списания суммы покупки, и всё это еще записать к себе в книгу с указанием фамилии, имя, отчества покупателя. С оплаченным чеком заключенный становился в третью очередь, где получал свои покупки по предъявлению чека.
Воспользоваться своими деньгами для улучшения своего питания сразу же по прибытии в лагерь я не мог, так как вручение квитанций для пользования ими по покупке продуктов в лавочке очень задерживалось финотделом, и проходило до трех месяцев пока квитанция попадала в руки заключенных. И мне приходилось ждать. Гейбель обратил внимание на мое крайнее истощение и порекомендовал мне лучше питаться. Я ему рассказал о наличии в финотделе моих денег в сумме около шестидесяти рублей, но отсутствие у меня на руках квитанции. Гейбель сразу пообещал мне устроить вне всякой очереди получение квитанции через Турбина, который был «вхож» в финотдел, и тут же попросил у меня взаймы тридцать рублей. Я сразу догадался, что это вроде взятки, но отказать ему было неудобно, и я согласился, тем более, что он объяснил мне о существующем лимите в тридцать рублей в месяц. «Золотце, - добавил Гейбель, - зачем деньги у наших тюремщиков будут лежать, а в следующие месяцы Вы сможете по моей квитанции набирать продукты сверх своего лимита, фамилии ведь будут разные». Уже на другой день Турбин принес из финотдела долгожданную квитанцию, одну на тридцать рублей на имя Гейбеля, другую на меня с остатком суммы моего личного счета. «Золотце, - сказал мне Гейбель, передавая квитанцию на мою фамилию с меньшей суммой, - всё как мы условились, теперь можете расходовать, кушайте, подкрепляйтесь, а вот эти Ваши тридцать рублей выписаны на меня, я беру их у вас взаймы». Я был благодарен и Гейбелю и Турбину, в тот же вечер купил в лавочке масла, белого хлеба, чая и сахара, сам наелся досыта и Мишу накормил.
Тридцать рублей Гейбель так мне никогда и не возвратил, с воли ему денег никто не присылал, но жил он по лагерным масштабам роскошно. Впоследствии я узнал, что он никогда и никому долгов не возвращал, но брал взаймы у всех новичков, поступавших на электростанцию, которые не знали, как и я, его повадок.
Не прошло и недели, как я работал в канцелярии, когда во время рабочего дня, в канцелярию шумно ворвался кладовщик электростанции жандармский ротмистр Кудржицкий. Это был седеющий, но очень подвижный и энергичный коренастый человек, которого я уже знал, приняв от него однажды, по распоряжению Гейбеля, расходные накладные по кладовой. Обратившись ко мне по имя отчеству, он, тоном, не терпящим возражений, весело сказал: «Поехали за материалами»! Я растерянно перестал делать разноску материалов по картотеке и уставился на Гейбеля, поскольку Турбина не было в этот момент. Пока Гейбель собрался как-то отреагировать на выпад Кудржицкого, Данилов примирительно сказал: «Ну что же, проветритесь, все равно Ваша работа здесь никуда не уйдет, а Вы поможете», - и он назвал Кудржицкого по имя отчеству. Данилов не любил и Гейбеля и еврея Турбина и рад был отнять от них работника, показав свою власть и им, и кладовщику.
Поездка наша оказалась «на своих на двоих». Мы получили на складах в кремле материалы и вернулись обвешанные бухтами проводов, связками изоляторов и крючьев, неся еще на плечах несколько прутков железа разного диаметра. Я никогда не обладал физической силой, а на тюремно-лагерном пайке совсем ослабел и очень устал от ноши. Кудржицкий был физически значительно сильнее меня, он был прекрасный спортсмен и великолепный фигурист на льду, в чем я мог убедиться зимой, когда он был назначен заведующим спортплощадкой для вольнонаемных. Видя мою усталость, он очень сочувственно отнесся ко мне, велел мне отдыхать, а сам все принесенное разложил по стеллажам.
Когда я отдышался и хотел идти в канцелярию, он меня задержал, предложив не спешить на работу, а посидеть у него, ничего не делая. «И без Вас справятся там, эти бездельники», - сказал он мне. Чувствовалось, что он недолюбливал Турбина и Гейбеля. Завязалась беседа, в которой он высказал мне, что для рабочего я не гожусь физически, но что он с удовольствием бы поручил мне разноску приходно-расходных накладных по своей картотеке в кладовой, которую он вел сам в целях контроля бухгалтерской картотеки. «А то вечно они там путают», - презрительно добавил Кудржицкий. Его осторожность в дальнейшем сослужила мне службу, избавив меня от большой неприятности, когда я сам стал ответственным кладовщиком, и бухгалтерия мне предъявила большую недостачу материалов, которой на самом деле не было. «Ну когда-нибудь и мне поможете получать и выдавать материалы, одним словом мы с вами сработаемся, переходите ко мне», - уговаривал Кудржицкий меня. Я откровенно ему признался в своем отношении к бессмысленной работе бухгалтерии, но просил его подождать с моим переходом в кладовую до разговора с Миткевичем, поскольку я обязан последнему вызовом на электростанцию, а он меня назначил в бухгалтерию.
Меня все больше и больше поражало в лагере отсутствие товарищеской солидарности, чего-то единого целого, которое должна была бы представлять собою масса заключенных, спаянных, по моему мнению, одним общим несчастием - заключением. Недружелюбие Данилова к Миткевичу, вызванное опасением за незыблемость достигнутой власти, неприязнь Данилова к Турбину и Гейбелю и Кудржицного к ним, соперничество, может быть и выдуманное Даниловым, между его «группировкой» и «людьми Миткевича» - все как-то не укладывалось у меня в голове и стало сокрушать мои иллюзии о противостоящем едином фронте заключенных против тюремщиков.
Спустя несколько дней после разговора с Кудржицким, в течение которых он неоднократно вызывал меня в кладовую, давая мне разные поручения, я улучил момент для откровенного разговора наедине с Миткевичем. Я от души поблагодарил Эдуарда Константиновича за все что он сделал для меня, и откровенно признался, что не хотел бы работать в бухгалтерии. Видя его недовольное выражение лица, я добавил, что кроме всего, не надо нарушать штатное расписание. Миткевичу было присуще чувство юмора, и он не мог не поддеть меня: «Слушайте, я вижу, что Вы настоящий финансовый работник, даже о раздувании штатов со мной заговорили, а сами бежите под этим предлогом из бухгалтерии»! И тут же, серьезно: «Я вижу, вы стоящий человек, я вас на легкую работу определил, а вы туда, где потруднее. Я согласен, в бухгалтерии вы ничему не научитесь, а вот в кладовой Вы изучите электроматериалы, металлы. Я вас сделаю электриком, инженером, не век же Вам сидеть в лагере, а вот годы уходят. Я организую курсы электромонтеров, валяйте туда, с монтера каждому инженеру надо начинать»!
Я так подробно остановился на этом разговоре с Миткевичем, потому что он дал мне целеустремленность пребывания в лагере, сделал, если можно так выразиться, сидение за проволокой не пассивным, а активным, вселив в меня веру, что жизнь не закончена, что заключение явление преходящее, трамплин для будущей жизни на воле, при условии напряженной учебы. Разговор этот предопределил приобретение мною специальности электрика, которую я очень полюбил, с которой я сделал карьеру в лагере и по которой мне так мало пришлось впоследствии поработать на воле, вследствие наличия на всех командных постах в нашей стране перестраховщиков, боявшихся доверить технику бывшему заключенному.
Будучи высококвалифицированным электромонтером, каковую специальность жандармский ротмистр приобрел после революции, работая на одной из мельниц Ленинграда, Кудржицкий в совершенстве знал электротехнические материалы, одновременно хорошо разбираясь в металлах. Он мне дал очень много познаний по материаловедению в процессе нашей совместной работы в кладовой. Никакой учебник высшей школы не мог бы дать мне стольких твердо усвоенных мною знаний, какие я приобрел на практике в кладовой.
В преддверии «великих строек», которые должны были быть поручены ГУЛАГу, чекисты поняли, что одними разнорабочими-заключенными на строительствах им не обойтись, что им необходима целая армия рабов-специалистов самых различных профессий и квалификации, которыми и так не была богата наша в основном крестьянская страна. Чтобы выйти из положения, чекисты решили обучать в лагерях и крестьян и деклассированных уголовников, под благородным лозунгом перевоспитания преступников в полезных для общества трудящихся. Культурно-воспитательный отдел открыл на Соловках курсы нескольких профилей, в том числе и электромонтеров, на которые поступил и я, дав о себе ложные сведения, что я сын крестьянина. Я учел, что меня как сына военнослужащего не приняли бы на курсы, предназначенные для трудового народа. Пришлось идти на риск, но в массовом наборе моя анкета потонула и никто не проверил. Приговор научил меня и лгать и идти на риск.
Занимались по четыре часа в день, после работы до 11 часов вечера (курсантов отпускали с работы в 6 часов вечера). Это было тяжело, многие засыпали на лекциях, но учились с охотой, несмотря на разный уровень подготовки. Заведующий курсами по совместительству, заведующий электросетями морской офицер-минер Зиберт дал нам обширную программу, включив в курс обществоведение, математику в объеме десятилетки, физику, черчение, общий курс электротехники, канализацию тока и монтаж и электрические машины. Кроме того проводились практические занятия по монтажу внутренней и наружной проводок. Курс по своему объему приближался к техникуму и длился девять месяцев, по окончании которого квалификационная комиссия с представителем от КВО, чекистом, подвергла нас экзаменам и мы получили удостоверения. Те кто работал электромонтерами, получил удостоверения электромонтера, остальные, как и я, звания поммонтера.
Недели через две, после того, как я начал работать на электростанции при содействии Данилова, близко соприкасавшегося с работниками УРЧ, нас с Гуля-Яновским перевели на жительство из 13-ой пересыльной роты в 2-ю канцелярскую роту. В электророту, которая была вне стен кремля нас не решились перевести как рядовых десятилетников. Но и это было большое достижение. Мы попали в интеллигентное общество, мы спали на индивидуальных топчанах рядом друг с другом, сначала в коридоре роты, медленно подвигаясь от входа в роту, а затем попали вместе в одну камеру на пять заключенных. Мы вывели вшей, нас не беспокоили клопы и, казалось, мир и спокойствие снизошли на нас. Во всяком случае, мы достигли пределов того, о чем может мечтать заключенный СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).
КВО
КВО - Культурно-воспитательный отдел УСЛОНа, своим существованием мог вызвать только грустную улыбку и недоуменный вопрос заключенного. Зачем в лагере, цель которого была строгая изоляция и постепенное физическое уничтожение целых слоев общества, неугодных большевикам, имелось учреждение, которое, судя по названию, должно было внедрять культуру и заниматься воспитанием заключенных?! И какую культуру могли прививать безграмотные тюремщики и какое воспитание могли давать лагерные чекисты, у которых руки по локоть были обагрены кровью невинных жертв?!
Тем не менее, такое учреждение имело, как всякое советское учреждение, план работы, показатели работы, нижестоящие отраслевые учреждения, низшим звеном которых был воспитатель роты, назначаемый из уголовников или бытовиков. Пользы от этих воспитателей для заключенных не было, их просто не замечали, но вреда от них можно было ожидать, так как они были осведомителями ИСО. Роль этих воспитателей несколько поднялась лишь с введением в 1931-м году системы зачета рабочих дней, так как в зависимости от той или иной характеристики на заключенного от воспитателя роты, любой сверхударник мог и не получить зачета рабочих дней, т.е. снижения срока заключения на один месяц за каждый квартал. Для десятилетников это снижение срока по зачету рабочих дней имело мало значения, так как отличную характеристику надо было иметь каждый квартал, а потом все же и остававшийся срок в семь лет был так велик, что вероятность освобождения из лагеря живым была весьма мала.
О КВО не стоило бы и упоминать, если бы этот отдел не ведал изданием альманаха «Соловецкие острова» и ему бы не подчинялся Соловецкий театр, о которых стоит рассказать.
Максим Горький, разрекламированный партийной большевицкой пропагандой, как великий пролетарский писатель, при всех своих симпатиях к большевикам, никогда не скрывал своего отвращения, как истинный гуманист к жестокости расправы большевиков со своими действительными и мнимыми противниками. Не перенеся расстрела в чека поэта Гумилева, которого Горький по силе таланта приравнивал к Пушкину, он покинул в знак протеста пределы России в 1921 году. Вернувшись в СССР в конце двадцатых годов, Горький не поверил в перерождение чекистов в гуманных людей, в чем его усиленно уверяли советские эмиссары, посещавшие его за границей и усиленно звавшие его вернуться, и потребовал от Политбюро большевиков предоставить ему возможность лично побывать на Соловках, мрачная слава которых была широко известна и заграницей. Политбюро и ОГПУ попали в безвыходное положение. После долгих оттяжек Максим Горький все же добился такого разрешения и в 1928 году приехал на Соловки, где ему показали такие потемкинские деревни, что он, ничего не разобрав, поверил в райское житье заключенных.
К его приезду на Соловки основную массу заключенных временно угнали из кремля вглубь острова, оставленных запугали, чтобы не проболтались Горькому. В келиях поместили по одному-двум заключенному, поставили кровати с чистым бельем и мебель, разрешили заключенным мужчинам гулять парочками с заключенными женщинами, одев всех с иголочки. Кормили заключенных изысканными завтраками, обедами, ужинами, словом, бутафорское оформление было на высоте.
Одной из таких потемкинских деревень и был альманах «Соловецкие острова», печатавшийся в доставшейся от монастыря типографии на прекрасной слоновой бумаге с превосходными иллюстрациями заключенных художников. Для издания альманаха на всех лесозаготовках разыскали заключенных поэтов и писателей, перевели их в кремль, дав им в руки перья и бумагу взамен пилы и топора.
По инерции, свойственной всем советским учреждениям, этот альманах выходил и после отъезда Горького вплоть до октября 1929 года, когда кто-то спохватился и альманах прикрыли. Но за год с лишним его существования альманах доставил много удовольствия интеллигентным заключенным. Особенным успехом пользовался отдел под названием «Что написал бы поэт, если бы был на Соловках»? Пронизанные юмором, яркие сочные стихи поэтов Ярославского и Дарского, ведших этот отдел, превосходно по форме и слогу имитировавшие стихи известных поэтов, содержали большую правду о быте заключенных.
В отделе номера, посвященного Игорю Северянину, мне запомнилась строка:
«И пьет эстет душистый вежеталь ...»
Юмор, вложенный в эту строку, мог понять только соловецкий заключенный, знавший о категорическом запрете, под страхом длительного заключения в штрафной изолятор, употребления спиртных напитков. Любители хмельного потихоньку пили денатурат, политуру, одеколон и все что содержало хотя бы намек на алкоголь, вплоть до употребляемого в парикмахерских вежеталя.
В другом номере, посвященном Пушкину, Дарский радовал читателей переложением «Евгения Онегина»:
«Мой дядя самых честных правил,
Когда внезапно «занемог»,
Москву он тотчас же оставил,
Чтоб в Соловках отбыть свой срок.
Он был помещик, правил гладко,
Любил беспечное житье;
Читатель в рифму ждет «десятка»,
Так вот она, возьми ее!»
Далее следовало описание этапа, и автор переходил к пребыванию Дяди на Соловках:
«Сначала комрот за ним ходил,
Потом рукраб его сменил.
В бушлат УСЛОНовский одет
Мой дядюшка не взвидел свет!»
Непосвященному читателю необходимо объяснить, что слово «занемог», вернее, его синоним «заболел» очень часто употреблялся как шифр для обозначения ареста родственника в письмах преследуемых семей для оповещения о случившемся несчастье знакомых или родных. Очень скоро этот наивный шифр стал всем, и в первую очередь чекистам, широко известен и слово «заболел» стало синонимом слова арестован. «Десятка», т.е. срок заключения десять лет. УСЛОН - Управление Соловецкого лагеря особого назначения.
Также врезался мне в память из этого альманаха рассказ, в котором автор его поднял тему перерождения психики заключенного при долгом сроке заключения в лагере. Тема была завуалирована юмористическими приключениями освободившегося заключенного в Москве. Положенный по приговору срок заключения давил на психику, в особенности у долгосрочников, превращаясь постепенно в навязчивую идею. При знакомстве в лагере одним из первых сообщений новому знакомому следовало упоминание о величине полученного срока заключения и вопрос: «А сколько Вам лет?», причем подразумевался не возраст, а именно срок заключения. В рассказе бывший заключенный, еще погруженный в лагерные понятия, долгие годы видевший вокруг себя только заключенных, спрашивает понравившегося ему пожилого носильщика на перроне вокзала в Москве: «Сколько Вам лет?». Естественно, носильщик отвечает о своем возрасте: «Пятьдесят, милок»! Бывший заключенный ошарашивает носильщика своим замечанием: «В мое время таких сроков еще не давали». В трамвае с таким же вопросом он пристает к пассажирам, которые начинают подозревать в нем умалишенного. В этом они окончательно убеждаются, когда на остановке в трамвай входит военнослужащий в шинели, и бывший заключенный, у которого сработал выработавшийся в лагере условный рефлекс на чекистов-начальников в шинелях, стремительно вскочив со своего места, громко кричит: «Внимание!», как надо по лагерному уставу при входе начальника. На следующей остановке бывшего заключенного высаживают из трамвая и отправляют в психиатрическую больницу.
В 1930 году в лагерях начала выходить печатаемая типографским способом, издаваемая КВО, ежедневная газета. В СЛОНе она называлась «Перековка», т.е. перевоспитание. Наиболее удачного названия для характеристики метода применяемого чекистами для перевоспитания заключенных, трудно было бы подобрать. Вместо стандартной надписи «Пролетарии всех страх, соединяйтесь!», которую имеют все газеты, выходящие в СССР, вверху первой страницы, «Перековка» имела другую надпись: «Не подлежит распространению за пределами лагеря».
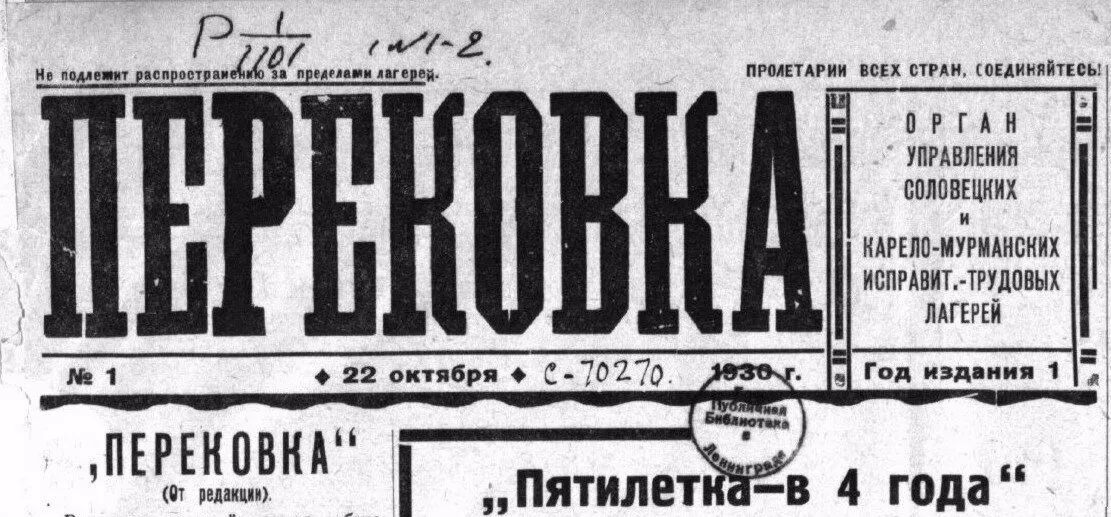
Время начала выхода этой газеты совпало с развертыванием больших строек, порученных ОГПУ, и хотя дрын и дула винтовок оставались по-прежнему главными факторами успешного принудительного труда, но кому-то в голову пришло, еще подкрепить кнут агитацией, которой и занималась эта газета, отмечая ударников заключенных, итоги соревнования между бригадами, лагпунктами, проводившимся также как и на воле, в основном на бумаге. Героем дня на один номер газеты был какой-нибудь уголовник, который перевыполнил норму на (далее следовала фантазия работников КВО) столько-то процентов. Дальше об этом ударнике на страницах листка уже ничего не было слышно, потому что обычно этот печатный герой попадался или на воровстве или даже лагерном бандитизме и упрятывался в штрафную роту.
Целям агитации служили и введенные с 1930 года стенные газеты на предприятиях. Участвуя в общественной работе, которая была введена тоже с 1930 года, я почти три года был бессменным редактором стенгазеты «Электропредприятий» на Соловках и близко познакомился с работой цензоров Культурно-воспитательного бюро Кремлевского лагпункта, которым я обязан был представлять все материалы до помещения в стенгазету для проверки и изменений текста, если что-нибудь не нравилось цензору. Мне самому приходилось писать передовые статьи к номерам стенгазеты, приуроченных к революционным праздникам, хотя политическая часть возлагалась на воспитателя роты, с какой работой, ввиду малограмотности, ни один воспитатель не мог справиться.
Однажды по этому поводу вышел у меня с воспитателем интересный курьез. Воспитатель электрометаллроты, полуграмотный бытовик, однажды потребовал от меня на просмотр до подачи цензору КВБ передовицу номера стенгазеты ко дню Парижской коммуны. Приказ пришлось выполнить, хотя он был и необычный. Шли дни, подходил крайний срок передачи материала стенгазеты цензору КВБ, а воспитатель мне передовицы не возвращал, то явно прячась от меня, то ссылаясь на отсутствие времени, когда я его ловил. Я не на шутку стал тревожиться, не усмотрел ли он в какой-нибудь фразе скрытого контрреволюционного смысла, что грозило мне большой неприятностью вызова в ИСЧ, со всеми вытекающими отсюда грозными последствиями, вплоть до добавления срока заключения или отправки в штрафизолятор на Секирную гору. Сделав еще одну попытку выручить злосчастную передовицу, я застал воспитателя переписывающего мою передовицу. Наш политический вождь при виде меня страшно растерялся и признался, что переписывает мое творение к себе... в доклад, с которым он должен выступить перед заключенными роты накануне вечером праздника Парижской коммуны. Получалось, что он вел агитацию по материалам, написанным контрреволюционером, каким я числился в деле, созданном ОГПУ.
Соловецкий театр, помещавшийся в переоборудованной монастырской трапезной, имел постоянную труппу из профессиональных артистов- заключенных и превосходный смешанный оркестр также из заключенных. В середине 1929 года театр был в расцвете своих творческих сил и поставил на местные темы обозрение или, как тогда называлось, ревю «Дезинфекционная камера». Ревю было сугубо сатирическое на лагерную жизнь и можно было только удивляться, как лагерное начальство и КВО допустили его к постановке. Вероятнее всего, что здесь немалую положительную роль сыграло то обстоятельство, что режиссером театра был крупный уголовник, воровской король, талантливый от природы артист-любитель, Глубоковский *, более известный под воровской кличкой «Мартышка». На неимоверно коротких ногах, с длинными руками, доходившими ему почти до колен, с мелкими чертами подвижного лица, на котором доминировали сильно развитые надбровные дуги, он действительно очень был похож на обезьяну, сходство с которой еще более увеличивалось от его необыкновенной подвижности на сцене. Ставя ревю, Глубоковский заставлял артистов жестом, мимикой говорить со сцены то, что уж никак не могла пропустить цензура в тексте ревю. И эффект получался потрясающий. Заключенные, приводимые строем в театр, отлично понимали всё и награждали артистов оглушительными аплодисментами. Аплодировали им во главе с начальником лагеря и вольнонаемные, для которых были отведены первые пять рядов партера.
Мне удалось попасть на одно из представлений этого ревю через коменданта электростанции, давшего мне билет на балкон, и я был захвачен всем тем, что видел на сцене.
Пролог ревю начинался на мотив старой былины «О разбойнике Кудияре», который покаялся и кончил свою жизнь монахом в Соловецком монастыре. Былина начиналась словами:
«Господу Богу помолимся,
Старую быль возвестим -
Так в Соловках нам рассказывал
Древний монах Питирим».
Вся труппа при закрытом занавесе выходила на авансцену и под аккомпанемент оркестра пела:
«Господу Богу не молимся,
Новую быль возвестим -
Так о Соловках нам рассказывал
Совсем не монах... Максим».
Уже в четвертой строке пролога начинался скрытый смысл. Под Максимом подразумевался Горький. О том, как он мог только превратно рассказать о СЛОНе, увидев наскоро поставленные к его приезду декорации, так труппа предупреждала своих зрителей, что в ревю они покажут только ту действительность, что разрешена начальством, или ту, что и от Горького никакими декорациями нельзя было скрыть.
Первая сцена ревю изображала прибытие этапа на остров. Заключенные, сходя по трапу с парохода, пели:
«... И со всех концов Русской земли
Нас с «любовью» сюда привезли»
Встречающие этап заключенные, в том числе и конвой, отвечали:
«Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами,
Поживите здесь годочков три-четыре-пять
Будете с «восторгом» вспоминать!»
После очередного куплета сходящих с парохода, встречающие снова пели:
«Хороши» по весне комары,
«Чуден» видик с Секирной горы.
И от всяких ударных работ
«Здоровеет» соловецкий народ».
Секирная гора, вернее, храм на ее вершине был превращен в штрафной изолятор с жесточайшим режимом для заключенных.
В одной из сцен показывалась работа разгрузочной комиссии, приезжавшей раз в год на Соловки до 1929 года, когда еще не было плана Френкеля, когда лагерь не нуждался в рабочей силе для выполнения производственных планов. Комиссия состояла из членов коллегии ОГПУ и имела право освобождать досрочно из лагеря заключенных. Поездка из Москвы на остров членов комиссии, по сути, была для них приятным летним пикником, чтобы сменить на время душные кабинеты Лубянки-2 на приволье края непуганого зверья, где куропатки, глухари, тетерева прямо лезли под ноги людей. В перерыве между охотой члены комиссии подписывали заранее подготовленные начальником СЛОНа списки на освобождение заключенных. В эти списки включались уголовники-краткосрочники, под видом «исправившихся», а на самом деле недисциплинированностью и отказами от всяких работ приносившие лишние хлопоты лагерной администрации, которая желала избавиться поскорее от этих рабов. Изредка в списки попадали и отдельные каэры, близко находившиеся к начальнику лагеря и снискавшие его расположение своим холуйством перед ним.
На сцене показывалась эта комиссия в гражданской одежде, заседавшая за столом, которая пела:
«Выпили - закусили,
Рассмотрели – постановили».
Члены комиссии выкрикивали: «Освободить»! Председатель комиссии нараспев говорил фамилии. После каждой фамилии стрелок ВОХРа, поворачивая голову за кулисы, кричал: «Вылетай». Из-за кулис в рубищах, с пустыми мешочками в руках, после каждой произнесенного «вылетай», выбегали по очереди освобождаемые заключенные и строились на другой стороне сцены. Мимо стола комиссии они проходили, приплясывая любимый танец уголовников чечетку, и по очереди пели, обращаясь к комиссии, куплеты:
«Была без радости любовь -
Разлука будет без печали!»
...
«Не грустите в расставанье,
Скоро свидимся опять!»
И эта мысль о неизбежности очень скорого возвращения в лагерь по новому делу освобождаемых уголовников была жуткой действительностью. Не одного и не двух я встречал таких уголовников, как старых знакомых, на протяжении своего срока заключения, по несколько раз освобождавшихся и снова попадавших в лагерь за новые преступления. Еще раз авторы ревю подчеркивали это, когда сформированный из освобожденных этап, подгоняемый прикладом винтовки конвоира, уходил за кулисы. Отплясывая чечетку, освобождаемые уголовники весело прощались со зрительным залом: «До скорой»! (подразумевалось встречи).
Еще запомнилась мне сцена из ревю, изображавшая самое отрицательное явление лагерного быта, показывающая моральное разложение части заключенных, в том числе и сидевших по 58 статье. Сцена ревю показывала «стукача», т.е. секретного сотрудника ИСЧ, заключенного осведомителя, дающего сводки о всех сторонах жизни заключенных и их мышлении. Название «стукач» пошло от имевшихся на всех дверях комнат, занимаемых ИСО-ИСЧ, вывесок: «Без стука не входить». Название «стукач» стало настолько общеизвестным, что к моему прибытию в лагерь эти вывески на дверях ИСО-ИСЧ были заменены другими «Без предупреждения не входить».
Поднимался занавес и на пустую сцену из-за кулис выглядывало мерзкое лицо стукача. Продолжая озираться, стукач осторожно показывался на сцене полностью и, убедившись, что никого нет, принимал наглое выражение лица и, чарльстоня (в те годы чарльстон был очень модным танцем), продвигался к противоположным кулисам, напевая:
«Я стук известный,
Любимец местный,
Про всех и каждого стучу:
Кто дружен с водкой,
Кто спал с красоткой,
Кто кроет в Бога,
Кто знает много,
Кто про начальство плохо говорит».
Подойдя к кулисе, представлявшей дверь с надписью «Без стука не входить», стукач, весь съежившись, озираясь по сторонам, тихонько в нее стучал. Дверь приоткрывалась и в высунувшуюся руку, стукач, с подобострастием, передавал вынутую из-за пазухи записку. Рука с запиской скрывалась, стукач с подхалимским видом кланялся в щелку двери. Дверь распахивалась, появлялись нога в сапоге, которая отшвыривала стукача на середину сцены и вдогонку из двери слышалось: «Дурак»! Дверь захлопывалась, стукач поднимался и, снова озираясь по сторонам, прихрамывая от нанесенного удара, скрывался за кулисами.
Не только сатирический характер куплетов ревю, но и пение их на мотивы популярных оперетт «Сильвы», «Баядерки», «Голландочки» поднимали настроение зрителей-заключенных, откликаясь куплетами на наболевшие вопросы лагерного быта и музыкой напоминая о тех безвозвратных временах, когда соловчане ничего и не подозревали о готовившейся им судьбе рабов.
В концовке снова участвовала вся труппа. Заключительная песня-марш заканчивалась словами:
«К жизни новой мы стремимся,
Чтоб забыть о Соловках».
Концовка была сделана явно в духе потемкинских деревень показанных Горькому. Концовка констатировала «перевоспитание» заключенных в лагере («к жизни новой мы стремимся»), она успокаивала чекистов, что заключенные «забудут» их зверства в лагере.
С переездом УСЛОНа с Соловков в город Кемь в конце 1929 года, лучшие артисты были по этапу отправлены в Кемь, где играли в клубе вольнонаемных. Театр был закрыт и возродился лишь летом 1930 года, но уже на совсем других началах. Выполнение производственных планов лагерем требовало все больше заключенных в сфере производства, оставшиеся артисты и вновь прибывающие должны были работать на производстве и только в порядке самодеятельности им разрешили создать труппу. Любовь к искусству была так велика у этих талантливых людей, что они после утомительного рабочего дня, жертвуя отдыхом и частично сном, ежедневно собирались в помещении театра по вечерам и репетировали и играли, обратившись к одноактным пьесам и концертам из отрывков из опер и оперетт. Оркестр возник также только на основе самодеятельности. Сыгровки также производились только по вечерам и в выходные дни. С одним из музыкантов, флейтистом Чернильовским, офицером Русской армии, я познакомился очень оригинально. Услышав однажды, как я разговаривал с одним из артистов, он подошел ко мне и спросил, не такая ли у меня фамилия? Он попал в цель, я действительно был такой-то. Тогда он назвал свою фамилию и пояснил, что узнал меня по голосу, который у меня был такой же, как и у моего деда, учеником которого он был, почему он и угадал мою фамилию. Я вспомнил тогда, что дед мой всегда восторгался игрой на флейте одного своего малолетнего ученика Чернильовского.
Из певцов Соловецкого театра мне запомнились прекрасный баритон из Харьковского оперного театра Голод и бас Холявко, протодьякон Экзарха Украины. Оба заключенные по 58 статье сроком на 10 лет каждый, они отдыхали душой, предаваясь любимому искусству. Холявко я близко узнал, так как он был десятником по заготовке топлива на дворе электростанции.
В Соловецком театре после рабочего дня участвовал и я, выполняя обязанности осветителя. Работа в театре захватила меня, приобщив к миру искусства, и приносила мне много удовлетворения в общении с артистическим миром, с которым на воле я не был знаком. Так произошло мое близкое знакомство с опереточным артистом, любимцем ленинградской молодежи времен НЭПа, Ксендзовским, возглавившим соловецкую труппу в 1932 году. Первый раз на Соловках я его увидел из окошечка осветительной будки на сцене во время концерта. Сначала я подумал о своей ошибке, но когда Ксендзовский запел без слов, пользуясь своим большим еврейским носом, как резонатором, свой коронный номер, арию «Мой любимый старый дед» из оперетты «Птицелов», все сомнения отпали. В антракте, спустившись из будки на сцену, я горячо поблагодарил за доставленное мне удовольствие.
Ксендзовский был посажен вскоре после меня, но не по 58 статье. Он был чистейшей капли бытовик и при другом режиме, конечно, не изведал бы лагеря. Ленинградская оперетта, руководителем которой он был, официально числилась трудколлективом, но в действительности, как потом мне рассказал Ксендзовский, это было его собственное предприятие, он был антрепренером. Чтоб поменьше платить государству налога, который и так был минимальным, как с доходов трудколлектива, Ксендзовский при помощи своего брата, который был администратором оперетты, завышал расходы путем фиктивных ведомостей в получении актерами баснословных сумм заработной платы и на костюмы. Актеры расписывались в ведомостях на всю сумму, будто выдаваемых денег, а на руки получали меньшие суммы, но по повышенным ставкам. Получающуюся разницу делили на троих, двух братьев Ксендзовских и жену артиста Ксендзовского, артистку Орлову. Афера была вскрыта, когда в ведомости на получение денег на костюмы оказались и рабочие сцены и даже кочегары. Администратор Ксендзовский получил срок в десять лет концлагеря, артист Ксендзовский - пять лет, и его жена Орлова - три года заключения. В лагере артист Ксендзовский, если не считать измены его жены с начальником лагеря, за что она была досрочно освобождена, жил неплохо, был все время на материке, но на Беломорканале впал в немилость начальства и, как штрафник, в конце 1932 года попал на Соловки. В 1933 году он освободился и, желая заработать денег на дорогу, дал концерт в городском театре г. Кеми, где и я был в это время. К моему великому сожалению я был лишен возможности еще раз послушать Ксендзовского, так как заключенные не могли ходить в городской театр.
Отход Соловецкого театра от ревю на злободневную тему и вообще от злободневности и заполнение своего репертуара исключительно драмой, советской комедией и концертами был не случайным, а подчинением волне, докатившейся с воли и до Соловков, волне, которая характеризовалась отходом всех театров от сатиры. Драматурги, в особенности сатирического жанра, еще уцелевшие на воле от карающего меча пролетарской диктатуры, предпочли замолчать, чтобы не последовать за своими коллегами в концлагеря, а продажные драматурги под нажимом большевицкой верхушки стали поставлять на сцены театров лишь верноподданнические пьесы, в так называемом духе социалистического реализма, который задушил истинно свободное искусство, превратив все виды искусства в скучную халтуру. Эти «лакировщики» подавали действительность аляповато-раскрашенную в краски благополучия, совершенно избегая хотя бы намека на какую-либо теневую сторону строительства социализма, которыми оно так изобиловало.
Все же Соловецкий театр сделал одну попытку возобновления сатирического жанра. В новогодний, 1933-го года концерт были включены частушки на местные темы. Но и эта ограниченная попытка не получила своего развития и со сцены сатира больше никогда никого не поражала. Спетые под новый, 1933-й год, частушки были составлены довольно безобидно и касались среднего административно-технического персонала лагеря из заключенных. Только одна частушка замахнулась шире, на тему, о которой надо подробно рассказать.
В конце 1932 года, в связи с назначением Верховным прокурором СССР Сольца, в лагере усиленно и, наверное, не без основания, муссировались слухи о протаскивании Сольцом нового уголовного кодекса, с которым он носился давно. Основное отличие нового кодекса от действующего заключалось в снижении максимального срока заключения с десяти лет до пяти. Расстрел оставался в силе. Обездоленный человек всегда надеется на лучшее и вот, зацепившись за «снижение срока», все заключенные толковали слух по-своему, так как никому не было известно все доподлинно. Одни высказывали мнение, что пять лет будут получать за то, за что раньше давали десять, а отсюда вытекала перспектива снижения срока наполовину десятилетникам. Другие шли дальше, ожидая по всем градациям сроков уголовного кодекса снижения срока заключения наполовину и многие отсидевшие больше половины срока готовились к освобождению. Пессимисты утверждали, что никакого пятидесятипроцентного снижения срока не будет, а за то, за что по кодексу полагалось свыше пяти лет заключения, обвиняемые будут расстреливаться, и могут всех, уже имеющих срок свыше пяти лет, теперь расстрелять в лагерях. Забегая вперед, надо сказать, что изменение кодекса Сольцу провести не удалось, сроки остались те же и никому никаких скидок не сделали. А два молодых уголовника, отплясывая чечетку, под звуки гитары со сцены Соловецкого театра в новогоднем концерте под начало 1933 года спели:
«Кому десять - тому пять,
Кому пять - тому опять».
В ведении КВО была и Соловецкая библиотека на десять тысяч томов, скомплектованная Политическим Красным крестом, председателем которого была жена Максима Горького Пешкова. Художественная литература, вплоть до самых свежих книг советских писателей, доминировала над остальными отделами. Была политическая и техническая литература. В краткие часы отдыха заключенных, книги из этой библиотеки доставляли не только истинное удовольствие читателям, но и благотворно действовали на психику, отвлекая заключенных от мрачных дум о своем безвыходном положении. Для меня лично еще более ценную роль сыграли имевшиеся в библиотеке учебники и техническая литература, включая новейшие справочники по всем отраслям техники. Оперившись на Соловках, я каждую свободную минуту учился и учился с легкой руки инженера Миткевича. А без этой библиотеки вряд ли я мог справиться с работой, которую мне приходилось выполнять, поднимаясь с должности на должность.
ПОБЕГ
Побег - освобождение из неволи, тюрьмы, лагеря, освобождение от власти тюремщиков, ежедневного произвола и насилия, - казалось, должен был доминировать в мыслях каждого заключенного. Побег из лагеря на волю должен был являться естественной реакцией у заключенного, его ответом на совершенное против него преступление - лишения его свободы, изоляцию его от семьи и дома, разрушение его личной жизни. Так должно было бы быть, так говорила логика.
Но на самом деле ничего подобного не было, в особенности если говорить о заключенных в лагерь по 58 статье. Девяносто девять процентов из них никогда и не думали о своем освобождении из лагеря через побег, все надеясь на «законное» их освобождение из лагеря или просто примирясь с мыслью о неизбежности выпавшей на их долю судьбы сидеть, а может быть и скончаться, в лагере. И только, может быть, один процент где-то в глубине души лелеял надежду побегом изменить свое жалкое существование, однако ничего практически не предпринимая для осуществления этой надежды. И только какие-то единицы из так называемых каэров кое-что практически делали для осуществления побега из лагеря и бежали более или менее успешно.
Отказ от побега, как от средства своего освобождения из лагеря, для заключенных по 58 статье был органически присущ этой части общества, всегда строго соблюдавшей законы государства, как бы чудовищны они ни были, беспрекословно подчинявшейся всем произволам диктатуры, и потому и чисто психологически не могшей идти на нарушение приказа, закона, чем, в сущности, являлся бы побег. Для этих мирных обывателей побег еще и потому был невозможен, что не давал возможности снова соединиться с семьей, вести привычную жизнь, вне которой они себя не мыслили. Совершенно очевидно, что после побега им бы пришлось быть на нелегальном положении на воле, к чему они также не были совершенно приспособлены. Помимо всего прочего они знали, что за их удачный побег будет в ответе горячо любимая их семья, на которую обрушатся репрессии, на которой будет сорвана злость за неумение поймать беглеца.
Совершенно другое отношение к побегу было у уголовников - преступников не только на деле, но и по своей психологии, привыкших всю жизнь попирать всякий закон, жить, скрываясь от властей, не имея ни дома, ни семьи. Преступление за преступлением приводили уголовников в тюрьму и концлагерь на все большие сроки заключения, которые они стремились сократить путем побега. Однако благодаря отсутствию «усидчивости» в работе, твердой воли, они часто терпели неудачу в своих побегах, делая их экспромтом, больше под влиянием эмоции, чем холодного расчета, без всякой подготовки. В то же время единицы из так называемых каэров, решившихся на побег, тщательно разрабатывали технику побега и достигали лучших результатов, чем уголовники. Была и еще одна разница, влиявшая на трудности подготовки к побегу. Уголовники бежали только вовнутрь страны. Каэры, решившиеся на побег, старались пройти две границы - лагеря и государства, потому что только за границей они могли себя чувствовать в безопасности и быть гарантированы от расстрела за побег, неминуемо грозивший всем лицам, сидящим в лагере по 58 статье, в то время как уголовникам лишь добавлялся срок за побег.
Из Соловецкого лагеря бежали в Финляндию, которая не выдавала советской власти лиц сидевших по 58 статье, как политических заключенных, а уголовников возвращали обратно. Уголовники обретали после побега некоторую безопасность лишь в своих шалманах (притонах) и то до очередной облавы уголовного розыска.
Сама по себе освещенная, с вышками, на которых круглосуточно дежурили «попки», колючая проволока, опоясывавшая места заключения, и оперативные группы ИСО с собаками не являлись эффективной преградой к побегу заключенных. Значительно эффективнее был подкуп населения Карелии, действовавшего против беглецов. За поимку бежавшего заключенного или указания оперативникам его местонахождения карелы получали мешок муки, который в голодные тридцатые годы был ценнее мешка золота. Обессилевшие беглецы становились жертвами этих помощников тюремщиков.
Совершенно другие условия для побега были на Соловках. Здесь сама природа, в виде шестидесятикилометровой морской преграды, исключала какую-либо возможность неподготовленного побега, делала это предприятие почти наверняка обреченным на неудачу.
За всю историю существования концлагеря на Соловецких островах удался лишь один побег, совершенный дерзко, но тщательно подготовленный.
Это было в 1927 году, когда бежало в Норвегию (даже в Норвегию) пять морских офицеров-заключенных. В 1926 году их привезли, в числе нескольких десятков морских офицеров Русского флота, которые после революции служили на Черноморском Красном флоте. Все обвинялись в шпионаже и, уцелевшие от расстрела, получили по десять лет заключения в СЛОНе. Действительная же их «вина» заключалась в том что их присутствие на командных должностях на флоте не оставляло вакантных должностей для вновь испеченных командиров флота, выпущенных первым выпуском Военно-морского училища им. Фрунзе (бывший Морской кадетский корпус) в 1926 году. Выпускникам-коммунистам доверяли больше, чем морским офицерам Русского флота, и судьба последних была решена. На Соловках оказались флагманский минер Зиберт, командиры эсминцев «Шаумян» и «Незаможник» Ковтунович и Щульц, командир одного из ельпидифоров Бабицкий, герой Цусимы, отмеченный Новиковым-Прибоем в книге «Цусима», и многие-многие другие. Этот процесс «чистки» красного флота от офицеров Русского флота закончился в 1931 году, когда состоялся первый выпуск Военно-морской инженерной академии, приславшей на флоты инженеров-механиков-коммунистов. Снова на Соловки пришел этап во флотских шинелях инженеров-механиков флота во главе с флагманским инженером-механиком Черноморского флота Василием Ивановичем Пестовым. Определив ему десять лет концлагеря, даже не приняли во внимание что ни кто, как он возглавил беспримерный в истории драматический Ледовый поход военных кораблей Балтийского флота в 1918 году из Хельсинки в Кронштадт, не отдав кораблей финнам и сохранив его для молодой Советской республики. С Пестовым я познакомился в 1932 году, когда он, уже в последнем градусе чахотки, был назначен заведующим электропредприятиями Соловецкого острова.
В 1926 году в концлагере еще не занимались производством, и привезенные морские офицеры некоторое время больше числились на общих работах, чем действительно что-то делали. Трудно сказать, когда именно у пяти из них созрел план побега, но эта инициативная пятерка, фамилии которых я не запомнил, обратилась к начальнику лагеря с предложением поручить им отремонтировать для прогулок по морю начальства старый катер, брошенный в ужасном состоянии англичанами при эвакуации с Севера в 1921 году. Начальник лагеря клюнул на эту удочку и дал распоряжение всемерно содействовать работе этой пятерке морских офицеров. Заработал монастырский судоремонтный завод, и в течение зимы катер был капитально отремонтирован. Начальство было на седьмом небе от предвкушения удовольствия морских прогулок. Открылась навигация и катер с командой из этой пятерки вышел в море на ходовые испытания. Покрутившись на виду у начальства, катер дал полный ход, сначала вдоль берега, все больше удаляясь от него, а затем скрылся за горизонтом. Тщетно начальник ждал возвращения катера с ходовых испытаний. Спустя больше суток только объявили тревогу. Можно только приписать чуду, что беглецы на утлом катере, совершенно не приспособленном для плавания в открытом океане, благополучно прошли горло Белого моря, обогнули Кольский полуостров и в конце второй недели плавания благополучно пришвартовались в одном из северных фиордов Норвегии. Удача сопутствовала смельчакам. За все время их плавания стоял абсолютный штиль, у пограничников тогда не было быстроходных катеров, а в лагере гидросамолета для розысков, перед выходом на ходовые испытания никто не догадался осмотреть балласт катера, который состоял из бочек с продовольствием и пресной водой, которые спасли беглецов от голодной смерти в океане. И... и среди пятерки не нашлось ни одного предателя. Заграницей отважные офицеры выпустили книгу под названием «Остров пыток и смерти», раскрыв в ней всему миру ужасы советского концлагеря.
К сожалению, мировая общественность не сделала выводов из этой книги, отнесясь к существованию концлагерей по пословице «моя хата с краю». Мировая общественность не подняла свой мощный голос против системы концлагерей и поплатилась за свою инертность и черствость немного более чем через десять лет, когда такие лагеря гитлеровцы создали по всей Европе. Немцам нечего было придумывать: готовый образец системы рабского принудительного труда и массового уничтожения неугодных лиц они скопировали у сталинской диктатуры, может быть только не достигнув такого размаха и жестокости, каким являлся взятый ими образец.
Если продолжать рассказ о побегах в хронологическом порядке, то здесь надо упомянуть о неудавшемся массовом побеге, как формулировал это жуткое дело приказ по УСЛОНу в октябре 1929 года. Об этом потрясающем событии, как о подготовлявшемся побеге, можно говорить только с большой оговоркой, так как по многим данным никакой подготовки к побегу не велось, а все дело о побеге было сфабриковано ИСО, как многие «дела» на воле, с целью расстрела нескольких десятков заключенных, в том числе и тех, которые, как мне доподлинно известно, никогда не могли решиться на побег, в силу ряда причин, довлевшим над каждым из них. Не давая окончательного вывода, действительно ли имелась подготовка побега или все это было вымыслом ИСО, я изложу известные мне факты, сначала те, которые говорят как будто в пользу первого положения.
В конце сентября в канун ночи, когда прокатилась волна арестов заключенных на Соловках, идя с работы в кремль, я встретил вечером этого дня в дождливую погоду у Сторожевой башни знакомого мне по Бутырской тюрьме петлюровского атамана Дерищука. Поворачиваясь в разные стороны, Дерищук на вытянутой параллельно туловищу руке поднимал большой палец и, прищурившись вдаль, явно занимался глазомерной съемкой расстояний между Сторожевой башней, пристанью и бывшей монастырской гостиницей, занимаемой дивизионом войск ОГПУ. Во время недолгого разговора с ним, когда он проводил меня до Восточных ворот, я уловил, что он шагами отмеривал расстояние от Сторожевой башни до Восточных ворот. В ту же ночь Дерищук был арестован и затем расстрелян вместе с другими.

Вероятно, вследствие серой ненастной погоды никто из стукачей не видел нашей совместной с ним прогулки. Иначе мне было не миновать допросов в ИСО, а, может быть, и расстрела. Я не подвергся ни аресту, ни вызову на допрос. В приказе было сказано, что заговорщики хотели истребить дивизион войск ОГПУ, захватить оружие и вооруженными сесть на пароход для побега заграницу.
Второй факт в пользу версии о действительно подготовлявшемся побеге зиждется частично на слухе о роли в раскрытии заговора женой делопроизводителя электропредприятий казачьего офицера Данилова, частично на моих личных наблюдениях над Даниловым в этот период. Как я уже рассказывал, Данилов был волевым человеком. Служа адъютантом генерала Богаевского, атамана Всевеликого войска Донского, Данилов [Леонид Антонович] эмигрировал с казачьими частями заграницу, откуда вернулся вместе с семьей на Родину и занялся адвокатской деятельностью. Как кадровый и «белый» офицер он был посажен ОГПУ в концлагерь в 1926 году на десять лет вместе с женой, которая получила пять лет заключения в концлагере. Ничем не связанный с волей, где никто не подвергся бы репрессиям за его побег из лагеря, возможность освободиться из лагеря вместе с женой, спасти ее от ужасов концлагеря, где интеллигентной женщине было во сто раз хуже, чем мужчине, объективно говорило, что Данилов мог участвовать в организации побега. Он не был арестован в лагере в связи с разбираемым событием и по лагерю ходили упорные слухи о том, что Данилов предал своих сообщников, когда его жена раскрыла план побега, сообщив его подробности одному уполномоченному ИСО. Наиболее расположенные к Данилову заключенные излагали факт предательства невольным, роковой его откровенность с собственной женой, которая изменяла ему с этим уполномоченным ИСО. Я могу засвидетельствовать, что неоднократно видел, как Данилова прогуливалась под ручку с этим уполномоченным. Я ее хорошо знал, так как украдкой, она иногда забегала к мужу на электростанцию, рискуя попасть в штрафизолятор за нарушение строжайшего приказа, запрещавшего какое-либо общение в лагере мужчин с женщинами, даже мужа с женой. Возможно, что женская слабость, боязнь за жизнь мужа в случае провала побега толкнули ее на предательство. Достоверно ничего не известно.
С ночи арестов Данилов внутренне переживал драму. Несмотря на колоссальную способность владеть собой и всегда носить непроницаемую маску на лице, даже для неискушенного наблюдателя было видно, что Данилов утратил покой. Кульминационным пунктом его волнения был день, предшествовавший вечеру расстрела его единомышленников, если можно так назвать жертв этой кровавой расправы. Как убийцу вопреки холодному рассудку, всегда необоримо влечет к месту совершенного им убийства, так Данилов, отбросив всякую осторожность, в течение дня несколько раз бегал на кладбище, где солдаты дивизиона ОГПУ рыли обширную яму на месте предстоящего вечером расстрела. Привычной маски на лице Данилов сохранить совершенно не мог. На него нельзя было смотреть без содрогания, столько муки было на его лице.
Если раньше Данилов и не был стукачом, то с этого предательства он им стал. Узнавая его все ближе, я вывел твердое убеждение о нестерпимом бремени, несомым им на своей душе при выполнении им обязанностей стукача.
Через пару лет, поднимаясь по невидимой для непосвященных лестнице секретного сотрудника, Данилов оказался, еще будучи заключенным, на высокий должности в УРО, на которую никак не мог попасть рядовой каэр, да еще «белый» офицер-казак, если бы он не имел «заслуг» перед секретными органами. Данилов был освобожден из лагеря досрочно и назначен заместителем начальника УРО Белбалтлага с ношением формы ОГПУ - малиновых петлиц. Но звание ему все же никакого не присвоили. До него эту должность занимал кадровый чекист с одним ромбом в петлицах.
Однако сделка с совестью, может быть, происшедшая и помимо его желания, и даже не вследствие малодушия, несмотря на головокружительную карьеру в лагерях, окончилась для Данилова печально. В 1936 году, за невыполнение наряда ГУЛАГа о переброске нужного количества заключенных из Белбалтлага в другие лагеря, ведущие особо важные стройки, Данилов был снят с работы и получил новый срок заключения. Данилов этот наряд не выполнил не из человеколюбия, не от отсутствия административных способностей, а вследствие препятствий, чинимых ему начальником Белбалткомбината чекистом Раппопортом, не желавшим отдавать заключенных и ставить под угрозу срыва данный ему по комбинату производственный план. Данилов у чекистов не был «своим», его помнили как «белого» казака-офицера и его сделали козлом отпущения.
Возвращаясь к выяснению подлинности обвинений в подготовке побега в сентябре 1929 года с Соловков, нельзя обойти молчанием разговор, который я имел с одним офицером Русской армии почти через пять лет после этого массового расстрела. Офицер был заключенным, работал кассиром финчасти Кемского отделения и жили мы с ним в одной комнате в г. Кеми в 1934 году. Как-то, предавшись воспоминаниям о лагере на Соловках и дойдя до октябрьского расстрела 1929 года, он мне сказал: «И я мог бы быть тогда расстрелян, потому что и мне предлагали участвовать в побеге, но мне предлагал такой субъект, который явно был стукачом, а потому я тотчас же сообщил в ИСО». Фамилию предлагавшего ему участвовать в побеге он не назвал. Этот разговор окончательно запутал для меня истину. То ли ИСО, уже знавший от Даниловой о готовящемся побеге, прощупывал других каэров с целью увеличения жертв, то ли ИСО сам создал это дело, подсылая провокаторов к каэрам?
За версию о чистейшей фабрикации ИСО этого дела говорит тот факт, что совместно с обвиняемыми по этому «делу» были расстреляны и ряд заключенных, не привлекавшихся по этому «делу», как лицеист Сиверс, инженер-путеец семидесятилетний Бонифатьев и еще несколько заключенных, которых на расстрел взяли прямо из рот и отвели к яме на кладбище. Но еще более убедительным фактом, фабрикации этого «дела», очевидно, показавшегося Коллегии ОГЛУ настолько вымышленным, что произошло неслыханное событие - Коллегия ОГПУ отказалась проштамповать, т.е. утвердить предложенный приговор - расстрел. Начальник СЛОНа попал в очень тяжелое положение, так как палачи настолько жаждали крови, что произвели расстрел, не дождавшись формального приговора Коллегии ОГПУ. Расстрелянных в отчете о «выбывших» из лагеря пришлось показать как «умерших» от … тифа.
Следствие по «делу о побеге» вел старший следователь ИСО УСЛОНа заключенный чекист Иваницкий, имевший десять лет срока за уголовное преступление. За кровь сорока невинных мучеников Иваницкий быстро получил освобождение из лагеря и остался работать «вольнонаемным» в УСЛОНе, занимая последовательно административные должности от начальника лагпункта до начальника отделения лагеря.
Судьба столкнула меня с Иваницким в 1933 году, когда я попал, все еще будучи заключенным, на лагерный пункт около г. Кеми «Вегеракша», где он был начальником лагпункта и распоряжался судьбами трех тысяч заключенных рабов. Тогда я увидел впервые в лицо этого страшного чекиста и имел с ним неприятный разговор в его кабинете по поводу разрешения носить гражданскую одежду, которое зависело от него. Разрешения я от него добился и хорошо запомнил его лицо. Второй раз я с ним встретился уже на воле в одном городе * близ Ленинграда, где я обосновался после освобождения из лагеря. Успев приобрести в этом городе знакомых, летом 1937 года я попал на веселую вечеринку, где все было очень мило. В разгар веселья из глубины квартиры в столовую вошел Иваницкий в форме НКВД со знаками различия капитана НКВД. Он оказался отцом молодой дамы, в квартире которой была устроена вечеринка вскладчину и к которой он приехал в отпуск. Последовало представление ему всех присутствующих, мне пришлось пожать его кровавую руку. Вечер оказался для меня не только испорченным, но я сидел, как на иголках, претерпевая муки сидеть за одним столом с таким мерзавцем, боясь быть узнанным им, так как это был страшный 1937 год, ругая в душе себя за то, что как сразу я не узнал в хозяйке квартиры его дочь, которую я несколько раз видел и с которой разговаривал в г. Кеми, посещая, по вопросу ремонта электропроводки, их особняк, стоявший вне лагерной проволоки. В общем разговоре за столом Иваницкий и его молодая жена, красивая уголовница, бывшая заключенная из лагеря «Вегеракша», часто вставляли словечки из лагерного жаргона. Я каждый раз просил объяснить значение этих слов, прикидываясь, что они мне неизвестны. Ни Иваницкий, ни его дочь меня не узнали, им и в голову не могло прийти, что каэр мог живым выйти из лагеря, а сидевший за столом средних лет «товарищ» совсем не походил на классового врага из учебника политграмоты.
Разгул страстей начавшейся коллективизации в деревне, реванш трусливых душонок за страх, испытанный ими при вооруженном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге в Манчжурии, отразился в лагерях жестокими репрессиями, вылившимися не только в октябрьском расстреле. Из командировок, расположенных на материке, на Соловки были доставлены все офицеры Русской армии, независимо от сроков, на которые они были заключены в лагерь. С ними на Соловки попали почти все наши черниговские однодельцы-пятилетники и трехлетники. На всех сидевших по нашему делу молодых людей одновременно, в один и тот же вечер, внезапно, обрушились обыски, которые, однако, ничего не дали и черниговцев оставили в покое. Когда в этот вечер мы с Гуля-Яновским пришли с работы в свою камеру во 2-й роте, к нам явился заключенный уполномоченный ИСЧ и произвел обыск у Миши. Я с тревогой ожидал окончания обыска, страшась даже думать, что он заберет Мишу, которого причислят к делу о побеге, и тогда судьба его будет решена. Но перерыв все, уполномоченный ничего не забрал, протокола не составил, и Миша уцелел. У меня обыска он не произвел. Это еще раз мне показало на плохую осведомленность секретных органов. Я держался в стороне от своих однодельцев, поэтому почти никто не знал, что я сижу по их делу, а заглянуть в дела, по-видимому, уполномоченному ИСЧ было некогда, и гроза прошла мимо меня.
В числе расстрелянных по «делу о побеге» в октябре 1929 года на Соловках был ряд выдающихся личностей. Волевой морской офицер, фамилию которого я не запомнил, не имел обеих ног, которые были ампутированы почти до пахов вследствие тяжелого ранения в одном из первых морских боев первой мировой войны. Не желая покидать строй, он на двух протезах переквалифицировался в военно-морского летчика и до конца войны разил немцев с воздуха. Знаменитый советский летчик Маресьев только повторил подвиг расстрелянного на Соловках офицера и то не полностью, поскольку Маресьеву не надо было переквалифицироваться и заново овладевать на протезах летным искусством. На расстрел его принесли солдаты на руках, облегчив герою-мученику его последний путь. Кроме упомянутого выше петлюровского атамана Дерещука из моих знакомых по тюрьме и лагерю был расстрелян еще летчик Грабовский, который, будучи гимназистом в городе Нежине Черниговской губернии, участвовал в вооруженном свержении советской власти весной 1918 года. Грабовский при аресте его на лагерной спортстанции, которой он заведовал, оказал большое физическое сопротивление. Связать его удалось только отделению солдат.

В вечер, предшествующий расстрелу, по всему лагерю было прекращено хождение заключенных, повсюду были разосланы патрули солдат дивизиона войск ОГПУ с полной боевой выкладкой, роты заперты снаружи на замок, и к дверям приставлена вооруженная охрана. На башни кремля были поставлены пулеметы. На электростанции приказано было завесить все окна шторами. В этот страшный вечер я случайно оказался на электростанции. Из окон электромеханической мастерской, где был потушен свет, чуть-чуть приподняв занавесы на окнах, выходивших в сторону кладбища, мы видели только кое-какие подробности разыгравшейся трагедии. Была очень темная осенняя ночь, и нам не было видно, как подводили обреченных к яме. Мы видели только, как на кладбище по четыре раза с одним и тем же интервалом поднимался огонек карманного фонарика на уровне человеческого роста и после до нас доносилось по два сухих пистолетных выстрела. Фонариком освещался у связанной жертвы затылок, куда в упор палач стрелял два раза. Затем наступала передышка, пока не приводили новую группу из четырех мучеников и снова вспышки фонарика, сухие выстрелы, и тела с двумя пулями в затылке падали в яму.
Палачами были командир дивизиона войск ОГПУ, дислоцированного на Соловецких островах, Дегтярев и помощник начальника СЛОНа Успенский **. Последний явно был болен садизмом. Ходили упорные слухи, что именно он настоял на немедленном расстреле, не дожидаясь утверждения приговора Коллегией ОГПУ в Москве. Он не мог отложить удовольствия, которое он получал при убийстве беззащитных людей. Успенский никому не уступал должности палача, и все расстрелы на Соловках производил сам. Он даже расстрелял своего родного отца-священника, который был заключенным на Соловках. Жажда убийств чуть не сгубила его карьеру в лагерях.
С 1931 года Соловецкое отделение СЛАГа все больше превращалось в большой следственный и штрафной лагерный изолятор, лагерь в лагере, в который свозились штрафники и находившиеся под следствием по новым делам уже сидевшие со сроком в лагерях заключенные из открывшихся к тому времени многих других лагерей. На Соловки же поступали утвержденные Коллегией ОГПУ приговоры по новым делам заключенных. В большинстве эти приговоры были смертными и расстрелы заключенных все учащались. Успенский был назначен начальником Соловецкого отделения и самолично приводил приговоры в исполнение на Секирной горе. Он так всегда спешил убить человека, что, однажды, в спешке, расстрелял не приговоренного, а его однофамильца, впрочем, исправив свою ошибку в течение ближайших часов, расстрелом и приговоренного, от чего получил даже двойное удовольствие. Но в той атмосфере подсиживания друг друга, которая характерна для чекистской среды, факт расстрела не приговоренного к смерти заключенного всплыл наружу и по приговору Коллегии ОГПУ Успенский был снят с поста начальника Соловецкого отделения и получил пятилетний срок заключения. Как заключенный чекист Успенский был назначен начальником одного из отделений Белбалтлага, где благодаря своей жестокости, на костях заключенных, досрочно выполнил работы по прокладке Беломорканала в пределах своего отделения. За такую доблесть Успенский был досрочно освобожден из лагеря, награжден орденом Ленина и назначен начальником Белбалтлага и заместителем начальника Беломорско-Балтийского комбината ОГПУ с восстановлением стажа работы в органах ВЧК-ОГПУ. В 1946 году, Успенский, будучи начальником одного из восточносибирских концлагерей, уже имел звание генерал-лейтенанта МГБ.
Продолжая рассказ о групповых побегах с Соловецких островов в хронологическом порядке, надо остановиться на побеге с острова Анзер в июне 1933 года. Анзерский остров представлял собой лагерь в лагере, отличаясь еще более строгим режимом, еще более худшими жилищными условиями и штрафным пайком. Хотя Анзер и не считался официально штрафным лагпунктом, но туда отправлялись с Большого Соловецкого острова все неугодные начальству заключенные на ускоренное умирание. Зачастую на Анзере просто пристреливали заключенного, объявив о его убийстве «при попытке к бегству». Так, в частности, на Анзере был застрелен видный белорусский троцкист Мотель. Ко времени побега на Анзере находился секретарь Эстонского комсомола, имевший десятилетний срок заключения, по-видимому, за удачный побег из тюрьмы буржуазной Эстонии на родину социализма. Этот эстонец совместно с тремя большевиками-троцкистами и тремя бандитами организовал побег. Они задушили начальника лагпункта и с помощью отобранного у последнего нагана разоружили двенадцать солдат дивизиона войск ОГПУ, составлявших гарнизон острова Анзер. Солдат связали и, захватив их винтовки, боеприпасы и продовольствие, на рыбачьей парусной лодке бежали на Летней берег, на восток от Соловецких островов.
Маршрут для побега они избрали необычный, трудный по природным условиям - через нехоженые, дремучие леса Архангельской области, в то время как остальные побеги, правда, неудачные, совершались всегда на Карельский берег, поближе к границе с Финляндией. Такой необычный маршрут, вероятно, очень способствовал бы успеху побега, если бы беглецы не допустили роковой ошибки при своем отплытии: они не уничтожили радиостанцию на Анзере, и молодой радист-заключенный из уголовников тотчас же по радио сообщил на Большой Соловецкий остров не только о факте побега, но и о направлении побега. С Большого Соловецкого острова сообщили в г. Кемь в УСЛАГ. Правда, пока сработала бюрократическая машина управления, розыск беглецов начался только на следующий день, когда в воздух поднялся лагерный гидросамолет с заместителем начальника ИСО (или 3-го отдела, как он уже назывался тогда).
Беглецы успели достичь Летнего берега и углубиться далеко в лес, когда с воздуха была обнаружена в месте их высадки парусная лодка. Беглецы допустили вторую, роковую для себя, ошибку, не уничтожив лодки, по местонахождению которой был определен район их местопребывания. По-видимому, дальнейшей их целью было в кратчайший срок, продвигаясь на юг, пересечь пояс относительной населенности вдоль тракта Беломорск (тогда - Сорока) - Архангельск, как бы замыкавшим их в треугольнике Летней берег - западный берег Двинской губы - тракт. На пятачке этого треугольника, несмотря на дремучие леса, беглецов легче было обнаружить, чем если бы они успели перейти этот тракт и углубиться в материковые лесные массивы, простирающиеся на десятки тысяч квадратных километров почти до самой Волги.
Как только была обнаружена лодка беглецов, по тракту Беломорск-Архангельск с двух сторон были брошены две дивизии пограничников, занявших тракт сплошной стеной от Онежской губы до Двинской. Беглецам путь из треугольника был отрезан. Прочесывание лесов на треугольнике заняло около месяца, пока беглецы не были обнаружены. Завязались бои между группой из семи заключенных и несметными полчищами пограничников. Последние, действуя на большом фронте прочесывания, при каждом соприкосновении с беглецами были не настолько многочисленными, чтобы сразу захватить беглецов, а те, открывая огонь из засад, наносили большой урон пограничникам. Эти стычки длились больше двух недель, пока все беглецы не были мертвыми. Живыми никто не сдался. Тяжело-раненные, не могшие уйти от погони, подпускали пограничников к себе и подрывались на гранатах вместе с окружившими их пограничниками, уничтожая и себя и преследователей. Так неудачно кончился этот побег.
На Большом Соловецком острове известие о побеге с Анзера на начальство произвело впечатление разорвавшейся бомбы. К вечеру того дня, когда произошел побег с Анзера и когда начальству стало о нем известно, на кремлевских башнях появились пулеметы, а патрули стрелков ВОХРа и солдат дивизиона войск ОГПУ с полной боевой выкладкой с перекошенными от страха лицами стали снимать заключенных с работ и загонять в роты, охранявшиеся усиленными народами солдат. Все хождение по лагерю было прекращено. На электростанции появилось целое отделение солдат, занявшее все выходы. Четыре солдата заняли машинное отделение и котельную. Я оказался блокированным с дежурными электромонтерами и контролером электросети в электромонтажной мастерской. Все мои попытки связаться с заведующим электропредприятиями по телефону оказались безуспешными, так как телефонная станция не отвечала. В 4 часа дня, когда должна была произойти смена на электростанции, вечернюю смену не выпустили из роты, и дежурившей смене пришлось работать еще одну смену, пока заведующему электропредприятиями только к полуночи удалось добиться от начальника отделения распоряжения, чтоб смену привели из роты на электростанцию под конвоем. Отработавших почти две смены отвели также под конвоем на отдых в электрометаллроту.
Как выяснилось потом, многие заключенные, не зная истинной причины введения чрезвычайного положения, приготовились к новому массовому расстрелу заключенных. Оптимисты считали, что весь переполох произошел из-за показавшегося на горизонте корабля, принятого за иностранца. Только на другой день начальство оправилось от испуга, патрули были сняты и восстановился обычный лагерный режим. Однако истинная причина тревоги, несмотря на строжайшую секретность, все же очень скоро просочилась в массы заключенных и все узнали о дерзком побеге с Анзера.
В частности, я узнал все подробности побега от моего соловецкого друга заключенного Васи Углова уже через несколько дней после побега при его очередном посещении электромонтажной мастерской. Он был коммунист, военно-морской летчик. Он летал бортмехаником на летающей лодке-разведчике дальнего моря Краснознаменного Балтийского флота. Вследствие того, что отец его, кадровый железнодорожный рабочий, проживал в Эстонии, куда он эмигрировал из Петрограда в 1920 году, Углов был обвинен в шпионаже, расстрел ему заменили десятью годами заключения на Соловках. Два года он проработал электромонтером в электромонтажной мастерской, затем был переведен по специальности техником по обслуживанию лагерного гидроплана на Соловецком гидродроме. На этом наша дружба не закончилась, и все свободное время Углов проводил у нас в электромонтажной мастерской.
Впопыхах, не посмотрев в его личное дело, начальство взяло этого «шпиона» в воздух на борту гидросамолета, на котором велись поиски беглецов. И Вася летал и оказался в курсе всего дела.
Был еще один случай побега с Соловков. Один англичанин и один француз в бурную осеннюю ночь, привязав себя к бревнам, связанным между собой, пересекли водную преграду, но обессиленные, были захвачены патрулем на Карельском берегу.
На материке технически побег облегчался отсутствием водной преграды, но и там мало кому удавалось бежать. Тех, кого ловили или подозревали склонными к побегу, с добавлением срока заключения, отправляли на Соловки. Это были все уголовники, за редким исключением бытовики. Сидевших по 58-й статье за побег расстреливали.
В Соловецком театре художником работал один молодой заключенный, студент Академии Художеств. Он дважды пытался бежать. Первый раз, еще будучи на воле в Ленинграде, он попался на удочку провокатору, который ночью, покатав его на яхте по Финскому заливу, высадил его прямо в объятия «финских» жандармов. Допрошенный ими, студент даже переборщил, ругая советскую власть, и попросил политического убежища в Финляндии. После допроса «финские» жандармы посадили его в закрытую машину и отвезли в тюрьму, которая оказалась ленинградским ДПЗ. Не стоит добавлять, что провокатор сдал студента на советскую погранзаставу, а «финские» жандармы были переодетыми советскими пограничниками. За попытку перейти границу художник получил пять лет срока заключения и попал на строительство Беломорканала в Белбалтлаг. Из этого лагеря он бежал в пургу на лыжах в сторону границы с Финляндией, но на третьи сутки обессиленный, во сне, был захвачен пограничным патрулем. Художнику добавили еще пять лет и отправили на Соловки.
Удачнее, по крайней мере, на первых порах, так как дальнейшая судьба его мне не известна, бежал художник Медвежьегорского лагерного театра Михедко. Он имел 58-ю статью, да еще по 8-у пункту (террористический акт или его подготовка), и у него не выдерживали нервы в ожидании расстрела, который грозил нам, сидящим по этому пункту 58-й статьи, в грозные дни после убийства Кирова. Михедко, на виду у всех, прекрасно одетый, с двумя большими чемоданами, сел в мягкий вагон Северной стрелы на станции Медвежья гора и укатил на юг.
Более хитро и наверняка удачно бежал крупный уголовник занимавший должность начальника УРЧ одного из отделений Белбалтлага. Он выкрал бланк командировочного удостоверения для заключенных, заполнил его на себя, проставив пункт назначения Ленинград, а в графе с конвоем или без конвоя, зачеркнул первое. К нему по дороге не мог придраться ни один оперативник, проверявший документы пассажиров в поезде.
Таковы были отдельные случаи удачных и неудачных побегов, предпринимавшихся единицами. Подавляющая же масса заключенных смиренно ожидала своего конца или освобождения из лагеря «законным» путем. О побеге, если и говорили, в особенности каэры, то только в шутливом тоне. Даже название нашего полновластного хозяина, Объединенное Государственное Политическое Управление, ОГПУ на тему о побеге шутливо расшифровывали (слева направо) «О Господи помоги убежать» и (справа налево) «Убежишь, поймают, голову оторвут». Так оно и было на самом деле.
СВИДАНИЕ (1)
Свидание - слово будящее в нас неповторимые воспоминания молодости, когда все казалось таким прекрасным, когда весь мир для каждого сосредотачивался в одном лице, любимом нами. О свидании мы думали засыпая, только что расставшись с любимым лицом, о свидании мы думали весь день, считая часы до назначенного времени. А часы свидания проходили так быстро, как будто это были не часы, а секунды и все не хотелось расставаться до следующего свидания, мечта у всех была слить все свидания воедино, чтобы никогда, никогда не расставаться, не расставаться всю жизнь.
Свидание в концлагере означало совершенно другое. В понятие свидания был вложен совершенно другой смысл, уродливый, могущий возникнуть только из уродования жизни людей, превращенных, в заключенных рабов. И сами категории дававшихся свиданий заключенных с родственниками: «личное» или «на общих основаниях», еще более характеризовали искажение чудесного понятия свидание, издевательства и над заключенными и над их родственниками, в особенности при получении свидания «на общих основаниях». Каким сухим бюрократическим языком сумели чекисты опошлить волшебное слово свидание, классифицировав его по графам «личное», «на общих основаниях»! Но факт оставался фактом, и даже в таком тюремном искажении свидание было мечтой как заключенного, так и его родственника. Но не для всех эта мечта сбывалась.
Разрешение на свидание с заключенным давал спецотдел ОГПУ в Москве родственникам, как правило, только жене, матери и в очень редких случаях другим членам семьи заключенного. Спецотдел также определял «вид» свидания: «личное» или «на общих основаниях». Продолжительность «личного свидания» определялась от 4 до 7 дней, «на общих основаниях» в три дня по часу в день, то есть на три часа. Спецотдел мог и отказать. Тем заключенным, которым разрешалось свидание с родными, свидание давалось одно в году. Однако разрешение Спецотдела еще не было окончательным. Начальник лагеря и даже отделения лагеря мог и не разрешить свидание прибывшему родственнику и тогда, проделав длинный путь, затратив средства на дорогу, родственницы возвращались домой ни с чем. Такой случай был, например, с заключенным заведующим Кирпичным заводом, офицером-сапером Русской армии Демченко, который за невыполнение плана по выпуску кирпича (лето было дождливое) получил 30 суток штрафизолятора, и приехавшая к нему на личное свидание жена не была допущена на Соловки, и ей пришлось из Кеми уезжать обратно.
Для приезжавших на свидание на Соловках был отдельный Дом свидания, куда приехавших вольных людей под конвоем комвзводов доставляли с парохода в распоряжение заведующей Домом свидания. Последняя проверяла разрешения на свидание и, если свидание было разрешено «личное», то соответствующий заключенный вызывался в Дом свидания и мог забрать к себе приехавшую родственницу на весь срок разрешенного свидания. Большей частью личное свидание получали родственники заключенных, стоящих на той или иной ступени лагерной иерархии и живших не в ротах, а при предприятиях, занимавших если и не отдельные каморки, то вдвоем с каким-нибудь другим заключенным, может быть и стоящим на более низкой ступени лагерной лестницы. Такими заключенными были заведующие предприятиями, кладовщики, командиры рот, их помощники и тому подобные. У них вопрос решался просто с помещением, приехавшая родственница поселялась с заключенным в его каморке. Зарегистрированное в канцелярии сводной роты такое личное свидание ограждало эту каморку от ночных вторжений патрулей на все время свидания. Хуже обстояло дело у тех заключенных, которые жили в камерах рот. Им не отводилось никаких помещений на время свидания, и последнее легко могло превратиться в фикцию, если бы не братская солидарность заключенных, тем более удивительная, что в повседневной лагерной жизни этой самой братской солидарности почти совсем не наблюдалось. Не было случая, чтобы из-за отсутствия помещения сорвалось бы у заключенного личное свидание со своей родственницей. Заведующие уступали свои каморки подчиненным, жившим в ротах, уходя сами жить на время свидания подчиненного в производственные помещения к кому-нибудь из своих друзей. Одним словом, в этом отношении всегда проявлялось много тепла даже со стороны зазнавшегося начальства из заключенных.
В жизни заключенного личное свидание имело колоссальное значение. Он чувствовал свою общность с семьей, от которой его оторвали, с ним, хотя бы на несколько дней, был человек, с которым можно было обо всем откровенно переговорить. Правда, заключенного от работы не освобождали, но все же у него оставался вечер, ночь для времяпрепровождения с близким ему человеком.
Свидание на общих основаниях, по существу, было сплошным издевательством как над заключенным, так и над их родственниками, которые проделывали тысячекилометровые пути, тратя на них последние гроши, чтоб только взглянуть на дорогого человека в течение трех дней по одному часу в день в присутствии надзирательниц из дома свиданий. Имевшие разрешение на свидание на общих основаниях не могли за эти трое суток покинуть Дом свиданий и сами превращались в заключенных. Их выводили на прогулку ежедневно по одному часу под конвоем заведующей Домом свидания и надзирательниц в лес с таким расчетом, чтобы они не могли встретить заключенных или видеть их издали.
После отправки меня этапом на Соловки в конце июля 1929 года, моя мать стала оббивать пороги ОГПУ в Москве, приезжая каждый раз для этого специально из Ленинграда, прося разрешения на свидание со мной. После ряда отказов, она все же добилась разрешения на свидание со мной и в начале октября 1929 года приехала на Соловки. Для меня это было полной неожиданностью и, конечно, большой радостью. Однако обстановка Дома свиданий, куда я был вызван, причинила много страданий и мне и матери. Ей дали разрешение на свидание только на общих основаниях. Нас усадили за длинный стол, за которым парами сели также и другие заключенные с приехавшими к ним женами. Здесь был почти весь Ленинградский Судотрест, технический директор Виллерат, коммерческий директор Моргулис, ведущие конструкторы инженеры Лодыженский, Обухов, Скорчеллетти [В.К.], Костенко *. Их всех я знал по 13-ой пересыльной роте, где они были в одной камере со мной, спали почти рядом со мной, на тройных нарах. Все они были обвинены во вредительстве и получили по десять лет срока заключения на Соловках. Большинство из них были выдающимися личностями. Скорчеллетти был известен созданием лидера эскадренных миноносцев «Новик», спущенного на воду в 1916 году. На ходовых испытаниях «Новик» показал максимальную скорость 36 узлов, рекордную по тем временам и оказался быстроходнее на один узел своего английского собрата «Джонатана Свифта». Макет этого непревзойденного лидера до сих пор экспонируется в Военно-морском музее Ленинграда.
Костенко, очень тепло выведенный писателем Новиковым-Прибоем в книге «Цусима» под фамилией Васильева, о чем писатель делает оговорку в начале своей эпопеи, был инженером-механиком Русского флота и в чине штабс-капитана принимал участие в Цусимском бою. Но кроме этого Костенко еще был членом партии социалистов-революционеров, ближайшим сподвижником по боевой террористической организации эсеров знаменитого Савинкова. По заданию последнего, Костенко в 1910 году подготовил неудавшееся покушение на императора Николая II. Принимая в Англии, построенный для Русского флота на английских верфях крейсер «Рюрик», Костенко заложил в машинном отделении крейсера адскую машину, которая должна была взорвать крейсер, когда на него ступит Николай II. По приходе крейсера в Кронштадт, как рассказывал мне Костенко, адская машина была обнаружена, Костенко судил военно-полевой суд и приговорил его к повешению, которое по «Высочайшей милости» было заменено ему Николаем II пожизненным заключением в Шлиссельбургскую тюрьму. Февральская революция открыла двери его одиночной камеры, и Костенко двенадцать лет пробыл на свободе, когда 1929 году, большевицкая диктатура в лице ОГПУ, по «делу» о вредительстве (ст.58, п.7) заключила его в концлагерь сроком на десять лет. На Соловках Костенко пробыл недолго. С открытием навигации в июне 1930 г. его вывезли на материк, а затем ОГПУ продало его, как талантливого инженера-механика на Харьковский тракторный завод.
Торговлю своими рабами-заключенными ОГПУ вело довольно бойко. Высококвалифицированные специалисты требовались для строящейся индустрии, и Костенко был не единственным объектом купли-продажи. Инженер Миткевич, заключенный заведующий электропредприятиями Соловецкого лагеря в том же году был продан в Ташкент, заведующим трамвайной электростанцией. Сталинградский тракторный завод был построен под руководством проданного несколько позже заключенного профессора Сателя.
Для Костенко его продажа была как «выигрыш в сто тысяч рублей». Он вырвался из лагерной проволоки, он жил в Харькове в городе на частной квартире и притом со своей семьей. Безусловно, материально было трудно, так как на руки проданный получал лишь I0% должностного оклада (90% шло в кассу ОГПУ) и лагерный паек заключенного. И все же любой заключенный поменялся бы с ним местами. Я страстно мечтал весь срок заключения о продаже меня. Но я не был ни академиком, ни профессором, ни даже инженером. Какому же предприятию я мог понадобиться?
О дальнейшей судьбе Костенко я долго ничего не знал. Однако в начале шестидесятых годов я увидел написанную им книгу «Цусима», которая экспонирована в Военно-морском музее в Ленинграде. На обложке после фамилии автора стоит: «генерал-майор, лауреат Сталинской премии». Судьба играет человеком!
Как гостеприимная хозяйка, во главе стола села заведующая Домом свидания заключенная чекистка Богданова, а на противоположном конце стола маячила фигура ее помощницы - надзирательницы. Обе вслушивались в разговор пар, силясь не проронить ни слова. Это было тем легче сделать, так как разговор ни у кого не клеился в их присутствии. «Говорите о своих домашних делах», «Не касайтесь лагерных порядков», такими замечаниями сыпали наши надзирательницы. За чаем, который был подан нам и который каждому в чашку и заключенным и их родственникам, наливала самолично Богданова, несколько оживился Маргулис, пытаясь завязать общий разговор, пересыпая все шутками. Однако веселья никакого не получилось, а Моргулис, когда он вдруг выпалил что-то про «одиннадцатую» (Богдановой показалось, очевидно, что он имеет в виду одиннадцатую штрафную роту) был резко прерван Богдановой с угрозой прекратить свидание и лишить свидания.
Мне почему-то вспомнился обычай, существовавший в Дневном Египте, где в разгар веселья в зал вносили и ставили на стол статую богини Смерти, чтоб развеселившиеся смертные не забывали о положенном им конце. Богданова для нас вполне олицетворяла эту статую богини Смерти, только она была еще и говорящей и не только своим видом, но и властью данной ей над нами, напоминала чтобы мы не забывали о нашем бесправном положении заключенных.
Я смотрел на свою мать и сердце сжималось, видя как она изменилась за восемь месяцев моего заключения. Не только сознание случившегося со мной несчастья, но и разительные перемены, происшедшие в выражении моих глаз, бледность и выражение моего лица и моя худоба, я видел, очень подействовали на нее. Я знал, что за эти 8 месяцев прошедших со дня моего ареста, я постарел, может быть, на десяток лет, да и было отчего, выпавших на мою долю испытаний хватило бы и на одну целую жизнь. Моя мать пыталась улыбаться, даже смеяться, она не подавала виду, что переживает она за меня, но по тому, как наливались вены на связках горла, когда она, усилием воли подавляла хотевшие вырваться наружу рыдания, мне становилась ясна вся глубина ее страданий и хотелось самому разрыдаться и накипала злоба против моих рабовладельцев, ни за что заставлявших страдать мою мать еще больше чем меня.
Час свидания прошел и томительно долго и быстро. Богданова поднялась со своего места, как на пружинах вскочила со своего места надзирательница на другом конце стола. «Свидание закончено, заключенные, приходите завтра в это же время», - сказала Богданова. Начались прощания. Богданова торопила: «Кончайте, кончайте, завтра увидитесь». Мы все заключенные пошли гурьбой из Дома свиданий, но никто не промолвил ни слова. Все были поглощены своими мыслями, каждый переживал по-своему и радость свидания с родным человеком и горечь от обстановки свидания.
Так три дня подряд ходили мы в Дом свиданий, сидели рядом с родным нам человеком, молчали, говорили не то, что нужно, что хотелось сказать, словом, играли роли в этом скверном спектакле и мы и наши родные, каждый боясь, что плохо сыгранная роль уменьшит для нас и те три коротких часа, которые были отпущены нам.
Несколько больше, чем всем нам, повезло инженеру Обухову. Его жена, артистка Ленинградского оперного бывшего Мариинского театра Виноградова дала бесплатно в Соловецком театре концерт, который так понравился начальнику СЛОНа, что он своей властью продлил ей свидание с мужем на «общих основаниях» до недели при условии, что Виноградова даст еще концерты. И для того чтоб еще четыре часа повидаться с мужем, Виноградова пела и пела на сцене соловецкого театра под овации вольных чекистов и заключенных, вселяя в сердца бесконечную благодарность за доставленное ей нам удовольствие. Ничто как музыка, способна возбудить воспоминания, которые у всех заключенных были связаны с тем невозвратимым прошлым, когда они были свободными счастливыми людьми.
Подходили последние минуты часа свидания третьего дня. Мы с матерью смотрели друг на друга, стараясь запечатлеть взаимно милые черты наших обликов. Мы отлично сознавали неизбежность расставания с минуты на минуту. Хотя мы ничего не говорили друг другу, но над каждым довлело сознание, что, может быть, видимся в последний раз. Богданова встала: «Свидание закончено, прощайтесь». Трудно, очень было трудно разжать объятия и мне и матери, но приходилось подчиниться и, обернувшись несколько раз перед выходом, чтобы еще какие-то мгновения видеть свою мать, я вышел вместе с другими заключенными из Дома свиданий. Вероятность, хотя бы издали, еще раз увидеть мать на следующий день, когда их поведут под конвоем на пароход, была очень мала, так как время отхода парохода было очень засекречено.
Чтобы как-нибудь отвлечься и в то же время, не желая пропускать занятий на курсах электромонтеров, на которых я тогда уже обучался, я пошел прямо на курсы на середину занятий. На переменке я увидел в коридоре помещения курсов надзирательницу Дома свиданий, явно искавшую кого-то. Что-то подтолкнуло меня подойти к ней. Увидев меня, она поравнялась со мной и шепотом сказала: «Выйдите». Она вышла в темноту из помещения курсов, я, немного погодя, за ней. За дверью надзирательница сказала мне: «Заведующая разрешила попрощаться Вам с матерью, идите в Дом свиданий отдельно от меня», - и исчезла мгновенно. Было темно, но все же это был большой риск для Богдановой и надзирательницы, и я до сих пор не знаю чем я и моя мать так понравились Богдановой, что не только пробудил в ее зачерствелом сердце чекистки благородный поступок, но к тому же и очень опасный для ее соловецкой, да и не только соловецкой, карьеры. Подействовал ли на Богданову мой юный вид, безраздельно связывающая нас с матерью взаимная любовь или она прониклась состраданием к моей матери очень страдавшей от разлуки со мной, но она пошла на все.
Когда я пришел, Богданова оставила нас с матерью наедине в передней Дома свиданий, и мы могли шепотом сказать друг другу всё что хотели, что не хотелось говорить при посторонних, мать могла меня благословить. Минут через пятнадцать вошла Богданова, дружелюбно обняла мать и меня за плечи и сказала: «Ну, я сделала всё что могла, надо идти, сами понимаете». Мы горячо от всего сердца поблагодарили Богданову, попрощались, согретые ее человеческим отношением, и разлука показалась нам уже не столь мрачной. Последние поцелуи с матерью и я вышел на крыльцо.
В мире зла, квинтэссенцией которого был, безусловно, концлагерь, как-то так все устроено, что любое доброе дело, совершенное тем, кому полагается делать только зло, сразу оборачивается против него, как будто содеянное добро в царстве зла является нарушением объективной закономерности этого мира, которая немедленно мстит, вызывая реакцию зла против того, кто посмел нарушить эту систему зла. Едва я сошел с верхней ступеньки крыльца Дома свиданий, как в темноте передо мной блеснул штык винтовки приставленный к моей груди, и испуганно-злой голос из темноты скомандовал: «Назад»! Мне не оставалось ничего другого, как отступить на крыльцо, войти снова в Дом свиданий, где в передней я встретил Богданову. «Меня не выпускают», - сказал я Богдановой упавшим голосом. Я видел, как побледнела Богданова от испуга. Я не меньше встревожился за нее, о себе я уже не думал. Обнаружение заключенного в такой поздний час в Доме свиданий грозило Богдановой не только снятием с тепленького местечка заведующей Дома свиданий, но и отправкой в женский штрафизолятор на Заяцкие острова с выбытием из чекистского сословия навсегда, а, возможно и добавлением срока заключения. Из дверей приемной, услыша мой голос, высунулась встревоженная мать. Богданова овладела собой и пошла напролом: «Пойдем со мной», - сказала она. Мы вышли с ней на крыльцо, мать в щелку двери наблюдала за нами. В луче света от незакрывшейся за нами двери мы увидели стоявшего у крыльца стрелка ВОХР с полной боевой выкладкой. «Назад», скомандовал он и, увидев Богданову, добавил: «По лагерю прекращено хождение». Даже в темноте видно было, как побелела снова Богданова. Напрасно она доказывала стрелку, что не может оставить заключенного на ночь в Доме свиданий и просила пропустить меня. Стрелок стоял на своем, изредка произнося заученную фразу: «По лагерю прекращено хождение». Наконец стрелок уступил, дал согласие пойти за командиром отделения, приказав Богдановой меня не выпускать.
Потекли тягостные минуты ожидания на крыльце. Сколько времени прошло, сказать трудно, пока из темноты не вынырнули два стрелка ВОХРа и командир отделения войск ОГПУ тоже с полной боевой выкладкой. «Где у вас заключенный?», - строго спросил командир отделения Богданову. Она стала ему объяснять то же, что и стрелку, но командир, прервав ее, спросил меня какой я роты. Узнав, что я живу во второй, которая была в Кремле, командир сказал: «Ну, туда отвести я не могу, где работаешь?», - обратился он ко мне. Я сказал, что на электростанции, и командир принял решение: «Ну, туда я отведу его».
Здесь уже было не до прощаний ни с матерью, ни с Богдановой. Я заложил руки за спину, как подконвойный заключенный, стрелок ВОХРа, пришедший с командиром отделения, взял винтовку наперевес, и мы углубились в тьму. Электростанция была в метрах двухстах от Дома свиданий, но надо было срезать угол кладбища, на котором уже хлопали сейчас пистолетные выстрелы. Это был вечер массового расстрела заключенных в начале октября 1929 года, о котором я рассказывал выше.
Мать видела, как меня взяли под конвой, она слышала выстрелы на кладбище, в сторону которого меня повели, она отлично поняла значение этих выстрелов, а на другой день ей пришлось уехать вместе с другими родственниками заключенных с Соловков, так и не узнав о моей участи, мысленно похоронив меня. Только спустя месяц, когда дошло до нее мое первое после свидания письмо, она узнала, что я остался жив.
Мое появление на электростанции под конвоем, под аккомпанемент выстрелов на кладбище произвело сенсацию. В канцелярии на меня уставились перепуганные заведующий электропредприятиями Миткевич, инженер Михайлевский, делопроизводитель Данилов. Все решили, что конвой пришел за ними, и их вместе со мной сейчас отведут к яме на кладбище для расстрела. Командир отделения коротко спросил: «У вас работает?», - и указал на меня. Миткевич хотел ответить, раскрыл рот и задохнулся от испуга. Данилов с отчаянием обреченного выдавил из себя: «Да, здесь». Командир со стрелком повернулись и вышли. Все мы четверо обессиленные, опустились на стулья. Никто не решился спросить меня, как я попал под конвой и почему меня доставили на электростанцию. Не спросили ни в эти минуты, ни потом, боясь прикоснуться к таинственным обстоятельствам, которые как-то коснулись меня. Таков был лагерь.
Я выскользнул из канцелярии и через кабинет Михайлевского прошел в электромеханическую мастерскую, где был Миша Гуля-Яновский и где уже подсматривали из-под штор на окнах в сторону кладбища.
К счастью, Богданова за проявленную к нам с матерью доброту, по-видимому, не пострадала. На фоне такого кровавого события, дрожа сам за свою шкуру в приложении максимальных стараний по обеспечению приказа о прекращении хождения по лагерю, отделенный командир, скорее всего, не доложил по начальству о незначительном инциденте по обнаружению заключенного в вечернее время в Доме свиданий, которого он к тому же сам изъял оттуда. После закрытия навигации, когда Дом свиданий закрылся. Богданову перевели цензором в ИСЧ, что указывало на неизменность к ней доверия со стороны секретных органов. Правда, с открытием навигации 1930 года заведующей Дома свиданий была назначена другая чекистка-заключенная, Лобанова, Но эта замена вряд ли произошла из-за инцидента со мной.
СВИДАНИЕ (2)
С открытием навигации 1930 года матери снова удалось получить в Москве в ОГПУ разрешение на свидание со мной и даже «личное». Это было полной неожиданностью и большой радостью для меня. Лобанова, с которой я был знаком, поскольку зимой она была цензором КВЧ (культурно-воспитательной части), и мне приходилось, как редактору стенгазеты электропредприятий, носить ей на проверку материалы для стенгазеты, вызвала меня по телефону в Дом свиданий, как только приехала мать. Хотя Лобанова была очень черствой особой, может быть, не столько по натуре, сколько по ее фанатичной привязанности к чекистской работе, она до моего прихода успела расхвалить меня моей матери, вплоть до того, что позволила даже усомниться в целесообразности такого сурового приговора мне, как «стопроцентному комсомольцу». Что я совершенно невиновен, она никак не могла допустить. Очевидно, на нее произвели большое впечатление передовицы для стенгазеты в духе догматического марксизма-ленинизма, передовицы, в которых она не вычеркивала ни одного слова, не находила, что надо исправлять, и составила себе мнение о моей высокой политграмотности, которая доступна только комсомольцу, которым я никогда фактически не был. Правдивая женщина, моя мать, без всякого умысла развеяла восхищение Лобановой мною, просто сказав, что я никогда комсомольцем не был, и при входе в Дом свиданий я поразился холодностью обращения со мной Лобановой, так резко отличавшемся от наших встреч в КВЧ. Не зная о состоявшемся до моего прихода ее разговоре с моей матерью, я эту холодность отнес за счет официальности атмосферы Дома свиданий и только потом, когда случайно мать в разговоре упомянула о происшедшем у нее до моего прихода разговоре с Лобановой, я понял, что холодность Лобановой была вызвана ее разочарованием в собственной ошибке. Она не могла себе простить, как обманула ее чекистская бдительность, как она каэра могла посчитать комсомольцем.
Сразу встал вопрос, где поместить мать на время свидания. В это время я уже проживал не в бараке электрометаллороты, а в общежитии электростанции, находившейся в помещении управления электросетями и электромонтажной мастерской. В комнате нас жило шесть заключенных, естественно, поместить мать в эту комнату не представлялось возможным. Заведующий электропредприятиями Миткевич и заведующий электросетями Зиберт сразу пришли мне на помощь и предоставили матери каморку дежурного по электростанции монтера, отгороженную в электромонтажной мастерской. Там была койка для отдыха монтера во время ночного дежурства. Миткевич же постарался почти полностью освободить меня от работы, посоветовав положиться на рабочего при кладовой, в то время как я тогда был ответственным кладовщиком кладовой электростанции. Мой рабочий был честнейшим и аккуратным человеком, и я с радостью передал ему ключи от кладовой, чтоб больше времени пробыть с матерью.
В это свидание мы много времени провели с матерью с глазу на глаз, совершали прогулки в лес, собирая грибы и поспевшую в это время года морошку. При встрече с патрулем мы предъявляли удостоверение на право личного свидания, и нас оставляли в покое. Мать готовила на производственной плите в мастерской, встречая всякое содействие со стороны как проживавших в общежитии заключенных, так и со стороны электромонтеров, уходивших и приходивших с работы на линии в мастерскую.
Незаметно в радости быстро промелькнула неделя, на какой срок имелось разрешение на свидание из Москвы, но за два дня до его окончания Миткевич посоветовал мне подать заявление на имя начальника Соловецкого отделения лагеря с просьбой о продлении свидания. С заявлением мне не пришлось никуда ходить, Миткевич сам написал великолепную характеристику, сам пошел с моим заявлением прямо к начальнику отделения, у которого он пользовался авторитетом, и получил мне продление свидания, к большой нашей радости, еще на неделю. Мы не знали, как благодарить Миткевича за проявленную им чуткость, но благодарность и от себя и от имени матери я передал ему один, матери он не видел и она его, так как по правилам свидания, даже личного, приехавшая на свидание родственница заключенного могла общаться только со своим родственником заключенным, но ни в коем случае, даже разговаривать у кого-нибудь на виду, с каким-нибудь другим заключенным.
Прошло еще три дня второй недели свидания. Погода нам благоприятствовала, заключенные относились к матери с прежней предупредительностью, мы предвкушали еще четыре дня общения друг с другом. Утром четвертого дня второй недели свидания, когда мы с матерью собирались на прогулку в лес, дежурный монтер неожиданно доложил, что меня к телефону вызывает Дом свиданий. В телефонной трубке я услышал ледяной голос Лобановой: «Свидание у Вас прервано, немедленно доставьте свою мать с вещами в Дом свиданий». Я похолодел, не зная, как сказать об этом матери. Пришлось подчиниться. Наскоро собрав вещи, которых у матери почти не было, так как главный груз двух ее чемоданов, которые она привезла, состоял из продуктов и кое-каких носильных вещей для меня. Расстроенные и грустные, мы брели с матерью в Дом свидания, а я ломал себе голову над вопросом, чем я мог провиниться, так как лишение свидания могло быть вызвано только каким-нибудь серьезным нарушением лагерного распорядка.
По мере приближения к Дому свиданий, я обратил внимание на стекающихся туда же со всех сторон заключенных с их родственниками и с вещами. Когда мы пришли в Дом свиданий, там уже было подано несколько телег, на которые находившиеся на свидании наши родственники укладывали свои вещи. Лобанова торопила, на ходу отмечая по списку прибывавших родственников. Пароход «Глеб Бокий» дал второй гудок. Нам не дали даже попрощаться как следует, мимолетный поцелуй и всех вольных граждан взяли под конвой оперуполномоченные ИСЧ, в просторечии оперативники. Телеги двинулись на пристань, а за ними наши родственники. Нас оттеснили стрелки ВОХР и солдаты войск ОГПУ с полной боевой выкладкой.
Замена комвзводов оперативниками для конвоя наших родственников, патрули с полной боевой выкладкой, оказавшиеся у Дома свиданий, подсказали мне о введении чрезвычайного положения в лагере. «Значит персонально я ни в чем не виноват, моя совесть перед матерью чиста, свидание прервали всем, а не только мне, и из-за чего-то грозного, неотвратимого», - подумал я, но что случилось - я недоумевал. И как не везло нам с матерью, в особенности ей, каждое свидание со мной заканчивалось для нее смертельным страхом за мою жизнь!
Но что же все-таки произошло, что так срочно выдворили с Соловков наших родственников, лишили свидания заключенных, даже и тех, к которым лишь накануне приехали родственники?
Приезд матери ко мне на свидание почти совпал с «обострением международной обстановки», как говорила большевицкая пропаганда. Папа Римский призывал в своей энциклике к крестовому походу против коммунистов. В бессильной злобе наказать самого Папу Римского, чекисты, под видом санитарной обработки, обстригли бороды и обрили наголо головы всему духовенству, находившемуся в лагере в заключении. Английские и другие импортеры советского леса, вследствие спада конъюнктуры, так называемого «кризиса в капиталистическом мире 1929 года», отказались покупать советский лес, который был почти единственным источником получения иностранной валюты для закупок машинного оборудования заграницей для индустриализации СССР. При этом на Западе этот отказ прикрыли весьма эффектной формулировкой - нежеланием покупать лес, добытый рабским трудом заключенных. Формулировка была блестящая, поразившая в самое сердце сталинскую диктатуру. Заключенных согнали поротно на митинги, где по докладу воспитателей «единогласно» была принята резолюция, клеймящая «в позорной лжи акул английского и международного империализма о якобы имеющемся в СССР принудительном труде».
И все-таки эти «обострения» оказались не той причиной, по которой лагерь был объявлен на чрезвычайном положении, продолжавшемся больше недели с момента отправки наших родственников с Соловков. Картина для нас заключенных начала проясняться на другой же день, когда этап за этапом с материка стала прибывать масса заключенных без разбора длительности срока заключения и статьи, по которой они были заключены в лагерь. Из их рассказов мы поняли всё, но главная опасность, угрожавшая нам, мне стала известна только значительно позже.
В ту июльскую 1930 года ночь, которая предшествовала дню высылки с Соловков наших родственников, финская армия внезапно перешла границу Карелии на большом фронте, примерно от 63° северной широты до полярного круга, частично разгромив пограничные заставы, частично обойдя их, благодаря знанию местности, и углубилась в карельские леса. Мелкие подразделения финнов атаковали приграничные лагерные лесозаготовительные командировки, ликвидируя охрану, освобождая заключенных, которых переправляли немедленно на финскую территорию.
В возникшем от внезапности нападения хаосе каждое ведомство стало «спасаться» как могло. Пограничники, обнаружив у себя в тылу финские части, начали беспорядочный отход на восток к Белому морю по дорогам, на которых проникшие вглубь по тропинкам, известным только местным жителям-карелам, небольшие финские подразделения из засад истребляли отступавших пограничников. Военное командование, располагая территориальными частями, формировавшимися по ленинским принципам национальной политики из местного населения, не могло ввести их в бой по морально-политическим соображениям против финнов их же сородичей, финнов и карелов, которые при расширении успеха противника легко могли перейти на сторону последнего. К тому же территориальные части в это время года не были укомплектованы, поскольку на три месяца в году службы в них состав призывался только осенью, после окончания полевых работ. Выступивший из Петрозаводска линейный пехотный полк на таком растянутом фронте, да еще в лесах и болотах, представлял собой минимальную угрозу для финнов. Переброска войск из центра страны требовала времени, так как тормозилась одноколейностью Кировской (тогда Мурманской) железной дороги. Лагерное начальство совсем не стремилось отстаивать каждую пядь родной земли, о защите которой тогда и позже, рядясь в тогу пламенных патриотов, твердила при всех случаях большевицкая верхушка. К тому же войска ОГПУ к военным действиям не годились, приученные только к войне с безоружными, лишенными всех прав заключенными. Лагерное начальство до потери сознания испугалось факта освобождения финнами заключенных, повлекшим за собой, во-первых, потерю рабов, во-вторых, и главное - международного скандала, когда эти десятки тысяч живых свидетелей, попав заграницу, распространят в массах правду о «социалистическом» государстве, государстве концлагерей.
Начальник СЛАГа отдал приказ о немедленном снятии всех заключенных с лесозаготовок и конвоировании их на берег Белого моря и далее на Соловки. Попавшие в этот великий исход из Карелии заключенные рассказывали, что на командировках и лагпунктах не давали ни минуты на сборы и гнали к берегу почти бегом. Материально-ответственные лица (кладовщики, каптенармусы) из заключенных доказывали, что не могут стать в строй для отправки, не предупредив, не передав кому-либо по акту вверенных им материальных ценностей, но в ответ получали только удары прикладами. Из заключенных замешкавшихся стать в этап и пристреленных командирами войск ОГПУ наибольший процент падал именно на этих кладовщиков и каптенармусов. Этапы гнали напрямик к морю через леса и болота, где конвой становился легкой добычей рассеявшихся на большую глубину мелких финских подразделений, а заключенные обретали подлинную свободу, тотчас же эвакуируемые на территорию Финляндии. В г. Кеми всех заключенных, работавших в городе, загнали за проволоку лагпункта «Вегеракша» и приготовили к отправке на Соловки.
Флотилия СЛАГа работала без перерыва, перебрасывая на Соловки этап за этапом, выходивших к берегу моря. На пароходе «Глеб Бокий» заключенными набивали не только все трюмы, но их везли и на палубе. Морской буксир «Ударник» с двумя баржами и катер «Пионер» с одной баржой также безостановочно курсировали между Соловецкими островами и Карельским берегом. На этих баржах заключенными не только забивали трюмы, но и палубы, а «Ударник» брал этапы еще и на свою крохотную палубу.
Больше недели финны хозяйничали в Карелии на территории, ограниченной вышеуказанными параллелями, но на берег моря не вышли, а, частично выполнив свою освободительную миссию, уничтожив проволочные ограждения и все постройки на лагерных командировках, отошли без боев на финскую территорию. Отступление финнов спасло нас всех заключенных от страшной гибели, которая была нам приготовлена ОГПУ в случае выхода финских войск на берег Белого моря и, о подготовке которой, я узнал значительно позже.
Настроение у всех нас, соловецких и вновь прибывших заключенных в те дни было особенно прескверное. Торчавшие на башнях кремля пулеметы, сновавшие с полной боевой выкладкой солдаты войск ОГПУ, злые лица начальства, не могли не нагнать страх. Находясь в таком состоянии, никто из заключенных не обратил особого внимания (а может быть, если и заметил, то помалкивал) на нововведение в вооружении войск ОГПУ. При введении описываемого мною чрезвычайного положения в лагере все командиры и солдаты дивизиона войск ОГПУ, стрелки ВОХРа стали носить на ремне через плечо ранее невиданные широкими массами сумки. Это были противогазы, ставшие хорошо известными всем только перед Второй мировой войной. С противогазами ходило и все лагерное начальство, вольнонаемные и сотрудники ИСЧ.
Об этой детали я вспомнил, когда через два года после описываемых событий, мне рассказал мой соловецкий друг заключенный военно-морской летчик Вася Углов, о котором я упоминал в предыдущей главе. Будучи бортмехаником, он был переведен на Соловецкий гидродром техником и, хорошо перезнакомившись со старыми работниками гидродрома - заключенными, узнал от них о страшном готовившемся в июле 1930 года злодеянии на Соловках.
Действительно, в первый же день чрезвычайного положения, я видел, как на Соловецкий гидродром опустилось около десятка, мощных по тем временам, военных гидросамолетов-бомбардировщиков «Дорнье-Валь», построенных для Красного воздушного флота немецкой фирмой «Дорнье» и состоявших тогда у нас на вооружении. Тогда я расценил прилет этих гидросамолетов как концентрацию сил против вторжения финнов, хотя и был несколько удивлен их бездействию в последующие дни. Никуда они не летали, а мирно покачивались на якорях. Васе Углову рассказали, что эти гидросамолеты до отказа были загружены химическими бомбами, которые в случае выхода финнов на побережье Белого моря, летчики должны были обрушить на места жительства заключенных на Соловецких островах для уничтожения всех заключенных отравляющими веществами. Соловецкие острова превратились бы в гигантскую газовую камеру, которые применялись потом немецкими нацистами в своих лагерях смерти. В свете этого сообщения, только в 1932 году, мне стали понятны и противогазы охраны и начальства лагеря и неподвижность мощных горбатых воздушных кораблей, как бы выгнувших свои спины наподобие хищника перед прыжком на свою жертву. Характерно, что при повторных впоследствии по другим поводам чрезвычайных положениях в лагере противогазы на вооружении войск ОГПУ и ВОХРа отсутствовали!
Материнское сердце чувствовало в какой опасности оставался я и в этот ее отъезд с Соловков, и мать успокоилась только спустя более месяца, получив от меня первое после второго свидания письмо и тут же, с присущей ей энергией стала хлопотать о новом свидании со мной. Она снова оббивала пороги ОГПУ в Москве, и в октябре того же, 1930 года, добилась разрешения на свидание со мной, правда, лишь «на общих основаниях». Два свидания в год - это было неслыханно для заключенных на Соловках!
К этому времени у меня уже было много знакомых заключенных, особенно благодаря выполняемым мною обязанностям контролера электросети по осветительным установкам. От электромеханика радиостанции морского кадета, лаборанта Военно-воздушной академии им. Жуковского заключенного Хомутова я узнал о прибытии матери в Кемь ко мне на свидание. Хомутов был осведомлен о радиограмме, поступившей из УСЛАГа начальнику Соловецкого отделения с запросом о возможности моего свидания с матерью. Он также мне сообщил о благоприятном ответе с Соловков, потому что в случае неблагоприятной характеристики обо мне, матери не дали бы разрешения в Кеми в УСЛАГе на въезд на Соловки и аннулировали разрешение на свидание, выданное в Москве. Поэтому вызов в Дом свиданий на этот раз не был для меня неожиданностью.
Так же, как и год назад, мы чинно рядом сидели с матерью за столом, во главе которого сидела теперь уже не Богданова, а Лобанова, зорко следившая со своей надзирательницей, тоже уже другой, за разговорами за столом, часто одергивая заключенных. Так же мою мать с другими родственницами выводили на час ежедневно на прогулку под личным конвоем Лобановой. В одну из таких прогулок матери попало от Лобановой, и мать очень опасалась, что этот инцидент может послужить предлогом для прекращения свидания досрочно. Мать увидела Богданову и, питая к ней чувство благодарности за то доброе дело, которое она совершила в прошлогодний приезд матери – вызвала меня тайком для дополнительного прощания - мать вышла из строя прогуливаемых, подошла к Богдановой и расцеловалась с ней. Матери никак не могло прийти в голову, что поскольку теперь Богданова не заведующая Домом свидания, матери нельзя с ней общаться, что Богданова теперь просто заключенная, с которой нельзя общаться и даже нельзя узнавать. Службистка Лобанова знала только инструкцию и не могла понять той простой истины, что человеческие чувства никогда не укладываются в печатной бумаги, их никакими инструкциями не регламентировать.
На третий день свидания с матерью, я получил разрешение от начальника Соловецкого отделения, по моему ходатайству, на продление свидания «на общих основаниях» еще на три дня. Таким образом, шесть дней по часу в день мы снова увиделись с матерью и, на этот раз, она уехала спокойно без всяких происшествий, хотя в душе все же опасаясь за мою жизнь, так как за три приезда на Соловки она успела хорошо изучить лагерную обстановку, почти весь комплекс опасностей, ежедневно подстерегающих каждого заключенного.
Ее приезд в октябре 1930 года был последним ее приездом на Соловки. С 1931 года свидания заключенным, содержащимся на Соловках, были запрещены полностью, и все старания матери не давали никаких результатов. Когда она подавала заявление в ОГПУ и принимавший чекист узнавал о моем местопребывании в Соловецком отделении СЛАГа, он просто швырял заявление в лицо матери и выгонял ее, не желая и разговаривать.
Увиделись мы с матерью только через три года после этого, когда меня перевели с Соловков в г. Кемь. На материке царила другая атмосфера, и в последующие четыре года мать ко мне в лагерь на свидание приезжала еще четыре раза, хотя один раз и безрезультатно, весной 1935 года, когда она не была допущена в лагерь ко мне злым начальником отделения заключенным-чекистом-евреем Дич без всякого к тому повода с моей стороны. Но жаловаться было некому, тем более что Дич был ближайшим родственником начальника Белбалткомбината чекиста Раппопорта. Тогда мать так и уехала домой, не повидавши меня.
Оглядываясь назад, можно только с восхищением и глубокой благодарностью вспоминать необыкновенную самоотверженность на которую шла моя мать, да и не только моя мать, а и другие родственницы, чтобы ценой таких унижений получать разрешение на свидание, затрачивать средства на дальний путь, продавая все последнее, рисковать переправой через штормовое холодное море, чтоб нравственно поддержать сраженных несправедливостью, угнетенных лагерным режимом, дорогих сердцу заключенных.
Я вглядывался в этих отважных, несгибаемых женщин и со всей ответственностью свидетельствую, что нет, не перевелись на земле русской и в XX веке княгини Трубецкие!
ТИФ
Тиф - заболевание инфекционное. Известны тифы: сыпной, брюшной, возвратный. Самым опасным для жизни человека является, пожалуй, сыпной тиф, влекущий за собой больший процент смертности. Заражение человека сыпным тифом происходит от проникновения в его кровь бациллы тифа при укусе человека вшой, кусавшей перед тем больного сыпным тифом. Таким образом вошь является переносчиком сыпного тифа и, следовательно, борьба с сыпным тифом сводится прежде всего к чистоте и к изоляции больных от здоровых людей. Известно, что истощенный организм вследствие недоедания менее стоек к перебориванию болезни, а поэтому и смертельный исход болезни у истощенных людей почти предрешен.
Народная мудрость называет сыпной тиф - голодным тифом, эпидемии которого всегда так быстро распространяются во время всяческих народных бедствий, вызывающих прежде всего голод и нехватки других предметов обихода. Нехватка пищи понижает сопротивляемость организма человека к инфекции, нехватка мыла затрудняет борьбу за чистоту, без которой насекомые составляют неотъемлемое окружение существования человека. Действительно эпидемия сыпного тифа охватила всю страну в годы гражданской войны, она в не меньшем масштабе вспыхнула на пороге тридцатых годов, вызванная невероятными лишениями, обрушившимися на народы нашей страны, как следствие проведенной Сталиным коллективизации деревни и непосильных темпов индустриализации страны в первой Пятилетки. Не зря Сталин назвал коллективизацию деревни событием по значимости равной Октябрьской революции. По возникшим от нее последствиям, в частности по эпидемии сыпного тифа, его высказывания были безусловно верны.
Параллельно коллективизации деревни и наступления на жизненный уровень трудящихся, начиная с 1929 года большевицкая верхушка неудержимой лавиной обрушила на народ массовые аресты во всех слоях общества. В следственных тюрьмах не хватало места для арестованных, несмотря на то, что в одиночные камеры помещали до десяти человек, а в общих, рассчитанных на двадцать пять арестантов, число их превышало сотню. Как ни быстро выносили приговоры оптом и Коллегия ОГПУ и так называемые «тройки» ОГПУ на местах, число людей под следствием все росло, их негде было содержать.
Решено было очистить все тюрьмы от заключенных (уголовников), отбывавших в них полученные по суду сроки (по приговорам ОГПУ по 58 статье заключенных сразу отправляли в концлагеря) и направить их в концлагеря, чтобы эти тюрьмы использовать как следственные. Поскольку в конце третьего, начале четвертого квартала 1929 года Северный лагерь в районе Архангельска только организовывался, заключенных, невзирая на сроки заключения, стали отправлять этапами в Соловецкий лагерь. Одновременно с разгрузкой тюрем от уголовников в Соловецкий лагерь шли этапы и с заключенными по 58 статье. В октябре и ноябре 1929 года в СЛОН стали прибывать эти этапы по нескольку в сутки.
Перебравшееся в это время в г. Кемь Управление СЛОНа, не желая возиться с размещением этих этапов на материке, в Карелии, транзитом через Кемперпункт направляло их на Соловецкие острова. В октябре и ноябре пароход «Глеб Бокий», морской буксир «Ударник» с двумя баржами без остановки курсировали между Поповым островом, где был расположен Кемперпункт, и Большим Соловецким островом, перевозя в сутки по несколько больших этапов на Соловки. Напрасно начальник Соловецкого отделения лагеря слал радиограмму за радиограммой начальнику СЛОНа в Кемь о невозможности размещения на Соловецких островах такой массы заключенных - этапы все шли и шли.
Пропускная способность Соловецкой бани и дезинфекционной камеры была очень ограничена, и большинство этапов не успевали проходить санитарную обработку по прибытии на Соловки. А в санитарной обработке была крайняя необходимость, так как по всей стране сыпной тиф уже косил жертвы, сыпной тиф проник и в тюрьмы, где нашел особенно благоприятную для себя почву по быстрому распространению болезни. В одежде прибывающих с этапами заключенных миллиардами кишели вши, в этапы без разбору включали людей, уже заболевших сыпным тифом.
Помещать заключенных было негде, Соловецкий лагерь вмещал около трех тысяч заключенных, а за короткое время на Соловки нагнали еще восемнадцать тысяч. Прибывающие заключенные рыли для себя землянки, где их содержали в необыкновенной скученности, в ужасающих антисанитарных условиях, без вывода на работу, так как последней на такую массу заключенных не хватало. Как неработающие, прибывшие заключенные получали голодный паек, кухня не могла обслужить такого большого количества горячей пищей и просто даже кипятком. Такое питание еще более подрывало организмы заключенных и без того подорванные тюремным режимом и переживаниями на следствии, что в совокупности доводило сопротивляемость заболеванию тифом почти до ноля. Для содержания вновь прибывающих этапов на первых порах были использованы бывшие монастырские конюшни, куда в стойла на ночь загоняли заключенных. В стойла набивали столько, что там можно было только стоять, тесно прижавшись друг к другу. Когда по утрам открывали стойла, то в выходившей толпе на пол падали трупы умерших за ночь заключенных, поскольку в той неимоверной тесноте трупам некуда было падать, и с момента смерти они так и оставались в вертикальном положении, зажатые телами живых людей.
Неудивительно, что в эти месяцы началась на Соловках страшнейшая эпидемия тифа. Из 21 тысячи заключенных к концу 1929 года заболело сыпным тифом 16 тысяч, из них половина со смертельным исходом. Десять громадных братских могил на кладбище, по 800 трупов в каждой, сложенных рядами, приняли останки этих мучеников. Столь высокий процент смертности объясняется еще почти полным отсутствием медицинской помощи больным. Что могли сделать при таком массовом заболевании три врача, начальница санчасти вольнонаемная врач ОГПУ, жена начальника Соловецкого отделения, по специальности врач-венеролог, и мой «одноделец», киевский студент третьего курса медицинского факультета Киевского Университета Борис Горицын *, причисленный, ввиду чрезвычайных обстоятельств, к лику врачей?

Горицын Борис Борисович
С тремя помощниками бывшими ротными фельдшерами-заключенными, могли ли они охватить всю массу заболевших?
Для изоляции тифозных больных был предпринят неслыханный шаг - все заключенные, в том числе и с десятилетними сроками (а таких было преимущественно, так как десятилетников боялись поселять за пределами кремля) были выселены из кремля и все бесчисленные его помещения, включая и помещения Соловецкого театра, были превращены в один сплошной госпиталь. Остро не хватало санитаров, ряды которых отчасти пополнили уголовники, найдя в этой профессии явную выгоду лично для себя. Они выдирали золотые зубы не только у трупов, но и у умирающих, проигрывая сейчас же все в карты. Возможно, что последним занятием они больше занимались, чем уходом за больными. Вырыванием золотых зубов у трупов занимались и работники ИСЧ под предлогом сдачи золота государству, но неизвестно, сколько действительно золотых зубов попало в казну, а сколько прилипло к рукам этих оперативных работников.
Массовое изгнание еще не заболевших тифом заключенных из кремля оказалось на руку и мне, и Мише Гуля-Яновскому. Обоих нас, несмотря на наш десятилетний срок, в конце ноября 1929 года перевели в барак электрометаллроты, находившийся за кремлем, как бы на некоторую волю. Теперь мы ходили на электростанцию без унизительной проверки в воротах кремля «сведений» и когда мы шли на работу и когда возвращались с нее. Психологически очень действовало сознание при возвращении с работы в кремль о невозможности по своему желанию выйти из кремля; когда снова пойдешь на работу, тогда только конвой и выпустит из кремля. Таким образом, кремль представлял что-то похожее на тюрьму, только далеко-далеко от цивилизованных мест. Правда, в бараке, куда нас перевели, не было отдельного для каждого топчана, как во 2-ой роте в кремле, где мы жили до этого. Была в бараке вагонная система нар (двухъярусная) и не было отдельных камер на 5-6 заключенных, как во 2-ой роте, а был сплошной барак на 100 человек, что создавало много шуму. К тому же на нарах были и клопы. Но все эти неудобства быта с лихвой перекрывались сознанием, что мы как бы вырвались на свободу из стен кремлевского каменного мешка. И даже боязнь заболеть сыпным тифом, как казалось, который рано или поздно непременно должен был и нас подкосить, ничуть не уменьшала нашей радости от перевода в электрометаллроту.
Наш перевод в электрометаллроту и работа на электростанции как раз нас и спасла от тифа. Весь персонал электропредприятий, сосредоточенный в этом бараке, был на особо благоприятном, в смысле чистоты, положении благодаря стараниям заведующего электропредприятиями заключенного инженера Миткевича. Наличие двух ванн в отгороженных в котельной каморках, к которым горячая вода подавалась из конденсаторной установки пародинам, давало возможность всему персоналу электропредприятий мыться ежедневно с мылом, отпускавшемся нам, по распоряжению Миткевича, из кладовой электростанции, как на производственное спецмыло, без всякого ограничения. После мытья в бане мы ежедневно меняли белье, поскольку Миткевич организовал при электростанции прачечную, в которой стирку производили два заключенных китайца, отменно владевших искусством прачек. Эти два мероприятия позволили нам не только чаще мыться, чем могла бы дойти наша очередь на мытье в общелагерной бане, где к тому же почти не давалось мыла, но и изолировали нас, заключенных барака электрометаллроты от всех остальных заключенных, а, следовательно, от вшей,- разносчиков сыпного тифа. Если к этому еще прибавить и питание, и притом несколько улучшенное, чем на общелагерной кухне, которое мы получали на кухне электростанции, то станет понятным та действенная изоляция персонала электропредприятия, которая немало способствовала сохранению здоровья электриков. Действительно за всю эпидемию сыпного тифа из 80 заключенных персонала злектропредприятий тифом заболело только два человека и без смертельного исхода.
В числе заболевших был и Данилов, перешедший после сокращения штата злектропредприятий из делопроизводителей в десятники по приемке и разделке топлива во дворе электростанции. Постоянное его общение с присылаемыми из общих рот заключенными для выгрузки и разделки топлива послужили причиной его заражения тифом. Заболевание Данилова тифом очень всех нас поразило, так как бытовые условия у него были превосходными, он жил в общежитии электропредприятий при электромонтажной мастерской, занимая один целую комнату, что неслыханно было для работников его ранга, и, казалось, обеспечивало полностью от заражения тифом.
Материальные склады Соловецкого отделения помещались в кремле в подвалах соборов. По выполняемой мною работе, рабочего при кладовой, мне приходилось и во время эпидемии почти ежедневно ходить в эти склады для получения различных материалов, входить в кремль, в сплошной сыпнотифозный госпиталь, подвергаясь тем самым бо́льшей опасности заразиться, чем остальной персонал электропредприятий. Однажды я получил мешок ветоши для обтирки машин, которая представляла собой негодное к носке нательное белье заключенных, явно снятое с умерших от тифа и наскоро продезинфицированное. Я взвалил мешок через плечо, но не успел еще выйти из кремля, как почувствовал острый укус в шею. Запустив за воротник пальцы, я, к своему ужасу, под ногтем вытащил огромную вошь. Сомнений не было, мне оставалось только ждать инкубационный период и готовиться к отправке из роты в кремль в госпиталь как заболевший тифом, а может быть затем и дальше - на кладбище. Но инкубационный период прошел, я чувствовал себя так же и к величайшему изумлению и своему и моих друзей, которым я рассказал об укусе вши, я так и не заболел сыпным тифом тогда. И вообще эта болезнь меня миновала, я уцелел в эту эпидемию сыпного тифа.
В январе 1930 года эпидемия сыпного тифа на Соловецких островах пошла на убыль и к концу января прекратилась почти совсем. Но на смену тифозной эпидемии пришла другая, возможно не столь грозная по количеству смертных случаев, но дающая более отдаленные ужасные результаты, сделавшая тысячи заключенных неполноценными людьми на весь остаток жизни. По лагерю распространилась цинга.
Цинга, как известно, вызывается недостатком витаминов в организме человека. Эта болезнь имела распространение главным образом среди персонала высокоширотных экспедиций и среди экипажей кораблей дальнего плавания, когда основная пища состояла из консервированных продуктов. Цингой заключенные болели ежегодно, главным образом в феврале, марте, когда из организма улетучивались последние остатки витаминов, столь скудно получаемые заключенными в концлагере, даже в летние месяцы, поскольку основной пищей круглый год служила соленая конина и соленая рыба. Неоднократно цинга подкрадывалась и ко мне, но я не давал ей развиваться, поглощая присылаемый матерью в посылках клюквенный экстракт и заставляя себя в весенние месяцы как можно больше двигаться на свежем воздухе, разгоняя ужасную сонливость, являющуюся верным признаком начала заболевания цингой. Я по делу и без дела на лыжах проверял линии электропередачи, пробегая в день до десяти километров, и цинга отступала от меня.
Ослабленные перенесенным тифом, заключенные Соловков становились особенно легкой добычей цинги. С распухшими ногами, покрытыми пятнами, беззубые, с кровоточащими деснами, еле передвигаясь вдоль стен, тысячи заключенных стали неработоспособными весной 1930 года. Оставшиеся в живых от этой эпидемии цинги, в дальнейшем влачили жалкое существование на голодном пайке инвалидов, в которые они были зачислены и официально, так как действительно не могли ничего делать. Поскольку эти массы заключенных-инвалидов стали бесполезным балластом для концлагеря, выполнявшего производственные планы, в 1932 году специально приехавшая комиссия ОГПУ из Москвы «сактировала» их, освободив от дальнейшего отбывания срока заключения в концлагерях и заменив его ссылкой на поселение в район реки Мезень в северо-восточный угол. Белого моря. Эта «гуманная» замена содержания в концлагерях «вольной» высылкой по существу явилась для этих несчастных смертным приговором, поскольку в концлагере они имели хоть какой-то паек и кров над головой, а на поселении по берегам дикой реки Мезень они, нетрудоспособные инвалиды, должны были своим трудом сами зарабатывать себе на пропитание.
Эти две эпидемии в 1929-30 годах на Соловках очень повысили процент смертности заключенных, который и без них в год составлял 10% от списочного состава заключенных. Львиная доля этих процентов смертности приходилась на заболевание туберкулезом, который хотя не являлся эпидемической болезнью, а инфекционной, лагерная администрация никаких мер по изоляции даже явно больных туберкулезом от общей массы заключенных никогда, ни в одном лагере не предпринимала, и зараза очень легко распространялась, переходя все на новые и новые жертвы. У палочки Коха в тюрьмах и концлагерях было очень много союзников и ни одного противника. Скученность и отсутствие нормального объема воздуха в камерах, недостаточность времени прогулок на свежем воздухе, а зачастую лишение последних подследственных заключенных, еда скудного пайка из общей посуды вызывали массовое заражение туберкулезом заключенных уже под следствием в тюрьме. Полуголодный паек и непосильные работы при постоянном воздействии на нервную систему лагерного режима только ускоряли течение болезни у заключенных в концлагере, которая быстро сводила их в могилу. Особенно быстро от туберкулеза гибли в донельзя сыром климате Соловецких островов и Карелии народности Средней Азии и Сибири, привыкшие к резко-континентальному сухому климату.
Привезенные в СЛОН на Соловки после подавленного в 1927 году восстания за независимость, якуты почти поголовно погибли от туберкулеза в первую же зиму пребывания на Соловках. В 1929 году в живых я застал только двух якутов, одного электромонтера и работника общего отдела УСЛОНа, бывшего председателя ЦИКа Совета рабочих и крестьянских депутатов «Автономной» Якутской советской социалистической республики. Поголовно за одну зиму 1931-32 годов вымерли от туберкулеза так называемые басмачи, которые в очень больших этапах были привезены летом 1931 года на Соловки. Прибытие одного из этих этапов мне удалось наблюдать с противоположного берега бухты Благословения. Палуба парохода «Глеб Бокий» казалась издали пестрым ковром в кричаще ярких тонах. Этап был настолько велик, что не поместился в трюмы парохода, и часть басмачей в своих национальных халатах различных цветов была размещена прямо на палубе. К весне не стало ни одного халата.
На моих глазах от туберкулеза умерли один наш электромонтер и рабочий кладовой электростанции, оба в возрасте около тридцати лет. Последний был очень мужественным человеком и встретил смерть мужественно. Ему не повезло, как и не везло в жизни. Потомственный пролетарий он погиб от карающего меча пролетарской диктатуры. Когда я стал кладовщиком электростанции, заведующий эдектропредприятиями перевел его ко мне из кочегаров, чтобы облегчить его труд, дать какую-то возможность бороться с пожиравшей его чахоткой. Он много рассказывал о себе. Сын многодетного грузчика из порта Поти на Черном море, он с 15 лет стал моряком, сначала юнгой, а потом кочегаром на одном из пароходов РОПИТа (Российское общество Пароходства и Торговли). Пароход, на котором он плавал, в числе других был использован для эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в Алжир, в Бизерту. Когда пароходы РОПИТа стали на прикол в Бизерте, вдали от родины, молодой кочегар нанялся кочегаром на итальянский пароход, на котором проплавал два года. Итальянский пароход после этого пошел на слом, а он снова остался безработным и завербовался во французский иностранный легион. Сборища преступников, из которых почти сплошь состоял Иностранный легион, жестокости, с которой расправлялись солдаты с кочующими бедуинами, против которых французы вели постоянную войну, палочной дисциплины не мог вытерпеть этот глубоко порядочный человек, и он дезертировал из Иностранного легиона, пробравшись через раскаленные пески Сахары на территорию, не принадлежащую Франции. Два года службы в Иностранном легионе он вспоминал, как кошмар. В 1926 году он вернулся в СССР, где, по слухам, наступило райское житье. На родной земле он был немедленно арестован ОГПУ и административно получил «минус шесть», т.е. лишение права проживать в шести больших городах и пограничной зоне. Он был выслан под надзор ОГПУ в Астрахань. Рассмотрев, что в нашей стране далеко не райское житье, он решил в 1927 года бежать заграницу, для чего выбрал порт Новороссийск. Он мне говорил, что на грузовых пароходах существуют такие места, о которых знают только кочегары, и в таком месте он решил спрятаться на иностранном пароходе от пограничников. Проникнув ночью в порт, он высчитал время, за которое пограничник проходит по пирсу взад и вперед вдоль борта парохода и когда тот стал удаляться от носа парохода, он вскарабкался по причалу на палубу парохода и спрятался в тайнике, где он хотел переждать, пока пароход выйдет из территориальных вод СССР. Очевидно все же пограничник заметил, как он влез на палубу парохода, и утром пограничники перевернули все на пароходе вверх дном и нашли его. Приговор ОГПУ был суровый: десять лет заключения в лагере особого назначения, где молодой моряк и окончил свой жизненный путь.
С далеко зашедшим процессом туберкулеза легких оставил я на Соловках в I933 году заведующего электропредприятиями инженера-механика флота заключенного штабс-капитана Василия Ивановича Пестова. Не знаю, сколько времени он еще протянул после моей отправки с Соловков, но вряд ли он вышел живым из концлагеря, имея десятилетний срок, а в момент нашего расставания он не отсидел еще и двух лет.
Умирали заключенные и от истощения, умирали и сердечники, последних было много из стариков. Десятипроцентная норма смертности в год не снижалась никогда, несмотря на все возрастающее количество заключенных с каждым годом. Недаром говорили, что с десятилетним сроком заключения человеку никогда не выйти живым из концлагеря, потому что 10% умирающих ежегодно, помноженные на 10 лет срока, составляли 100%, а, следовательно, у десятилетника не оставалось ни одного шанса выжить в лагере. Бывший тогда максимальный срок заключения в 10 лет был совершенно точно рассчитан. По существу, этот максимальный срок заключения означал смертную казнь «в рассрочку», и действительно им заменялся во многих случаях расстрел, потому что в конечном счете результат был одинаков. А в то же время от предназначенного к физическому уничтожению человека в течение нескольких лет можно было извлечь пользу, подвергая его бесчеловечной эксплуатации, как раба, получая от него неслыханную норму прибавочной стоимости. Максимальный срок заключения в 10 лет делал то, что не могли сделать более долгие сроки заключения в дореволюционной России (хотя бы вспомнить шлиссельбуржца Морозова, умершего только на 94 году жизни и в то же время просидевшего в заключении 25 лет), вследствие несравненно более тяжелых условий, в которых находились заключенные в концлагерях ОГПУ, по сравнению с тюрьмами и каторгой дореволюционной России. А в то же время максимальным сроком заключения в 10 лет заграницей широко рекламировались «гуманность» советского законодательства, по сравнению с буржуазным. И волки оказались сыти и овцы целы.
Факт массовой гибели заключенных на Соловках в зимовку 1929-30 годов, очевидно, стал настолько широко известен и вызвал такую нежелательную для советского строя реакцию за рубежом, что ОГПУ вынуждено было прислать с открытием навигации 1930 года на Соловки следственную комиссию, к тому же обладавшую совершенно точными данными. Сразу же арестованному по прибытии комиссией начальнику Соловецкого отделения Зарину оставалось только подтвердить количество зарытых в каждой братской могиле трупов при вскрытии всех могил. Чекист Зарин был, конечно, виновен во многих преступлениях против человечности, но, справедливости ради, в эпидемии сыпного тифа, повлекшей смерть восьми тысяч заключенных, он был не виноват. Когда, как я уже говорил выше, он протестовал в конце 1929 года против такой массовой засылки заключенных на Соловки, к его голосу никто из вышестоящего начальства не прислушался.
Постановлением коллегии ОГПУ Зарин был приговорен к десяти годам заключения, начальница санчасти Соловецкого отделения врач войск ОГПУ была приговорена к пятилетнему сроку заключения.
Скандал погасили, отыгравшись на «стрелочниках», а истинные виновники бесчеловечной преступной системы концлагерей остались ненаказанными и по-прежнему, рядясь в белые одежды благодетелей народа, продолжали и в последующий десятилетия творить свои черные дела.
Смерть восьми тысяч Соловецких мучеников все же прошла не бесследно и до некоторой степени способствовала некоторому увеличению долговечности заключенных миллионов во всех концлагерях. Конечно смертность заключенных и в последующие десятилетия от истощения, от тяжелых условий работы и быта, от произвола чекистского начальства оставалась большой, но не стало массовой смертности от эпидемических заболеваний. ОГПУ обратило внимание на чистоту содержания заключенных и их санитарную обработку, доходившую иногда до идиотизма и просто издевательства над заключенными. С I930 года все лагпункты были снабжены дезинфекционными камерами с надлежащей пропускной способностью и построены бани такого объема, чтобы заключенным была обеспечена помывка не реже трех раз в месяц. Воспитателям рот была вменена в обязанность организовать и возглавить во всех бараках санитарные комиссии из заключенных, на обязанности которых было следить за чистотой и искать вшей у заключенных. Санитарное дело было изъято из ведения Общего отдела и учреждены санитарные отделы при управлениях лагеря и санчасти в отделениях лагеря. Даже при организации новых лагпунктов было предписано возводить первым зданием на обнесенном колючей проволокой участке баню, а затем уже дом для конвоя. Бараки для заключенных строились не всегда, но если даже и строились, то в последнюю очередь, а с момента прибытия этапа на территорию будущего лагпункта заключенные спали в палатках на земле в любые морозы, или просто под открытым небом, зимою у костров. В таких условиях и баня не спасала от большого процента смертности заключенных.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ.
БОРОЛИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Заключенные - страшное понятие, страшное потому, что каждый заключенный - это человек со всеми его достоинствами и слабостями, у которого отнята наиболее органически присущее человеку стремление к свободе, отнята возможность к самостоятельному, по собственному желанию, передвижению в пространстве. Вдумайтесь в происхождение слова «заключенный» - за ключом. За ключом, повернутым в замочной скважине двери с наружной стороны помещения, четырех стен, в котором находится заключенный, и из которого он не может выйти по своему желанию, так как сам он не может отпереть дверь, а ее ему отпирают и выводят из этого каменного мешка другие люди, когда тем это нужно, выводят те люди, если можно назвать людьми тюремщиков, которые узурпировали все права заключенного, в том числе и его право на свободу передвижения по собственной воле.
Концлагеря не были «каменным мешком», а обширными территориями, имеющими естественные или искусственные, в виде рядов колючей проволоки, границы, которые не мог перейти заключенный. А внутри этих территорий существовали еще более ограниченные пространства в виде бараков, камер, выход из которых также запирался на замок с ключом снаружи. И от того что «каменные мешки» раздвигались на большие площади нисколько не меняло сути страшного понятия заключенный, а наоборот усугубляло его, так как на этих территориях могли разместиться и разместились не десятки, а миллионы заключенных, из которых каждый переживал свою индивидуальную трагедию, присущую ему и только ему, в зависимости от обстоятельств приведших его за проволоку и от содержания его внутреннего мира.
Об этих страдальцах земли Русской, за совершенные преступления или томившихся совершенно невинно, и в большинстве и кончавших свою жизнь в лагерях ОГПУ, нельзя молчать, потому что забвение их явится надругательством над их памятью, не принесет славы нашим потомкам, не убережет грядущие поколения от повторения ошибок совершенных их предками.
Портретная галерея людей, прошедших передо мною за семь лет моего пребывания в лагерях ОГПУ, исчисляется сотнями тысяч, и ни один труд не мог бы вместить описание, хотя бы и поверхностное, встреченных мною людей, одних, которые только мелькали передо мной, других, с которыми я жил и работал бок о бок годами. Естественно, что о последних, оставивших глубокий след в моей памяти, я расскажу подробнее. До некоторой степени они представлялись мне, как характерные, можно сказать, типичные, представители той или иной прослойки общества. Эти люди своим мировоззрением, поступками отображали особенности тех слоев общества, к которым они принадлежали. Эти особенности весьма резко выступали в лагерях в зависимости от тяготевшей над каждым заключенным статьи уголовного кодекса, примененной к каждому для соблюдения формальности по закону при посадке его в лагерь за преступление или совершенно невинного. Резко отличались заключенные по 58-й статье уголовного кодекса, по сути политзаключенные (термин, который не признает советское законодательство), от уголовников в полном смысле этого слова - бандитов, воров. И те и другие имели мало общего с «бытовиками», т.е. заключенными, осужденными по прочим статьям уголовного кодекса.
Политзаключенные, т.е. лица, имевшие 58-ю статью, за исключением профессиональных шпионов, по существу не были виновны в предъявленных им по обвинению преступлениях. Если некоторые из них и имели кое-какие разногласия с политикой верхушкой большевиков, то и они ни в коей мере не заслуживали столь сурового наказания, как заключение в лагерь.
К абсолютно невиновным принадлежал и Павел Васильевич Боролин, о котором надо рассказать подробнее. Инженер-электрик, в возрасте около 40 лет был посажен в 1931 году в концлагерь по 58-й статье пункт 6 (шпионаж) на 10 лет. Писарь главного морского штаба в гражданскую войну, получив высшее образование при советской власти, беспартийный, он выдвинулся при электрификации первой железной дороги Ленинград-Ораниенбаум (теперь Ломоносов). Последовавшее за этим его командирование во Францию для приобретения электротехнического оборудования сыграло роковую роль в его судьбе. Вернувшись на родину с блестящей характеристикой советского полпреда в Париже Л.Б.Красина, старого большевика, Боролин был арестован ОГПУ. По-видимому, характеристика Красина, о котором Боролин отзывался и потом с теплотой, сыграла решающую роль вместе с кампанией, проводимой ОГПУ против инженеров, в осуждении Боролина на 10 лет. Сталин явно недолюбливал Красина, который потом отмежевался от сталинской политики, не вернулся в социалистическое отечество и поселился, как частное лицо в Берлине.
В лагере Боролин, после непродолжительного пребывания на общих работах, был назначен заведующим Соловецкими электропредприятиями взамен профессора Рогинского, увезенного летом 1931 года в Белбалтлаг на строительство Беломорско-Балтийского канала. Обладавший, помимо огромных знаний и опыта по электротехнике, большим обаянием, Боролин как-то сразу сплотил вокруг себя весь коллектив заключенных электропредприятий и сумел завоевать авторитет у сурового лагерного начальства. Его ясные голубые глаза, светившиеся теплотой по отношению к полюбившим его подчиненным, одновременно действовали и на чекистов. Он как-то подавлял начальников отделения своими краткими деловыми докладами и добивался всего чего нужно было ему и его подчиненным. Напрасно начальник-чекист, которому докладывал Боролин, отводил глаза и не спускал суровости с лица, памятуя о «бдительности» в обращении с «презренным» каэром, Боролин к месту отпущенной шуткой принуждал к сдаче упорного тугодума и тот соглашался со всеми мыслями своего подчиненного. Авторитет Боролина стал настолько велик, что он добился запрещения со стороны начальника Соловецкого отделения кому-либо звонить на электростанцию в случаях перерыва подачи электроэнергии. До этого запрещения заведующий не мог отойти от телефона, чтоб принять личное участие в устранении аварии, так как звонили все и требовали заведующего к телефону. Звонили кому не лень, а в особенности из ИСЧ, включая там последнюю сошку. Этот запрет так и остался в силе и при последующих после Боролина заведующих. Боролин отучил от этой глупой бдительности всех и навсегда.
Всегда бодрый и ровный в обращении, он действовал и на уголовников, которые стали дорожить работой на электропредприятиях, и покупать их Боролину не приходилось никогда. Привлекавшей к нему чертой его характера было старание выдвинуться не только самому, но и тащить вверх всех своих подчиненных, имея конечную цель сокращения срока заключения. Боролин умел показать лагерному начальству товар лицом, возможно, прибегая и к показухе, развернув социалистическое соревнование и общественную работу, по показателям которых при нем электропредприятия выходили всегда на первое место. Отлично почуяв дух времени, Боролин, чтоб всегда держать высоко в мнении начальства заслуги коллектива электропредприятий, по отчетам о выполнении общественной работы шел иногда и на приписки.
Я ахнул, когда Боролин со мной, как с секретарем штаба соцсоревнования электропредприятий, бессменным секретарем производственных совещаний и редактором стенгазеты, однажды составлял месячный отчет. Похвастаться было нечем. Сменившийся более чем на треть, вследствие угона специалистов а Беломорканал, персонал электропредприятий в тот месяц еще не втянулся в работу полностью, по той же причине сильно поредели ряды моих стенкоров и производственных совещаний было проведено только одно, а потому нам грозило последнее место по Соловецкому отделению. «Сколько производственных совещаний было?», - спросил меня Боролин. «Одно», - еле выговорил я. «Так, - сказал Боролин (он знал, что на меня можно положиться), - значит, три», - и недрогнувшей рукой вписал в соответствующую графу отчета тройку. «Протокольчики напишите, темы, обсуждавшиеся, я Вам скажу». «Сколько стенкоров?», - продолжил Боролин. Я беспомощно развел руками. Пятнадцать вписал Боролин в отчет. Также у нас пошло и с количеством поданных заметок в стенгазету и количеством рацпредложений и так далее и так далее. И действительно кто бы проверил?! Да и вообще, где и когда такие отчеты проверяются? Зато первое место по отделению мы снова получили, а как следствие этого в очередной квартал все заключенные электропредприятий получили высший зачет рабочих дней - три за два, т.е. за фактически отсиженные в лагере три месяца мы получили скидку в сроке в полтора месяца. За это стоило уважать нашего заведующего Павла Васильевича.
За нас он думал и о нашем будущем. В тиши зимовки 1931-32 годов он организовал курсы на электропредприятиях для нас, рядовых электриков. Сообразуясь с общей и специальной нашей подготовкой, он по вечерам сам проводил с нами занятия, в доходчивой форме знакомя нас с паровыми и электрическими машинами и аппаратами и двигателями внутреннего сгорания. За шесть месяцев он не смог нам дать знаний в объеме хотя бы техникума, но он дал сильный толчок к работе над собой, и многие из нас, посещавших эти неофициальные курсы, через год-два, выдвинутые Боролиным же на должности заведующих электросетями и электростанциями, имели вполне достаточный уровень знаний, чтоб с успехом на тех старых разбитых машинах, которые достались лагерю от оккупантов, бросивших их за негодностью, бесперебойно снабжать электроэнергией отделения и лагпункты по всей северной Карелии и производить своими силами капитальный ремонт оборудования.
Боролин и впоследствии не выпускал нас из своего поля зрения, выдвигал и по-отечески заботился о нас, помогая нам, как только мог, даже и тогда, когда в середине 1932 года его увезли в г. Кемь и назначили главным механиком Соллага. Приезжая в командировки на Соловки с инспекционной целью, он всегда находил время встретиться со своими бывшими подчиненными и помочь, главным образом вытаскивая нас с Соловков на материк.
При слиянии Соловецкого лагеря с Беломорско-Балтийским лагерем, которое произошло в конце 1933 года по окончании строительства Беломорканала, Боролин был назначен главным механиком Белбалткомбината (сокращенно ББК) ОГПУ, а подведомственные ему механизмы простирались от Петрозаводска на юге (лагпункт Петушки) до Мурманска на севере (лагпункт Оленья Губа).
В 1936 году Боролина увезли в Волголаг, назначив главным инженером строительства Угличского гидроузла на Волге. Имея громадный опыт гидростроительства, Туломской и каскада Нивских ГЭС, которое велось под его руководством, как главного механика ББК, Боролин успешно построил Угличский гидроузел. До освобождения из лагеря у него оставались считанные дни. Но чекисты не захотели выпустить из своих когтей этого талантливого инженера и Боролину дали новый срок заключения, снова еще десять лет! За что???
ГЕЙФЕЛЬ
Гейфель сменил Боролина на должности заведующего электропредприятиями Соловецкого отделения СЛАГа. В возрасте около 50 лет он выглядел значительно старше своего возраста, с большой проседью в коротко остриженной прическе. Очень заметное дрожание головы при малейшем волнении и даже при общении с кем-либо, полная неуверенность в себе, ясно свидетельствовали о тяжелой психической травме, нанесенной Гейфелю следствием и приговором. Офицер-артиллерист, получивший знания инженера-технолога при прохождении курса Михайловской Артиллерийской академии, Гейфель еще до первой мировой войны работал на Пороховом заводе в Санкт-Петербурге, а затем на Пороховом заводе в Шостке. На последнем заводе он и остался работать после революции, и в 1931 году был арестован ОГПУ, как «вредитель» и получил расстрел, который был заменен десятью годами концлагеря. Формально он был приговорен по статье 58 пункт 7 (вредительство) и пункт 9 (диверсия). Гейфель тоже ни в чем не был виноват, но в 1931 году была кампания по изъятию еще остававшихся в Красной армии и военной промышленности офицеров Русской армии, и Гейфель попал в их число.
Запуганный, Гейфель медленно присматривался к работе электропредприятий, ничем не проявляя себя, как заведующий, всецело полагаясь на слаженный Боролиным коллектив. Мои ежедневные доклады, как заведующего электросетями, он выслушивал внимательно, но если не стоял неразрешенный вопрос, он неизменно произносил одну и ту же фразу: «Что вы предлагаете?», - Боролин знал за меня всё и указывал что делать, а тут мне самому приходилось вносить предложения, с которыми Гейфель неизменно соглашался и если надо было не задумываясь, подписывал.
Электропредприятия работали слаженно, никаких потрясений на Гейфеля не сваливалось, и он, постепенно отдохнув от пережитого, подружившись со мной (несмотря на разность лет), механиками электростанции и телефонной станции, стал все больше проявлять свои организаторские способности, в то же время ничего не меняя и дав нам всем троим полную свободу в проявлении собственной инициативы во вверенных нам объектах. Гейфель был очень неплохим человеком, но слишком инертным если касалось помощи кому-либо из его подчиненных, в особенности если это было связано с ходатайством перед начальником лагеря, куда он не любил ходить. Перед уходом к начальнику отделения с докладом у Гейфеля всегда особенно заметно тряслась голова. Была ли эта особенность заложена в его натуре или это было следствием пережитого им, но в таких случаях Гейфель выглядел просто трусом. По сравнению с Боролиным на него нельзя было положиться. Один эпизод, о котором я расскажу в следующем отрывке этой главы, очень ярко охарактеризовал его в этом отношении.
В то же время, когда Гейфель полностью оправился от перенесенных на следствии страданий, он явно стал бить на снижение своего срока заключения. В отличие от Боролина, который, пробиваясь сам, тащил и всех за собой, Гейфель действовал строго индивидуально, заботясь только о себе, о том, чтобы как-нибудь его заметило начальство, и только его одного. И в погоне за этим выдвижением себя, Гейфель проявил недюжинные способности изобретателя и рационализатора. Справедливости ради надо сказать, что этим своим талантом он делился и с другими. Так, когда в порядке соцсоревнования, на электропредприятия на квартал нам навязали двенадцать обязательств по представлению рацпредложений, которые формально распределили между инженерно-техническим персоналом, Гейфель сам за нас сделал все двенадцать предложений. Мне осталось только подписать чертеж и объяснение к станочку по выработке гвоздей из проволоки. Тема была актуальна, так как фабрика ширпотреба ощущала острый недостаток в маленьких гвоздиках для сколачивания игрушечных трамвайчиков.
Предпринятое Сталиным в конце двадцатых, начале тридцатых годов «развернутое наступление на частника», в том числе и на кустарей, привело к полной ликвидации ремесел, и наша страна оказалась без предметов широкого потребления. Невозможно перечислить всех тех предметов обихода, которые отсутствовали в те времена в продаже. От чайников и деревянных ложек до игрушек и зубных щеток все исчезло. На ОГПУ, как спасителя государства от всех бед, как на орудие подавления народа, так и на производителя строек социализма, была возложена еще одна миссия - производство ширпотреба. На Соловецкое отделение была возложена задача изготовления деревянных ложек и игрушек (трамвайчиков и кукол). С открытием навигации 1932 года в кремле в Троицком соборе, где помещалась 13 пересыльная рота, был оборудован цех по изготовлению деревянных ложек, колокольня превращена в сушилку древесины, а вместо 14 роты были оборудованы цех трамвайчиков и кукольный. План был дан колоссальный, который из месяца в месяц не выполнялся, и нагоняй за нагоняем сыпались сверху на головы Соловецкого лагеря и Соловецкого отделения.
Но сколько ложек могли сделать вручную несколько сотен шпаненков - молодых уголовников-подростков, согнанных в до отказа набитом ими соборе?! Дело принимало весьма плохой оборот, грозивший начальству оказаться на положении заключенных, а заключенным быть расстрелянными за невыполнение плана. Вот тут-то и развернулся Гейфель, в своем изобретательском таланте и устремлении стать заметным у начальства, чтобы облегчить свою участь, снизить себе срок заключения. Он предложил механизировать выработку деревянных ложек на токарных станках при помощи изобретенной им фрезы особой формы. Чтобы обеспечить успех продвижения своего изобретения, и следовательно и свое, Гейфель сделал гениальный ход через голову начальника Соловецкого отделения, обратившись прямо к начальнику Соловецкого лагеря Сенкевичу, бывшему пограничнику, с четырьмя ромбами в петлицах, с ходатайством быть его... соавтором.
Здесь я впервые встретился с отвратительным видом эксплуатации человека человеком, так распространившимся впоследствии в советском обществе под невинным названием соавторства. Соавторство в прямом смысле этого слова обозначает совместную двух или более лиц работу над каким-нибудь изобретением, проектом, художественным произведением дающую право на получение премии, вознаграждения пропорционально вложенного труда. Соавторство по-советски заключается в том, что талантливый работник-изобретатель, проектировщик, художник кисти или пера, к своему несчастью стоящий на невысокой ступени строго-иерархического, притом и бюрократического аппарата советской власти не в состоянии свой труд, как бы он ни был ценен, продвинуть до признания, а, следовательно, и получения вознаграждения, поскольку сам автор имеет слишком мало веса. Чтобы протолкнуть свой труд через все бюрократические рогатки, автор предлагает какому-либо высокопоставленному лицу соавторство с ним. Это высокопоставленное лицо, заинтересовавшееся сразу получением без труда половины, обычно большей, следуемого за изобретение (проект, художественное произведение) вознаграждения, протаскивает через головы своих подчиненных для «законного» признания труда и, как соавтор кладет кругленькую сумму к себе в карман, нисколько не стесняясь этой по сути взяткой за занимаемое им положение, присваивая, таким образом, прибавочную стоимость труженика – действительного автора труда, паразитируя его талант.
И в данном случае каким соавтором в изобретении инженера мог быть безграмотный, не только технически, грубый солдафон, провинившийся чем-то на границе и потому попавший штрафником в начальники Соловецкого лагеря?! Но факт остается фактом, и нашумевшее изобретение «фрезы для изготовления деревянных ложек Сенкевича-Гейфеля» после испытания была внедрена в производство. Опытная фреза была изготовлена по чертежам Гейфеля в механической мастерской соловецкой электростанции, где и были произведены испытания. Гейфель стал за токарный станок, тупо уставившись на впервые увиденную им фрезу «соавтор» Сенкевич стоял весьма величаво. С Сенкевичем приехал и Боролин, как главный механик лагеря. Он хронометрировал все операции по изготовлению ложки на токарном станке, держа в руках золотые карманные часы, милостиво данные ему в руки на этот случай, самим Сенкевичем (заключенному иметь часы запрещалось, поскольку они могли «содействовать успеху побега», и потому Боролин своих часов не имел). То обстоятельство, что Сенкевич доверил Боролину свои, да еще золотые часы, свидетельствовало о том авторитете, который уже и у Сенкевича успел завоевать Боролин. На испытании присутствовал и я, как председатель ЯРИЗа (ячейка рационализации и изобретательства) электропредприятий (это была одна из моих многочисленных общественных нагрузок).
После окончания испытаний Боролин лукаво сощурив глаза, возвращая Сенкевичу часы, не мог не съязвить: «Хотел Вам, гражданин начальник, не возвращать часов, может быть, статью бы мне переменили, за воровство ведь легче сидеть»! Сенкевич подозрительно посмотрел на Боролина, не зная, как реагировать на шутку, что-что пробормотал неясное и поскорее засунул часы в карман.
Протокол испытаний был утвержден лагерным БРИЗом (бюро рац. и изобр.), подчиненные Сенкевичу заключенные из производственно-планового отдела подсчитали колоссальный денежный эффект изобретения, Сенкевич без зазрения совести положил в карман кругленькую сумму, а Гейфель получил скидку срока в два года и был переведен с Соловков в отдел главного механика в УСЛАГ в г. Кемь на материке.
Заказ на фрезы в большом количестве вне всякой очереди был выполнен на судоремонтном заводе на Соловках, до закрытия навигации успели завезти на Соловки токарные станки. За зимовку 1932-33 годов были изготовлены десятки тысяч деревянных ложек, была погашена задолженность за 1932 год и перевыполнен план первого полугодия 1933 года. А тут и вышел конфуз. Когда ложки поступили через госторговлю в розничную продажу, оказалось, что для еды они негодны. Ручка и черпак ложки лежали в одной плоскости, никакого изгиба не было, да и не могло быть при обработке фрезой на токарном станке.
Виновников искать не стали, ведь Сенкевич был «свой», чекист. Премию от него не отобрали, и от Гейфеля скидку срока и на Соловки не возвратили. Собственно и убытка от произведенного брака не было, так как и древесина, ушедшая на изготовление ложек, и само изготовление ложек производилось бесплатным рабским трудом.
К этому времени Сенкевича уже не было в Кеми. Он был переведен, тоже начальником лагеря, куда-то на дальний северо-восток во вновь открывшийся лагерь ОГПУ. Наказан он был не за противозаконное получение премии, а за неудачное интервью, взятое у него корреспонденткой известной английской газеты «Таймс», которое переросло в международный скандал такого размера, что московская «Правда» вынуждена была выступить с опровержением, которое по существу ничего не опровергало, а только подтвердило все описанное корреспонденткой. Прочтя это опровержение, у нас, у заключенных, не осталось никакого сомнения о причине перевода, фактически смещения, Сенкевича. Из газеты «Правда» мы узнали, что эта предприимчивая мисс не только проникла в г. Кемь, но что ее сняли с парохода, отплывавшего из Кемперпункта на Соловки. Тогда она добилась интервью у Сенкевича, ставшего для него роковым. Автор статьи в «Правде» особо расстраивался, называя наглой ложью и описание часовых из войск ОГПУ, которых корреспондентка охарактеризовала как разбойников в военной форме, и ответ Сенкевича: «А мы их расстреливаем», - на вопрос мисс, что делают с заключенными в лагерях, когда они не подчиняются.
ДЕМЧЕНКО
В возрасте Гейфеля был и офицер-сапер Русской армии Демченко, арестованный ОГПУ по 58 статье сроком на 10 лет в 1927 году по так называемому Войковскому набору, который выразился в массовых арестах офицеров Русской армии, как репрессия за убийство в Варшаве советского полпреда Войкова.
Всегда подтянутый и стройный, он был весьма душевный человек в кругу друзей. Я хорошо узнал его, когда он сдружился с Гейфелем и был переведен из заведующих Кирпичным заводом начальником планово-производственной части Соловецкого отделения лагеря. Как часто, просто встретив меня на территории лагеря, он осведомлялся не испытываю ли я трудностей на должности заведующего электросетями и всегда запросто предлагал мне обращаться к нему за помощью в технических и административных вопросах. По возрасту я ему годился в сыновья и отношение его ко мне были отеческими, в них чувствовалась не столь забота о производстве вверенного мне участка, сколько забота обо мне самом, как бы я не пострадал за возможно допущенные мною ошибки по молодости лет. Он никогда не давал почувствовать должностной разницы между им и мной, не сделался недоступным попав в начальники ППЧ. В нем не было и тени чванства, высокая должность не вскружила его голову.
В полной мере его характер, ум и железную волю я узнал по одному совершенному им поступку, свидетелем которого я был. Начальником ППЧ Демченко был назначен начальником Соловецкого отделения Солодухиным против его, Демченко, желания. Демченко неоднократно высказывал мысль о том, что в советской действительности, а особенно в лагере, не только не имеет смысла, но просто опасно очень высоко подниматься по иерархической, хотя бы и инженерно-технической, лестнице. Лично Демченко вполне устраивало быть заведующим Кирпичного завода, где без усилий он выполнял программу выхода кирпича для лагеря, где он имел отдельную комнату для жилья. Главное было то, что территориально завод находился в удалении от кремля, а, следовательно, и надзор за ним был невелик и чекистское начальство заглядывало к нему реже, чем к другим.
Назначение Демченко начальником ППЧ осенью 1932 года совпало с катастрофическим отставанием от плана выработки пресловутых деревянных ложек и игрушечных трамвайчиков. Его предшественник из кадровых чекистов, ничего не смысливший в производстве стучал кулаком, поносил всех и вся нецензурной бранью, но исправить положения не мог и поплатился своим местом, попав командиром отделения войск ОГПУ, где «работа» была более по нем: «Конвой стреляет без предупреждения».
Осмотревшись, Демченко, понял полное несоответствие производственных возможностей спущенному плану. Втайне, по-видимому, он сразу же решил уйти с должности начальника ППЧ, но за дело он принялся, не покладая рук, и путем некоторой реорганизации фабрики ширпотреба ему удалось несколько поднять ежедневную выработку продукции. Тем не менее, Демченко ясно сознавал невозможность выполнения годового плана в оставшиеся месяцы, а последнее грозило ему серьезными последствиями. Демченко, как офицера, да еще сидевшего по 58 статье, да еще десятилетника, непременно обвинили бы во вредительстве и саботаже и расстрел его был бы неминуем. И Демченко пошел ва-банк.
В начале декабря 1932 года в кабинете начальника Соловецкого отделения, чекиста Солодухина с двумя ромбами в петлицах, состоялось производственное совещание отделения, на которое были вызваны все заведующие производством, в том числе Гейфель и я. Докладывал о выполнении производственного плана за ноябрь Демченко. Показатели по ширпотребу были, хотя и выше по сравнению с октябрем, но потрясающе низки в разрезе годового плана. Солодухин в очень резкой форме несколько раз прерывал докладчика, назвав его под конец вредителем. С самого начала Демченко был как-то по-особому подтянут, спокоен и целеустремлен. Мне сразу бросилось в глаза, поскольку я его уже хорошо знал, колоссальное волевое напряжение на лице и проскальзывавшее, то в жесте, то в интонации слов, готовность к смертельной схватке с Солодухиным. Мне стало ясно непреклонная решимость Демченко во что бы то ни стало добиться сегодня, на этом совещании, своего снятия с должности начальника ППЧ, пока не закончился год, чтоб иметь максимальный шанс безболезненно выйти из «игры», добиваться своего снятия с должности даже через скандал с Солодухиным, поскольку добровольно Солодухин Демченко не отпускал.
В плане Демченко реплики Солодухина только лили воду на мельницу Демченко, накаляя обстановку. После эпитета «вредитель», Демченко перешел в наступление на Солодухина, излив на него поток обвинений в его беспомощности и неумении обеспечить необходимой рабсилой фабрику ширпотреба. Солодухин кипел: так ни с одним чекистом, да еще в присутствии других заключенных, не смел разговаривать «презренный каэр». Перебранка между Солодухиным и Демченко все возрастала, оба стучали по столу кулаками. Мы все онемели от ужаса, опасаясь за Демченко и за самих себя. Солодухин позвонил, вошел солдат ВОХРа. Солодухин приказал арестовать Демченко и отвести в следственный изолятор. Демченко передал папку с докладом Солодухину и такой же, как всегда, подтянутый с заложенными за спиной руками, как полагалось идти арестованному заключенному, пошел из кабинета в сопровождении солдата взявшего винтовку наперевес и щелкнувшего затвором винтовки. «Убирайтесь все!», - заорал на нас Солодухин, он был вне себя.
С глубоким волнением о судьбе Демченко, мы разошлись по своим служебным местам.
Демченко продержали несколько дней в следственном изоляторе, затем перевели в санитарно-следственный изолятор ввиду разыгравшейся у него на нервной почве экземы рук. Санследизолятор был как бы госпиталем при Соловецкой лагерной тюрьме. В нем также содержались психически больные заключенные, которых тоже было немало. Из последних особо выделялся бывший командир 14-й Красной армии в гражданскую войну Кожевников. Сидя за решеткой у открытого окна летом, он беспрестанно выкрикивал: «Я комиссар, застрелю, тьфу» и плевал с третьего этажа на проходивших мимо и заключенных и вольнонаемных. Санследизолятор занимал трехэтажное помещение у северной стены кремля, внутри кремля у северо-восточных ворот. Ранее там была ПОМОФ (Пошивочно-обмундировочная фабрика), которую перевели в 1931 году в Кемский лагерь «Вегеракша» на материке.
Через несколько дней после перевода Демченко в санследизолятор, я зашел к Гейфелю с очередным докладом и застал в его кабинете, служившему ему одновременно спальней, инженера-механика флота штабс-капитана заключенного Пестова Василия Ивановича и механика станции Белецкого. Пестов верой и правдой служил в Красном Черноморском флоте флагманским механиком, был арестован ОГПУ в 1931 году, когда был первый выпуск военно-морских инженеров коммунистов из Военно-морской инженерной академии и Пестова можно было заменить, получил десять лет заключения по 58 статье и оказался на Соловках, почти в последнем градусе чахотки. Вскоре Пестов заменил Гейфеля на должности заведующего электропредприятиями, когда Гейфель за свое «изобретение» был переведен в г. Кемь в УСЛАГ. Белецкий тоже был десятилетник по 58-й статье. Будучи высококвалифицированным рабочим откуда-то из Белоруссии, не имея никакого образования, тем не менее прекрасно справлялся с обязанностями механика электростанции. Все трое были большие друзья Демченко.
Я сразу заметил их растерянность и удрученный вид и у меня екнуло сердце при мысли о получении ими каких-либо плохих известий о Демченко. Ничего не спрашивая, я уставился на них. Гейфель, помявшись, объяснил мне о получении от Демченко нелегально записки из санследизолятора с просьбой прислать ему махорки и конфет. Все трое друзей испытывали затруднение не в покупке этих остродефицитных продуктов при царившем в лагере голоде, потому что Гейфель, как заведующий электропредприятиями, сумел достать две пачки махорки и килограмм леденцов в магазине для вольнонаемных, а никто из них не решался скомпрометировать себя передачей опальному заключенному, показать свою дружбу или даже знакомство с последним, попортить свою карьеру.
Действительно друзья познаются в беде и меня всего перевернуло при виде этих трех жалких обывателей не могущих заставить себя рискнуть ради друга. Демченко был неизмеримо ближе к ним, чем ко мне, все во мне закипело и, помня, как Демченко относился ко мне, я вызвался доставить Демченко передачу. Я не мог поступить иначе, как поступил тогда еще на воле, желая облегчить участь Бориса Варшавского.
Надо было видеть как обрадовались все три друга, когда я снял с их совести тяжелое бремя.
О легальной передаче нечего было и думать. Помимо всего прочего, ее просто бы не приняли от меня. Взявшись за осуществление передачи нелегальным путем, я очень и очень рисковал всем: слететь с занимаемой должности и угодить в штрафизолятор, откуда мало кто возвращался живым. У меня созрел план самому проникнуть в санследизолятор и каким-нибудь путем вручить лично Демченко передачу. Как заведующий электросетями Соловецкого отделения, я имел круглосуточный пропуск для хождения по лагерю с правом входа во все помещения лагеря для контроля состояния электропроводки и расходования электроэнергии. Кстати, правом входа во все помещения пользовались только чекистская администрация лагеря, военнослужащие войск ОГПУ и работники ИСЧ. Такой пропуск себе и мне выхлопотал все тот же Боролин, доказав начальнику Соловецкого отделения острую производственную необходимость такового. В комнаты ИСЧ и подведомственные ей следизолятор и санследизолятор я старался не ходить, чтоб лишний раз не попадаться на глаза, да и не видеть этих рож. На этот раз другого выхода не было.
Погрузив на дно монтерской сумки две пачки махорки, килограмм леденцов, засыпав сверху передачу плавкими пробками электрических предохранителей и монтерским инструментом, я бодро подошел к входу в санследизолятор. На мой стук открылось окошечко, в которое я предъявил свой пропуск. Фигура тюремщика исчезла с моим пропуском и через несколько минут загремели изнутри засовы, дверь распахнулась, я вошел, и дверь захлопнулась за мной, может быть, подумал я, и навсегда. Встретивший меня начальник санследизолятора заключенный-чекист осведомился с недоверием о цели моего прихода. Я прочел ему пространную лекцию об опасности «жучков» в предохранителях, о возможном плохом состоянии электропроводки, могущей вызвать пожар, и предупредил, что я должен осмотреть не только коридорную магистраль, но и проводку в каждой камере-палате, для чего мне необходим сопровождающий с ключами от камер. Слово «пожар» произвело на начальника магическое действие, он тотчас же выделил мне надзирателя с ключами. Тюремщик оказался ширококостного сложения, но небольшого роста, весьма пожилой, даже начавший горбиться угрюмый уголовник, очевидно, снискавший полное доверие чекистского начальства, поскольку его назначили в санследизолятор надзирателем. Осмотрев вводной щиток и коридорную магистраль, я стал обходить камеры первого этажа, ища Демченко. Моя миссия усложнялась отсутствием в записке Демченко номера его камеры. Во многих было по два-три подследственных заключенных, в некоторых камерах по одному. Успех моей задачи решало то обстоятельство, что, как я знал, электропроводка в санследизоляторе не была переделана по тюремному образцу (электролампочка устанавливалась в отверстии над дверью и была загорожена решеткой изнутри камеры, чтобы заключенный не мог добраться до лампочки), а, следовательно, камеры освещались обычным подвесом на середине комнаты, что и дало мне предлог заходить в каждую камеру. Столов в камерах не было, поэтому я либо «осматривал» подвес снизу, либо карабкался на услужливо подставляемую мне спину сопровождавшего меня надзирателя.
Прошли весь первый этаж, перешли во второй, а Демченко я не находил и уже стал отчаиваться, как вдруг в очередной камере увидел я Демченко, лежащего на кровати, очень осунувшегося и с забинтованными руками. В камере он был один - «Содержат в одиночке», - сразу сделал я заключение. Это было хуже для Демченко, но облегчало мне технику передачи. И он и я уже слишком долго сидели в лагере, чтоб не подать и виду о нашем знакомстве. Он смотрел на меня в присутствии надзирателя безучастно, я смотрел на электролампочку под потолком. Вскарабкавшись на согнутую спину надзирателя, я вывернул лампочку, кольцо от патрона, спрыгнул на пол и сказал надзирателю: «Мне ничего не сделать здесь с Вашей спины, принесите стремянку или стол». На это я поставил все карты. Если надзиратель не оставит меня в камере - все пропало, если оставит, я передачу вручу. Я рассыпал по полу пробки, разложил инструменты. Надзиратель ушел, заперев меня с Демченко. Я быстро с сумкой отпрянул назад к двери, затылком закрыл волчок, чтобы не подсмотрели, и перекинул на кровать Демченко махорку и пакет с леденцами. Он быстро спрятал все под матрац, мы не произнесли из осторожности ни слова, но сколько благодарности и теплоты ко мне было в его глазах! И тотчас же он сделал, как и я, безразличное лицо, как только снаружи щелкнул замок и вошел надзиратель со столиком.
Став на стол, я сменил патрон, завернул лампочку, и мы с надзирателем пошли дальше. Внутренне я ликовал: передача до Демченко дошла, а я уже не опасался обыска в сумке. Так с надзирателем, который таскал за мной столик, мы обошли оставшиеся камеры второго этажа, причем для вида я кое-где со столика вывинчивал лампочки и осматривал патроны в подвесах. На третий этаж, где были психически больные, я, к большой радости надзирателя, отказался идти, сказав, что к сумасшедшим боюсь идти. Вышел я из санследизолятора тоже без обыска. Видимо, мой пропуск произвел впечатление.
Собственно материала для заведения нового дела на Демченко не было, и никакого следствия не началось. Демченко как бы административно оказался подвергнутым содержанию в изоляторе. Тем временем Боролин добился у начальника УСЛАГа Сенкевича резолюции на своем рапорте о назначении Демченко в Планово-производственный отдел УСЛАГа в Кеми. После трехнедельного пребывания в санследизоляторе, по пришедшему из УРО наряду, Демченко по этапу отправили на новую должность в г. Кемь, почти последним пароходом. Так Демченко своим мужественными поступком, благодаря своей храбрости не только спасся от больших неприятностей, а может быть и от расстрела, но и выбрался с Соловков на материк.
На следующий год мы с Демченко очень тепло встретились в Кеми. Он выразил мне глубокую благодарность за материальную и моральную поддержку, которую я ему оказал, в санследизоляторе, а я умолчал о нерешительности его друзей.
ФИЛИППОВИЧ
Трагична оказалась судьба преемника Демченко, назначенного вместо него начальником ППЧ (Планово-производственной части), куренного (курень – по-украински полк; куренной атаман – командир полка - полковник) атамана Петлюровского войска Филипповича. Студент Института гражданских инженеров, не закончивший его вследствие мобилизации в первую мировую войну, Филиппович сидел в концлагере уже второй раз. Первый раз за вооруженную борьбу против большевиков в рядах Петлюровской армии, второй раз - за то, что уже раз сидел. На этот раз он имел десятилетний срок по 58 статье пункт 2 (вооруженное восстание).
Впервые мне пришлось с ним близко встретиться в начале января 1933 года, когда под следственный изолятор 3 части (ИСЧ) было отведено левое крыло (со стороны суши) первого этажа бывшей трехэтажной каменной гостиницы Соловецкого монастыря, в которой помещалось Управление соловецкого отделения. Я был вызван туда, как заведующий электросетями, для ознакомления на месте с переоборудованием электропроводки по тюремным нормам. Войдя в коридор первого этажа, я уже издали увидел голый блестящий череп Филипповича и его довольно круглое лицо над всей его коренастой фигурой, склонявшейся почтительно перед начальником Соловецкого отделения Солодухиным и начальником 3-й части. Последний давал указания Филипповичу, в каком месте оборудовать одиночные камеры, где общие, караульное помещение и т.п. Меня покоробило, с какой готовностью, наигранной веселостью, точно речь шла об организации увеселительного заведения, с большим подхалимством Филиппович воспринимал указания чекистов и тут же начальническим тоном передавал эти указания находившемуся тут же строительному прорабу, точно последний, по занимаемому им положению, был слишком низким человеком, чтоб получать указания непосредственно от чекистского начальства. Смотря на старания Филипповича, я вдруг вспомнил стихотворение В. Брюсова:
«Каменщик, каменщик в фартуке белом!
Для кого же ты строишь эту тюрьму?»
Увы, я оказался почти пророком, потому что Филиппович сам угодил вскоре в следизолятор.
Последний раз, после этого через месяц, я видел его в клубе вольнонаемных на концерте, даваемом силами заключенной самодеятельности для вольнонаемных. В клуб вызвали дежурного электромонтера для исправления повреждения. С электромонтером пошел и я, воспользовавшись благовидным предлогом чтоб проникнуть в буфет клуба, где буфетчиком работал знакомый мне довольно интеллигентный чистенький китаец, которого все звали Колей. Иногда мне удавалось у него купить, правда по баснословной цене, кое-какие крохи падающие со стола вольнонаемных. Эти покупки по калорийности были весьма ничтожны, но на фоне общего голода все же кое-что значили.
Электромонтер включил софиты, а я остался за кулисами. Филиппович пел арию князя Игоря из одноименной оперы Бородина: «О дайте, дайте мне свободу...», - приятным басом пел Филиппович, вкладывая в эти слова всю свою трагедию. По глубине переживаний, вкладываемых заключенным Филипповичем в эту арию с ним не мог сравнится ни один артист на воле, поистине со сцены звучал крик души истерзанной в неволе. Я был захвачен силой его пения и в душе простил его поведение при организации следизолятора.
На другой день после концерта на Соловки из Кеми прилетел самолет, который использовался в период закрытия навигации для доставки спешной служебной почты, главным образом смертных приговоров Коллегии ОГПУ находящимся на острове заключенным. В служебной почте оказалась порядочная нахлобучка Солодухину за невыполнение плана по ширпотребу за 1932 год. Козлом отпущения, как и предвидел Демченко, сделали начальника ППЧ. Филипповича тут же посадили в следизолятор, завели на него новое дело и он получил «довесок» в пять лет с содержанием на тяжелых физических работах. Последнее было хуже довеска.
Дальнейшая судьба Филипповича мне не известна, но надо полагать, что долго он не прожил, так как попал в число «ВРИДЛО». Такое словечко писалось в «сведение» тех заключенных, которые на себе, зимой на санях, летом на телегах, тащили под конвоем тоннами торф с торфоразработок в глубине Соловецкого острова на электростанцию более десяти километров. В ту зиму уже не было монастырской узкоколейки, по которой торф доставляли в вагонах на электростанцию. Ее сняли полностью и со всеми составами отправили в конце 1931 года на строительство Беломорканала. Лошадей также отправили по тому же адресу. На перевозке торфа работали здоровенные бандиты, привезенные на Соловки с дополнительными сроками заключения. Иногда я встречал эти поезда на людях, от которых на сильном морозе шел пар, как от загнанных лошадей. Допущенное мною сравнение вполне оправдывалось обозначением сокращенного названия «ВРИДЛО», что означало «временно исполняющий должность лошади».
ФРЕЙБЕРГ
Фрейберг Всеволод Юльевич, офицер гвардейского Гренадерского полка, был сыном шефа (начальника) корпуса жандармов, однако ничего полицейского в нем и помину не было. Это был высокоинтеллигентный, образованный, но недалекий человек, только выправкой похожий на офицера, а в глубине души не обладавший главным, присущим Русскому офицеру, качеством - отвагой. Скорее он был даже трусоват и в силу даже этого своего качества уже не мог быть опасен для большевицкой диктатуры. Как особо отважный поступок из своей биографии он вспоминал, как однажды на вечеринке, когда он был обыкновенным советским служащим, в компании других офицеров Русской армии, выйдя в другую комнату, запели советскую песнь, переставив в припеве «вся наша жизнь борьба», слово «борьба» на «буза». «И довольно громко спели», - подчеркивал Фрейберг, тем самым желая подчеркнуть свою особую храбрость.
И все же он был арестован ОГПУ в 1927 году, по так называемому «Войковскому набору», когда большевицкая верхушка в виде мести за убийство советского полпреда в Варшаве Войкова, обрушила массовые репрессии на ни в чем неповинных людей, сажая офицеров Русской армии только за то, что они офицеры. Излишне говорить, что Фрейберг был заключен в лагерь по 58 статье сроком на 10 лет.
В лагере, после первого везения, карьера его сломалась. Вероятно, как совершенно безобидного каэра его допустили быть главным бухгалтером Водного транспорта на Соловках. Тут у него вышла крупная неприятность. В чем именно она заключалась, он мне никогда не говорил, но мне стало известно об имевшей место большой недостачи грузов и судового инвентаря на пароходах лагерной флотилии. Команды судов комплектовались только из уголовников и бытовиков. Каэры, за исключением морских офицеров, заканчивающих срок, в море не допускались. Уголовники и отчасти бытовики способны были на воровство и на всякие махинации, незнакомые честному человеку Фрейбергу. Пароходы флотилии заходили во все порты Белого моря, где команды общались с вольными гражданами, спуская наворованные грузы и судовой инвентарь за водку, которую частично привозили как контрабанду, на Соловки и еще раз «зарабатывали», продавая заключенным за сто рублей литр. Отыгрались на Фрейберге, как на каэре и офицере, и хотя «довеска» он и не получил, но ему было запрещено занимать бухгалтерские должности и его перевели в рабочую, 14 роту, с содержанием на общих работах.
Познакомился я с Фрейбергом, когда после длительного пребывания его на общих работах, Данилову удалось вытащить его на электропредприятия, назначив на свою бывшую должность делопроизводителем. С первого же знакомства Фрейберг почувствовал ко мне большую симпатию и постепенно я ответил ему взаимностью. Он был старше меня на 20 с лишним лет и все свое нерастраченное чувство отцовства он перенес на меня. У него была жена, вдова его друга с ребенком, на которой он женился незадолго до ареста, и своих детей не имел. При некоторых недостатках Фрейберга, он многое скрасил в моей повседневной лагерной жизни, заботясь обо мне, как о родном сыне. Если Боролин больше заботился о моем материальном благополучии, то Фрейберг, в силу отсутствия какого-либо веса в лагерной администрации, мог только заботиться обо мне духовно, за что я ему был всегда благодарен. Но иногда ему удавалось сделать для меня приятное и в чисто житейском разрезе нашего быта. Состоя в санактиве, он часто отмечал мне в моей санкнижке о прохождении мною санобработки, которую пытались все избежать из-за унизительной процедуры стрижки волос под машинку во всех местах.
Отлично зная вспыльчивый характер Фрейберга, я старался никогда не спорить с ним, по возможности выполняя все его советы, которые он считал обязательными для моего благополучия. Все же однажды между нами вышел крупный конфликт, который он потом постепенно забыл, и прежнее его благоволение ко мне не изменилось. Собственно не я даже поспорил с Фрейбергом, но я не взял его сторону, считая его поведение неуместным, и еще оттого, что в тяжелый для меня момент служебных неприятностей, который совпал с ссорой Фрейберга с моим контролером, мне было ни до чего, ни до этой, с моей точки зрения, пустяковой стычки. О вспыльчивости Фрейберга, граничащей с сумасшествием, когда в состоянии аффекта он мог причинить непоправимый вред своему оппоненту, а, следовательно, и себе, я узнал еще раньше во время ссоры с ним, ставшего к тому времени старшим бухгалтером электропредприятий Гейбеля. Возможно эта ссора и послужила причиной перехода Фрейберга на работу делопроизводителя-счетовода в «Утильсырье», потому что на электропредприятиях он проработал недолго.
С уходом Фрейберга на другое предприятие наша взаимная привязанность ничуть не ослабела, а даже окрепла. В свободное от работы время, по вечерам, он всегда бывал со мной и моими молодыми друзьями, всегда ужиная с нами, принимая деятельное участие в складчине, которую мы делали для изготовления ужина из продуктов, полученных в посылках или добытых по спекулятивным ценам нелегально на каком-нибудь продовольственном складе. Наше совместное по вечерам питание прервалось из-за вышеописанной ссоры Фрейберга с моим контролером, когда я не принял сторону Фрейберга. Он, как обиженный ребенок забирает свои игрушки, уходя от нас забрал свои кастрюльку и чайник, дав тем самым мне вещественно понять о полном разрыве со мной, как он думал обиженный в первые минуты после ссоры.
Конечно, как и мы все заключенные, пережившие арест, допрос, получившие максимальный срок заключения, Фрейберг был неврастеник. Но кроме неврастении, мне кажется, вдобавок он имел еще и неуживчивый характер. После «медового» месяца на Утильсырье, во время которого он восторгался своим заведующим, я стал замечать что Фрейберг как-то тяготится своей новой должностью и в разговорах все больше и больше он охарактеризовывал своего заведующего как малоприятного типа. Последний был вполне интеллигентным человеком и ни от кого другого я не слышал плохих отзывов о нем. Я искренно любил Всеволода Юльевича и это обстоятельство вызывало во мне некоторую тревогу.
Вскоре я не на шутку переполошился за Фрейберга, когда он вдруг мне объявил, что вся канцелярщина ему надоела и он переходит учеником к водопроводчику. Может быть, действительно и неудача в Водном транспорте и ссора с Гейбелем и трения в Утильсырье сделали для него канцелярию отвратительной и он хотел найти успокоение в физическом созидательном труде? Но я не мог себе представить стареющего, вылощенного, гвардейского офицера с холеной бородкой, несмотря на лагерные трудности всегда в белом воротничке, который он сам стирал, и галстучке бабочкой, кокетливо выглядывавших из не застегнутой до ворота хорошо пригнанной гимнастерки заключенного, ходившего не иначе, как опираясь на великолепную черной лакировки тросточку с набалдашником из слоновой кости, на котором так впечатлительно проецировались пальцы с длинными чистыми ногтями, возящегося с ржавыми трубами и фитингами, замаранного грязью копаемой из канавы или сточными водами! Фрейберг не имел и не мог иметь понятия о трудности работы рабочего-металлиста, как это знал я, начавший свою лагерную карьеру с рабочего при кладовой электропредприятий. «Знать какое-нибудь ремесло не плохо», - твердил мне Фрейберг на все мои возражения, но, в конце концов, он сдался на мои уговоры и водопроводчик венгр Ким, с которым я сидел вместе еще в Бутырской тюрьме, в одной камере, и, который в лагерях продолжал поддерживать со мной дружеские отношения, был весьма разочарован непостоянством увлечений русского интеллигента, тем более что с Фрейбергом он познакомился через меня.
Все же другому переходу Всеволода Юльевича на физическую работу, который он сделал позже, весной 1933 года, я не успел помешать. Он поставил меня в известность о переходе его в рыболовецкую бригаду на Муксалму, когда уже был выписан на него наряд в УРЧ и завертелось приказное лагерное колесо, которое повернуть вспять, даже если бы по моему увещеванию Фрейберг и захотел бы, уже не представлялось возможным. Тепло попрощавшись со мной, Фрейберг пошагал с вещевым мешком за плечами, опираясь на свою трость в этапе на Муксалмский лагпункт, окруженный конвоем с привычной командой: «Шаг вправо, шаг влево считается за побег, конвой стреляет без предупреждения»!
Поразмыслив над случившимся, я решил, что ради горячо-любимого мною человека, я не стал бы отговаривать Фрейберга от этого шага. Я чувствовал все более ухудшающееся состояние его нервов, требовавшее перемены обстановки. Зимовка 1932-33 годов на Соловках была ужасающая по степени голодания заключенных. Срезанный и без того голодный паек, перекрытие всех нелегальных каналов добывания продуктов, делали положение, даже высоко-стоящих на иерархической лестнице, заключенных отчаянным. Делясь с Фрейбергом скудными запасами, имевшимися у меня от засланных мне матерью в навигацию 1932 года посылок, я не мог все же спасти от голода ни себя, ни Фрейберга. Он сильно исхудал, ослабел, на ходьбе у него дрожали ноги. Дополнительное питание рыбой, которая всегда оставалась у рыбаков после сдачи лова, было действительно, казалось мне, спасением для Фрейберга. В это время о себе я не думал, но разлука с Всеволодом Юльевичем была для меня морально тяжела, так как я уже привык в течение нескольких лет ощущать локоть старшего друга.
Мой прогноз в отношении пользы для Фрейберга перехода в рыбаки вполне подтвердился, когда перед самым открытием навигации, в начале июня 1933 года, он неожиданно ворвался к нам, в электромонтажную мастерскую, приехав в командировку из Муксалмы в часть снабжения за новыми сетями. Вид у него был жизнерадостный, бодрый, никакой физической усталости и в помине не было. Он заметно поздоровел, загорел и не выглядел таким истощенным. Он был все таким же изящным в белом воротничке и галстучке бабочкой, но без трости. «Рыбы у нас вот, - говорил он оживленно, проводя пальцем по горлу, - едим до отвала»! В условиях ужасного голода царившего в лагере, когда трупы заключенных не успевали убирать и можно было видеть в зубах умерших зеленую траву, которой они пытались хоть как-нибудь утолить голод, такая сытая жизнь, о которой рассказывал Фрейберг, была почти неправдоподобна и я только радовался за него. Не думал я тогда, что эти два дня, которые Фрейберг пробыл в командировке у нас в Кремлевском лагпункте, будут последним нашим свиданием. И хоть в лагере нельзя было поручиться о судьбе заключенного в течение последующих пяти минут, все же сердце ничего мне тогда не подсказало.
Менее чем через четыре месяца после этого неожиданного свидания с Фрейбергом, когда я уже был на материке в г. Кеми, меня вызвал к себе Боролин, вернувшийся из инспекционной поездки на Соловки. Оставшись со мной наедине в своем кабинете, Боролин сообщил мне о гибели Всеволода Юльевича на Муксалме. Разыгравшийся сильный шторм угрожал поставленным в море рыболовным сетям. Риск их спасения был так велик, что начальник лагпункта - чекист не решился в приказном порядке посылать заключенных в разбушевавшееся море и предложил это сделать добровольцам. Среди них в море пошел и Фрейберг. Через несколько дней на берегу начали находить трупы добровольцев, выброшенных морем. Всеволода Юльевича нашли лежащего ничком на прибрежном камне. Туловище более чем наполовину было в воде. Волна продолжала бить его лицом о камень. У него была раздроблена вся лицевая часть черепа. Очевидно он все же выплыл в ледяной воде, доплыл до этого камня и обессиленный уже не мог взобраться на него. А волны разбили ему череп о камень. Всеволод Юльевич просидел в лагере шесть лет, с зачетом рабочих дней ему оставалось сидеть в лагере еще около двух лет. Десятилетний срок заключения - смертный приговор в рассрочку сделал свое дело!
Невольно напрашивается вопрос: как могло получиться (если подойти к этому вопросу с марксистской точки зрения), что «классовый враг» сознательно пошел на верную смерть ради спасения имущества социалистического общества, строящегося «классом-антагонистом»? Марксист с узким взглядом догматической идеи классовой борьбы не сможет ответить на вопрос, не зная и не понимая существования реальных отношений между людьми и людей к материальным ценностям, в которых люди ценят не только их потребительскую ценность, но и свой или других людей труд, вложенный в создание этой ценности. Фрейберг воспитанный в достатке благодаря труду и главное бережливому отношению к создаваемым трудом ценностям своих предков на протяжении многих поколений, как и сотни тысяч крестьян, так называемых кулаков, построивших Беломорско-Балтийский канал и другие большие стройки социалистического общества, с молоком своих матерей всосали эту бережливость к плодам человеческого труда и необходимость трудится для создания новых материальных ценностей. Фрейберг органически, в силу передавшихся ему от предков привычек не мог допустить гибели имущества, и независимо от того, кому оно принадлежит, и пошел на смерть ради спасения его. И в этом свете чудовищной ложью являются марксистские догмы о возможности строительства социализма и даже коммунизма пролетариями, крестьянами, бедняками никогда не имевшими собственности, а потому и не смогшими унаследовать от своих предков бережливого отношения к плодам труда, даже собственного труда.
Фрейберг погиб героической смертью, героизм которой еще увеличивается отсутствовавшей в нем храбростью. Говоря словами большевицкой пропаганды Фрейберг стал героем труда, но о его самоотверженном поступке и поступке других, даже в чисто пропагандистских целях, как пример достойный подражания для других, в лагерной газете не было сказано ни слова. Если бы Фрейберг и другие добровольцы были бы уголовниками, которых классифицировали как социально близких рабочему классу, тогда бы все лагерные газеты превознесли их и не в одном очерке, как превозносился какой-нибудь уголовник, от скуки один день выполнивший норму на 105%, зато воровавший и бездельничавший в лагерях и на воле годами. А контрреволюционеров не только хвалить, но даже упоминать о них категорически воспрещалось, как будто они и не существовали в природе. А какой-то низкоразрядный чинуша в ОГПУ только перенес в архив дела погибших, даже не проявив положенной при этом радости по поводу гибели еще нескольких «классовых врагов».
ГЕЙБЕЛЬ
Гейбель Владимир (отчество я забыл) лет 45, тоже был посажен в лагерь по 58 статье и тоже на 10 лет. Был офицер Русской армии, но в нем ничего не было офицерского, может быть, вследствие той службы, которую он нес до революции, будучи чиновником Ведомства Императрицы Марии. Это было благотворительное учреждение, возглавлявшееся вдовствующей Императрицей Марией Федоровной, вдовой Александра III. Учреждение содержало приюты для сирот и богадельни для престарелых, заботилось об одиноких ветеранах войн, частично за счет доходов вдовствующей Императрицы, большей же частью за счет пожертвований частных лиц. Главной деятельностью служащих этого учреждения, в том числе и Гейбеля, носивших форму и имевших чины офицеров Русской армии, был сбор пожертвований у богатых лиц, фабрикантов, купечества и высокооплачиваемых чиновников министерств. Эта профессия наложила отпечаток на все манеры, обороты речи и внутреннее содержание Гейбеля. Обходительнейший человек, он в то же время был чрезвычайно настойчив в выполнении его желаний другими и буквально мог взять измором любого человека, добившись всего что ему нужно было для себя. Я не берусь утверждать, что кое-что из пожертвований, которые собирались этими чиновниками, прилипало к их рукам, но, видимо Гейбель, имея постоянно, хотя и свои деньги, привык жить, не стесняя себя ни в чем, и в условиях лагеря позволяя себе многое из того, что просто было не по карману другим, тоже на … чужие деньги. Со своими вкрадчивыми манерами Гейбель легко получал взаймы и никогда никому долга не возвращал. В построении фразы, подборе слов Гейбель доводил свою персону, и часто безо всякой нужды, до полного самоуничижения, вероятно, привыкнув к этому, когда являлся к богатым людям с нижайшей просьбой о пожертвовании учреждению в котором служил. Однажды, когда он уже был главным бухгалтером электропредприятий, Гейбель пришел радостный от начальника финчасти вольнонаемного Таровцева, которому удачно сдал месячный баланс электропредприятий. Входя в канцелярию он с порога всех оповестил: «Мы потрудились в этом месяце хорошо, как милостиво изволил заметить Фрол Никитич (Таровцев)»! Во второй половине этой фразы Гейбель был как в зеркале.
Усидчив Гейбель был до предела, проводя за своим столом часы сверх положенного времени, приходя раньше всех, сокращая обеденный перерыв, засиживаясь подчас далеко за полночь, углубленный в бухгалтерскую работу. Одетый всегда с иголочки, в хорошо пригнанном по нему обмундированию заключенного с галстучком бабочкой, в кожаных крагах на ногах, он был почти невиден за своим столом, обложенный стопками документов и бухгалтерских книг, в которых он проверял правильность сделанных его подчиненными записей. Он не доверял никому, а найдя ошибку или просто неясно написанную цифру, подзывал к себе провинившегося счетовода. «Золотце, - начинал он разговор, - ну кто же так делает»?! И дальше витиеватыми фразами, очень корректно, но с холодным блеском в глазах, от которого ежились его подчиненные, Гейбель указывал в течение долгого времени своему подчиненному и заканчивал всегда одной и той же фразой: «Не будем так делать». Эту фразу всегда с нетерпением ожидали и провинившийся и все остальные заключенные, сидевшие в канцелярии, так как своими монотонными длинными разглагольствованиями Гейбель действовал всем на нервы и просто мешал сосредоточиться над работой.
И все же эти сплошные сверхурочные часы, которые Гейбель проводил, сутулясь за своим столом, вызывались не столько необходимостью держать все записи в ажуре и до мельчайшей подробности контролировать записи всех счетных работников, сколько его внутренней потребностью одиночества, его нелюбовью общаться с другими заключенными. Второй и не менее важной причиной, по-видимому, его органической потребностью долгого сидения в пустой канцелярии, являлась для Гейбеля возможность мысленного удаления из действительности в мир воспоминаний. В транс он впадал и не только в отсутствие людей, а иногда и среди рабочего дня. Я замечал как останавливалась его рука с пером, он замирал в неподвижной позе с устремленными вдаль неподвижными, невидящими глазами.
«Забавно», - неожиданно раздавался голос Гейбеля в тиши скрипящих перьев и от звука собственного голоса Гейбель возвращался к действительности под недоуменные взгляды тех присутствовавших, которые слышали это в первый раз. Как-то раз находясь поздно вечером в канцелярии один на один с Гейбелем, когда неожиданно для меня в полной тишине прозвучало это «забавно», я не удержался спросить: «Что забавно»? Как, вероятно, смотрит на мир действительности загипнотизированный после окончания гипноза, так посмотрел на меня Гейбель. Это было единственный раз, когда я увидел его возможно подлинное лицо без маски, растерянное, озлобленное лицо, в противовес всегда беспристрастному, самоуверенному выражению лица. Гейбель страшно смешался, он забыл о моем присутствии и совсем сконфужено, тихо сказал: «Так, это ничего». Мне кажется, когда Гейбель погружался в транс, он вспоминал свои посещения гостиных пожертвователей, в которых он вел, в зависимости от культурного уровня хозяев, то салонный разговор, то рассказывал забавные историйки, чтоб расположить к себе неподатливых «толстосумов». Когда же дело к пожертвованию все же не двигалось и воцарялась тягостная тишина, Гейбель, чтоб хоть как-нибудь сгладить неловкость своего положения, произносил это слово «забавно», как бы желая воскресить в памяти хозяев рассказанное им смешное и еще раз попытаться расположить их на просимое им пожертвование. Пользование этим словом у него стало как бы условным рефлексом на неприятное положение, в которое он часто попадал как проситель и, когда Гейбель доходил в своих воспоминаниях до какого-либо случившегося с ним в прошлом казуса, это слово подсознательно вырывалось у него вслух.
Прямого и открытого Фрейберга, Гейбель особенно невзлюбил и частенько, сохраняя полной корректности выражение лица, остро язвил в его адрес. Не умевший управлять собой, вспыльчивый, но в тоже время не умевший изощренно-вежливо, но не менее обидно, ответить Гейбелю, Фрейберг или пасовал или грубил ему, а последний, всегда первым задиравший Фрейберга, всегда очень логично выставлял перед всеми себя обиженным и оскорбленным Фрейбергом. Свою способность корректно обижать человека Гейбель тренировал на Фрейберге, как на самом безобидном из своих сотрудников, в то же время не задевая, или задевая только вскользь и то редко других, не говоря уже о Данилове, которого он явно боялся, будучи в душе большим трусом. Но и с Фрейбергом Гейбель просчитался, доведя его однажды до крайности.
Я вошел в канцелярию, намереваясь пройти через нее с докладом в кабинет заведующего, когда ссора между Гейбелем и Фрейбергом достигла апогея. Бледный Гейбель весьма корректно, но очень колко отвечал Фрейбергу, который кричал уже что-то нечленораздельное, потрясая кулаками. Канцелярия была полна и счетными работниками на своих местах и пришедшими по делам заключенными из служб электропредприятий. Я не сомневался в виновности Гейбеля в возникшей ссоре, но не знал, как утихомирить Фрейберга, считая что все равно Гейбель, при его искусстве, обрисует потом Фрейберга как виновника. Я услышал, как Фрейберг крикнул: «Подхалим! Как милостиво изволил заметить Фрол Никитич»! - в точности воспроизведя шедевр витиеватого подхалимства Гейбеля. Это единственный раз за все время как Фрейберг действительно остроумно уязвил Гейбеля. Что это было действительно так показали покрасневшие уши Гейбеля. «Здесь вам не водный транспорт», - бросил Гейбель, попав в самое больное место Фрейберга. Последний схватил стул и бросился к Гейбелю, чтобы со всей силой обрушить его на противника. Не успей я схватить сзади стул за перекладину Гейбель если бы и не был убит, то полным инвалидом Фрейберг его бы сделал, поскольку Гейбель не успел бы отскочить, засунув далеко под стол свои ноги. Фрейберг обернулся в мою сторону, желая узнать причину задержки стула в воздухе. На меня глянули совершенно безумные глаза готовые и меня испепелить за непрошеное вмешательство. Между нами завязалась борьба за стул. Многие успели сделать живую стену между ссорившимися. Фрейберг как-то сразу ослабел, сел на подставленный ему тот же стул и зарыдал. Все были потрясены дикой сценой и молчали. Фрейберг успокоился и сел за свой стол. Уже я хотел идти в кабинет заведующего, который уже повернулся чтоб войти к себе, как вдруг раздался совершенно ровный, без тени дрожания голос Гейбеля: «Прошу всех остаться, я не могу оставить без последствий дикие выходки господина Фрейберга и прошу всех присутствующих осудить поведение господина Фрейберга и потребовать от него извиниться передо мною», - и далее Гейбель со свойственным ему искусством логично излагать свою мысль изобразил Фрейберга самыми черными красками. Видевшие их обоих впервые и не знавшие ни Гейбеля, ни Фрейберга, как знали их обоих все присутствовавшие, безусловно сочли бы Гейбеля обиженным ангелом, а Фрейберга самым низким человеком, так ловко построил свою речь Гейбель. Однако последний просчитался, его изучили, как изучили уже и Фрейберга. Ледяное молчание последовало в ответ. Гейбель помолчал и задал вопрос: «Так как же»? В ответ все стали расходиться, не глядя на него. Осужденный молчанием оказался не Фрейберг, а Гейбель.
К концу первой пятилетки, в 1932 году, количество заключенных в лагеря ОГПУ настолько увеличилось, что, несмотря на открытие новых бесчисленных лагерей, на территории их просто стало тесно. Кроме того система эксплуатации подневольного труда показала прибыльность лагерей и, чтобы еще более поднять эту статью дохода государственной казны, получить дополнительные возможности для индустриализации страны все убыстряющимися темпами, ОГПУ было поручено пересмотреть состав заключенных с тем, чтобы освободиться от балласта, то есть заключенных, доведенных, бесчеловечной эксплуатацией при голодном пайке в течение ряда лет, до полной инвалидности, при которой они уже не могли выполнять нормы и содержание их могло принести только убыток. По всем лагерям в 1932 году были проведены медицинские комиссии разделившие заключенных на пять категорий по физическому их состоянию. В IV категорию попали те заключенные, которые могли быть использованы на любых работах, вплоть до подземных. III категория исключала только подземный труд. II категория могла быть использована на легких физических работах, включая сельское хозяйство, обрубку веток на лесозаготовках и т.п. II отдельная включала заключенных-инвалидов годных для работы в канцелярии, дневальных, сторожей. I категория составляла инвалидов требующих за собой ухода. I категория сразу же была освобождена из лагеря с высылкой на «вольное» поселение в Мезенский район в Северо-восточном углу Белого моря. На «вольной» высылке они должны были отбыть недосиженный в лагере срок. Со II отдельной категорией получилось сложнее. Несмотря на жесткий подход комиссии, в списках II отдельной оказалось такое количество заключенных, что на всех в лагерях не хватало работы канцеляристов, дневальных, сторожей. Фактически от главного балласта лагерям освободиться не удалось. Тогда Коллегия ОГПУ дала распоряжение освободить из лагерей, выслав на вольное поселение за Полярный круг всех заключенных II отдельной категории, отсидевших более половины своего срока, невзирая даже на статью 58. Освобождение из лагерей на вольное поселение, в особенности инвалидов I группы, обрекало их на верную смерть в тундре необжитого Мезенского района. II отдельная категория имела еще шансы там выжить, зарабатывая чем-то на жизнь. Лично я тогда получил II отдельную категорию по состоянию здоровья, хотя мне от роду шел только двадцать седьмой год, но за три года в лагере я уже был настолько измотан. К счастью, хотя это слово звучит парадоксом, я не был освобожден из лагеря, поскольку отсидел из десяти лет данного мне срока заключения только три с лишним года и остался я с голодным, но все же определенным, пайком и крышей над головой, чего бы я не имел в тундре на «вольном поселении» и вряд ли там выжил бы.
Гейбель получил II отдельную категорию и, поскольку с 1927 года отсидел в лагере больше половины срока, был включен в этап, посажен на баржу и морским путем с Соловков отправлен в Мезень. Получив освобождение из лагеря на таких условиях, Гейбель упал духом. Куда делись его обычное хладнокровие и самоуверенность. Он еще больше сгорбился, нам стало даже жаль его. С двумя чемоданами он шел в веренице инвалидов поднимаясь по трапу на баржу в каком-то легком дрянном пальтишке, которое так не гармонировало с теплой меховой ушанкой на голове. Только немногие шли в лагерной одежде, у которых совершенно нечего было одеть и им начальник отделения пожертвовал изношенное всё в заплатках лагерное обмундирование. Остальные, оставив в лагере всё здоровье, даже и этого не заслужили и поехали за Полярный круг в легком одеянии. Дальнейшая судьба Гейбеля мне не известна.
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ЗИБЕРТ
Александр Федорович Зиберт, офицер Русского Флота, был посажен в Соловецкий концлагерь по 58 статье в 1926 году в возрасте около 30 лет. Для него, круглого сироты, морской кадетский корпус, а затем военно-морской флот стали с детства родительским домом, а кадеты и экипаж корабля стали его семьей. Выпущенный из корпуса в 1913 году гардемарином, Зиберт окончил электро-минную офицерскую школу в Кронштадте и первую мировую войну встретил на броненосце «Слава» офицером электро-минной службы и командиром одного из плутонгов (плутонгом называется артиллерийское орудие расположенное в борту военного корабля и вращающееся либо в башне, либо в прорези борта). Благополучно провоевав всю первую мировую войну, избегнув офицерской резни в февральскую и октябрьскую 1917 года революций, Зиберт остался служить в Красном Балтийском военно-морском флоте. После отступления армии Врангеля из Крыма совместно с Черноморским флотом заграницу в 1920 году, Зиберт был переведен в Севастополь, где принялся за создание Красного черноморского флота. Сначала Зиберт командовал бригадой минных тральщиков, имея в подчинении только одного морского офицера, будущего писателя Леонида Соболева, затем он был назначен флагманским минером Красного черноморского флота.
На этом посту Зиберт и был арестован ОГПУ в числе многих офицеров русского военно-морского флота служивших на Красных флотах Черноморья и Балтики. Аресты были произведены чтобы освободить места для первых выпускников Высшего военно-морского училища им. Фрунзе, морских командиров-коммунистов, которые, по мнению большевицкой верхушки, должны были быть надежнее для диктатуры, чем офицеры Русского флота. Последние заново создали Красный Черноморский флот и в «благодарность» их, вместо того чтобы уволить их с почетом, уж если надо было дать места партийцам, засадили в концлагерь на 10 и 5 лет, на страдание, на смерть. Зиберт получил 10 лет концлагеря.
В концлагере на Соловках Зиберт оказался в несколько лучшем положении чем остальные морские офицеры, как специалист-электрик. Возглавив сначала бригаду электромонтеров, а потом заняв должность заведующего электросетями Соловецкого острова, Зиберт реконструировал электрические сети в связи с возрождением и расширением монастырского производства. Заведывание электросетями поставило его в ряды административно-технической элиты концлагеря.
Занимая в общежитии электропредприятий один маленькую каморку, служившую ему и рабочим кабинетом, Зиберт мало общался с заключенными, проживавшими в этом же общежитии, в том числе и со мной, предпочитая либо одиночество, либо общение с морскими офицерами знакомыми ему по кадетскому корпусу и по службе на флотах. Только когда в 1931 году я был назначен контролером электросетей в его непосредственное подчинение, я стал ближе узнавать его. Когда же нас переселили в другое здание и, Зиберт, присмотревшись ко мне, поселил меня в одну комнату с собой, я еще лучше узнал его.
Сиротство с детских лет и вытекавший из этого образ жизни, который вел Зиберт в зрелые годы, наложили глубокий отпечаток на его характер. Зиберт был очень скрытным, малоразговорчивым, ровным в обращении со всеми, никогда не проявлявшим каких-нибудь эмоций. Рассказывал о жизни на флотах, как Русском, так и Красном, мало, но так образно, что из этих отрывочных скупых рассказов создавалась довольно ясная картина быта на флоте и его собственной жизни. Зиберт был холост и никогда не имел квартиры на берегу, куда съезжал с корабля только повеселиться. Сначала кадетский корпус, а потом каюты кораблей, на которых он служил, были его постоянным местопребыванием. Зиберт проводил интересную параллель между традициями Балтийского и Черноморского военно-морских флотов. На первом все холостые офицеры вели такой же образ жизни как и Зиберт, на Черноморском флоте наоборот офицеры являлись на корабль только в часы вахты и на занятия. Остальное время все офицеры проводили на берегу в своих квартирах.
В детстве и отрочестве кадетский корпус, в молодости корабельная кают-компания и денщик, а в Красном флоте тот же денщик под названием связной, обеспечивали Зиберта всем необходимым в повседневной жизни. В концлагере паек на кухне электропредприятий, лагерное обмундирование и крыша над рабочим кабинетом давали возможность Зиберту как-то жить не заботясь о себе. Зиберт был на редкость не приспособленным к жизни, ему совершенно необходимо нужна была «нянька». Эта неприспособленность и полное отсутствие умения что-либо сделать для самого себя бросилась мне в глаза, когда мы стали жить в одной комнате. Если кто-либо ему не захватывал завтрака с кухни, он мог и не завтракать, заменив его лишней скруткой махорки. При малокалорийном полагавшемся двухразовом питании, все как-то старались еще чего-нибудь, когда легально и нелегально но достать продуктов, поесть или сготовить вечером. Зиберт никогда об этом и не помышлял и пил кипяток с куском хлеба и то тогда, когда кто-нибудь позаботился предварительно вскипятить чайник и предлагал ему. По этой же причине Зиберт одевался крайне неряшливо, совсем не замечая этого, пока кто-либо не приносил ему выстиранную гимнастерку или не выхлопатывал ему нового обмундирования.
При моем прибытии в концлагерь «нянькой» у Зиберта был контролер электросетей Александр Иванович Симонов, сидевший тоже по 58 статье, с которым я невзначай встретился, уже работая на электростанции, после долгого перерыва времени, когда мы с ним, будучи детьми играли вместе, поскольку наши родители были соседями по квартире. Правда его услуги Зиберт принимал всегда скрипя сердце, он не любил и тени подхалимства, но все же принимал, сознавая в глубине души свою беспомощность. Я уже жил в общежитии электропредприятий, когда увидел способности Симонова в роли няньки Зиберта.
Зиберт был безусловно пьяницей и не мог себе отказать в удовольствии, когда представлялся случай, изрядно выпить, хотя это было сопряжено с большим риском сломать всю свою лагерную карьеру и угодить в штрафизолятор, поскольку в концлагере был сухой закон, не только для заключенных, но и для вольнонаемных.
Летчиком гидросамолета, поддерживавшего связь в экстренных случаях между Управлением СЛАГа в Кеми и Соловецким отделением лагеря был военно-морской летчик, офицер Русского флота, Бекман *. В первую мировую войну Бекман переквалифицировался из морского офицера в военно-морского летчика, затем служил в Красном военно-морском флоте и был посажен в лагерь вместе с Зибертом и другими морскими офицерами. Получив пять, а не десять лет, Бекман был уже освобожден из лагеря и летал вольнонаемным летчиком. Обычно у Бекмана на гидродроме в его комнате и собирались для попоек, хотя и редко, морские офицеры, и заключенные, и уже отбывшие свой срок заключения, но оставшиеся вольнонаемными и плававшими, капитанами, на судах лагерной флотилии. Место было абсолютно безопасным, так как на территорию гидродрома не допускались ни патрули, ни оперативники ИСЧ; там была своя охрана, подчиненная только вольнонаемному начальнику гидродрома, тоже принимавшего участие в попойках. К Бекману и ходил иногда Зиберт, откуда возвращался в общежитие под утро, еле на ногах, под «конвоем» кого-либо из капитанов флотилии для безопасности от патрулей на лагерной территории.
В тот раз, о котором я хочу рассказать, Зиберта под руки привели в общежитие уже два капитана и притом очень поздно утром, почти среди бела дня. Зиберт был без памяти не только от опьянения, но и от отравления денатуратом, которым восполнили недостаточный, по мнению пьяниц, запас водки, тайно привезенной Бекманом в очередной полет. На истощенного Зиберта денатурат подействовал убийственно. К счастью пьяного Зиберта никто из монтеров и проживавших в общежитии заключенных, которые все были уже на работе, не видел. Но перед его нянькой Симоновым и заведующим электромонтажной мастерской бывшем заключенным, оставшемся вольнонаемным, литовцем Тарвойном стала задача: что делать с Зибертом? Обратиться в госпиталь для спасения жизни Зиберта, значит самим его толкнуть в штрафизолятор. Не обратиться за медицинской помощью – Зиберт совсем перестал подавать признаки жизни. И вот Симонов принял отчаянное решение попробовать спасти Зиберта молоком, как противоядием. Последний продукт был остродефицитным, так как удой нескольких коров Сельхоза шел исключительно семьям вольнонаемных чекистов. Но Симонову все же удалось достать в Сельхозе, находившемуся через дорогу от электромонтажной мастерской и общежития, бидончик молока и стал им отпаивать Зиберта. Молоко, как противоядие помогло, и жизнь Зиберту Симонов без огласки спас. Кое-кто из заключенных проживавших в общежитии вечером догадался о перепое Зиберта, но порядочных людей среди сидевших по 58 статье было подавляющее большинство и на Зиберта чекистскому начальству не донес никто.
Неприспособленность Зиберта к жизни, которую он прекрасно сознавал, особенно ярко проявилась в момент получения им известия о его близком освобождении из лагеря. Безусловно волевой человек, и виду никогда не показывавший как действуют на него тяготы лагерной жизни, Зиберт так растерялся в преддверии близкой свободы, что не был похож сам на себя, как будто перед нами был совершенно другой человек. На нем лица не было, он ничего не мог делать по службе, долго сидеть на одном месте, вскакивая, и не зная куда идти. Вероятно он легче воспринял бы «довесок» к сроку, чем это изменение в своей жизни. Освобождение из лагеря для Зиберта означало не только самостоятельность в своих поступках, но главное, что и страшило его, в заботе о повседневной жизни своей, от чего он был избавлен в течение всей предшествующей жизни. После долгих раздумий перед Зибертом мелькнул просвет: а нельзя ли ему устроиться плавать на судах лагерной флотилии? Тогда снова столование в кают-компании, крыша над головой в каюте.
В ближайший выходной день (надо было спешить пока не откроется навигация и Зиберт, как краткосрочник не будет выведен в этапе на материк) мы с ним пошли на квартиру к капитану парохода «СЛОН» Ивану Ивановичу Каулину, очень пожилому финну, командовавшим этим же пароходом еще у монахов. Каулин никогда не был заключенным, а вместе с пароходом перешел на службу от монастыря в УСЛОН.

В центре Иван Иванович Каулин
Проживал он на Соловках с семьей, ютясь в одной комнате в общежитии для вольнонаемных в здании бывшей монастырской гостинице для паломников. Общаться заключенным с вольнонаемными было очень строго воспрещено, но мы с Зибертом пошли к Каулину совершенно спокойно под видом осмотра электропроводки. Каулина с семьей мы застали за утренним чаем, у них в гостях был и старший помощник Каулина Александр Александрович Капков, офицер торгового флота, тоже никогда не бывший заключенным. Каулин принял нас радушно, нас усадили за чай и Зиберт изложил свою просьбу взять его вторым помощником на пароход «СЛОН». Каулин был тугодум, ему надо было время, чтоб обдумать неожиданную просьбу Зиберта и, в конце концов, он может быть и взял бы Зиберта. Все дело, без всякого злого умысла, испортил Капков, сам страшный пьяница. «Зибка (уменьшительное от фамилии Зиберт, как звали последнего в тесном кругу морские офицеры), - неожиданно выпалил Капков, - да если мы вместе с тобой будем плавать, мы же окончательно сопьемся»! Каулин без раздумья отказал Зиберту.
Капков не погиб от пьянства, он был убит в первый день второй мировой войны при переводе этапа заключенных в одно из северных отделений концлагеря западнее Мурманска на побережье Ледовитого океана. Капков плавал по-прежнему старпомом на том же пароходе, только переменившем название «СЛОН» на «Онегу». Писатель Каверин в своей повести «Семь пар чистых и семь пар нечистых» подробно описал смерть старпома Александра Александровича, сраженного пулеметной очередью с немецкого самолета, атаковавшего пароход в Ледовитом океане.
В мае 1931 года Симонов закончил свой трехлетний срок заключения в концлагере и получил новый приговор – ссылку на три года в Северный край, где он, судя по его письмам влачил потом очень жалкое существование, работая за гроши на лесоповале в каком-то глухом месте восточной части Архангельской области, так как ссыльным не разрешалось жить в городах и работать по специальности. С освобождением Симонова и назначением меня на место контролера электросетей автоматически роль «няньки» Зиберта перешла ко мне. И вот тогда, узнав Зиберта ближе, я был поражен одаренностью его натуры.
У Зиберта был талант живописца; в других условиях, он вероятно хорошо рисовал бы маслом, а на Соловках, правда очень редко, он преподносил нам мастерски исполненные тушью портреты окружавших его заключенных и ландшафты северной природы. Превосходным он был и карикатуристом. Его карикатуры и дружеские шаржи на персонал электропредприятий, иногда выполненные акварелью, украшали стенгазету электропредприятий, а художественно выполненные им заголовки стенгазеты способствовали немало получению первого приза на конкурсах стенной печати. По художественному оформлению стенгазет с Зибертом мог только конкурировать офицер Русского военно-морского флота заключенный старший лейтенант Свинцицкий, работавший в Водном транспорте и оформлявший там же их стенгазету. Свинцицкий был тоже большой художник, хотя имел только один глаз. Второй он потерял в Цусимском бою. О Свинцицком ** очень тепло написал Новиков-Прибой в своей книге «Цусима», включая эпизод потери глаза вследствие тяжелого ранения в голову. Новиков-Прибой успел написать до ареста Свинцицкого и заключения его в концлагерь на 10 лет по 58-й статье, иначе бы писателю пришлось бы или изменить фамилию героя или даже выпустить весь эпизод, так как цензура не пропустила бы упоминание о заключенном.
Зиберт был не только живописцем, но и талантливым музыкантом. Гитарой, с которой он не расставался, он владел не хуже Иванова-Крамского, выступая на концертах в Соловецком театре и в сольных номерах, и сопровождая разные номера самодеятельности. Иногда он аккомпанировал совместно с цыганом, венгерским коммунистом заключенным Рожаши, блестяще игравшим на скрипке. Однажды Зиберту пришло в голову овладеть новым для него музыкальным инструментом – балалайкой. Шутя, в течение одной недели, Зиберт на балалайке стал играть также виртуозно, как и на гитаре. Ни художественно, ни музыкального образования Зиберт не имел, он был самородком.
Познакомившись с Зибертом ближе, я понял причину его нелюдимости. В одиночестве он удалялся мысленно из действительности в воспоминания о прошлом, впадая как и Гейбель в своеобразный транс. Лучшим временем суток для Зиберта была ночь, поскольку ложился спать он всегда очень поздно, в три-четыре часа утра, просиживая неподвижно часами за своим столом при свете настольной лампы. Я не мешал ему, ложась спать рано и рано вставая, чтоб оберечь его утренний сон, который длился иногда и до 10-11 часов утра, делая всю текущую работу по электростанции сам. Глубина транса у Зиберта была настолько велика, что он совершенно забывал о месте своего пребывания и о времени суток. Однажды я проснулся от громкого стука в четыре часа утра. Открыв глаза, я увидел Зиберта сидящего за своим столом и преспокойно колющего маленьким молоточком косточки чернослива из съеденного нами накануне компота. Зиберт был прямо огорошен, услышав мой недовольный голос, и, вернувшись в действительность, смотрел на меня непонимающими глазами, как Гейбель после своего «забавно». Зиберт с извинениями, придя в себя, стал объяснять мне о том, что он совершенно забыл о моем присутствии в комнате и о времени суток.
По отношению к подчиненному ему контролеру Зиберт мало показывал себя начальником, почти не контролируя его повседневную работу и лишь давая отдельные задания. Но он не тепел запаздывания месячного отчета о расходе электроэнергии и, впрягаясь сам, мог до утра сам проработать, лишь бы первого числа сдать отчет в бухгалтерию электропредприятий. В то время как Боролин не любил особой самостоятельности своих подчиненных и всегда с удовольствием давал указания и разъяснения, очень помогая этим, Зиберт этого не делал. Он только раз по моей просьбе, проверил мою первую смету по производству электропроводки, а когда я обратился к нему вторично со второй сметой, он мне категорически отказал, заметив: «Так Вы все время будете ко мне обращаться? Так никогда не научитесь ничему»! Я больше со сметами к Зиберту не обращался, а передавал их для исполнения за своей подписью заведующему электромонтажной мастерской и все пошло у меня гладко и без помощи Зиберта.
Открылась навигация 1932 года. Зиберт был включен в первый же этап отправлявшийся на материк, как краткосрочник, подлежащий вывозу с Соловков. Мы собрали его скудные пожитки в один чемодан, с которым и проводили до ворот в порт, куда нас уже не пустил конвой. Зиберт был еще бледнее, чем всегда, расстроен, пальцами нервно пощипывал свою блондинистую бородку клином. Воспользовавшись служебным удостоверением контролера электросетей, я прошел через калитку на пристань, чтоб напутствовать Зиберта при погрузке этапа на пароход, на тот самый «СЛОН», на котором он мечтал плавать помощником капитана.
На пристани я увидел потрясшую меня картину. Этап для передачи морскому конвою готовил тот самый Шнейдер, который так жестоко три года назад встретил наш этап при прибытии в концлагерь из Бутырской тюрьмы. Шнейдера из Кемперпункта перевели на Соловки, чтобы удары его дрыном не так гулко отдавались в Финляндии, за границей. Все также он ковылял на перебитую ногу, все также был одет в форму помкомроты, все также размахивал дрыном, брызжа слюной из перекошенного от ярости рта. Объектом взрыва его бешенства оказался несчастный Зиберт, отвыкший за шесть лет от этапов, от унижающего человеческое достоинство обращения с заключенными в этапе. Дрожащим голосом, бледный как смерть, Зиберт пытался языком интеллигента что-то объяснить взбесившемуся еврейскому хаму. «Как фамилия?», - кричал Шнейдер. «Зиберт», - отвечал ничего не понимающий Александр Федорович. «У кого украл чемодан?», - орал Шнейдер, косясь на чемодан Зиберта, и, схватив Зиберта за грудь, угрожающе поднял дрын. Я подскочил к Шнейдеру: «Да ведь это же заведующий электросетями, как он мог украсть чемодан? Ведь он же не урка»! (Урка на лагерном жаргоне означал уголовника, вора, бандита).
К весне 1932 года разгул лагерного бандитизма достиг почти высшей точки. Зачисленные в «социально-близкие» (к пролетариату) уголовники совершенно распоясались, грабя чемоданы заключенных по 58 статье. Прикрывал грабежи и новый комсостав из уголовников, сформированный взамен комсостава из заключенных по 58 статье, во исполнение распоряжения Совнаркома, подписанного Молотовым, о запрещении заключенным по 58 статье занимать в концлагерях какие-либо административные должности. Ворон ворону глаз не выклюет, а потому новый комсостав, сам получая свою долю из награбленного, лишь формально боролся с воровством и вылазка Шнейдера против Зиберта была только желанием Шнейдера с шумом показать свою честность.
На возглас Шнейдер обернулся и выпустил бушлат Зиберта из руки. Шнейдер знал меня в лицо, как контролера электросетей. Я знал, судя по яркости освещения окна его каморки в пересыльной роте, что он пользуется электролампочкой большой недозволенной мощности, и, так как потребление электроэнергии на осветительные нужды было строго рационализировано, то поймай я Шнейдера с такой лампочкой и составь я акт, Шнейдер отсидел бы несколько дней за пережог электроэнергии в роте усиленного режима, то есть, по-простому, в карцере. Шнейдер тотчас же сообразил, что со мной не стоит ссориться, но все же, еще взбешенный, ткнул дрыном в чемодан Зиберта и спросил: «А почему он держит чемодан флагмина?». Действительно на крышке чемодана Зиберта было выведено жирными буквами несмывающейся краской слово «флагмин». Так сокращенно называлась последняя должность Зиберта в Красном Черноморском флоте – флагманский минер. Пришедший в себя Зиберт стал объяснять Шнейдеру происхождение надписи на чемодане, добавив что форма последнего соответствует габаритам казенной части торпедного аппарата торпедного катера, куда вставлялся его, Зиберта, чемодан во время учебных походов флотилии торпедных катеров. В двадцатых годах на вооружении флотов были торпедные катера-«москиты», английского производства, настолько малы по вместимости, что лишний человек с трудом умещался на месте команды катера, а о его вещах нечего было и думать и Зиберт, заказав этот злосчастный чемодан строго по размеру, возил в торпедном аппарате. Последние подробности в разговоре со Шнейдером были совершенно излишни, так как он ни одному слову не поверил, все же оставив Зиберта в покое.
Связь Зиберта со мной и после отправки его с Соловков не прервалась. Зиберту удалось в Кемперпункте попасть на электростанцию, а когда Боролин был переведен главным механиком СЛАГа в г. Кемь, он вытащил Зиберта в управление СЛАГа, создав для него должность заведующего электросетями всего СЛАГа, в какой должности Зиберт и освободился, оставшись вольнонаемным на этой же должности.
Увиделся я с Зибертом в первых числах следующего года, когда последним рейсом парохода «СЛОН» мне удалось, после трех с половиной летнего заключения на Соловках впервые вступить на материк в качестве командировочного. Мы очень тепло встретились; по указанию Боролина, Зиберт разбился в лепешку чтобы выполнить весь заказ Соловецкого отделения на электрооборудование, которое было остродефицитным и, тем самым, поднять мой личный престиж в глазах начальника Соловецкого отделения, дать мне больше шансов на последующие командировки на материк.
Встретившись еще раз с Зибертом в середине того же года, опять в г. Кеми, куда я был снова командирован с Соловков за электроматериалами, я поразился происшедшими с ним переменами. Освобождение, которого он так тогда испугался, придало ему жизнерадостность, необыкновенную энергию, он еще быстрее носился по делам, чем в предыдущий мой приезд. Питался он в столовой для вольнонаемных, где кормили очень недурно по тем голодным временам, хотя и там было два меню, получше для кадровых чекистов, похуже для вольнонаемных из бывших заключенных. Снимал Зиберт маленькую комнатушку у какого-то рыбака. Словом он вполне приспособился к самостоятельной жизни.
В конце 1933 года в УСЛАГе произошло сокращение штатов. Зиберт лишился своей должности и был уволен. Я видел его снова таким же расстроенным, как и полтора года назад перед отправкой с Соловков. Он снова испугался необходимости повседневной заботы о себе. Зиберт уехал из Кеми и я больше ничего не знаю об этом талантливом человеке, как сложилась его дальнейшая судьба.
***
Гейфель, Гейбель, Зиберт, Бекман, Фрейберг, несмотря на свои немецкие фамилии, были чисто русскими интеллигентами, поколениями впитавшими с молоком русских матерей все русское, усвоив вполне и образ русского мышления. Словом в них ничего не осталось немецкого, кроме фамилии, унаследованной от тех далеких предков, которые в XVIII веке переселились в Россию на службу Петру Великому и Екатерине Великой. И все же меня волнует один вопрос. Я не имею статистических данных, да они вряд ли и существуют, о проценте офицеров Русской армии с немецкими фамилиями служивших в Красной армии в числе тех 75% офицерского корпуса Русской армии, которые, как свидетельствует Троцкий в своем двухтомнике «Как вооружалась Революция» были командным составом в Красной армии и только 25% офицеров сражались в антибольшевицких армиях Колчака, Деникина, Краснова, Врангеля, Булах-Булаховича, Семенова и Пепляева. Почему офицеры Гейфель, Гейбель, Фрейберг, Зиберт, Бекман, Шульц и встреченные мною потом заключенными в лагерях бароны Будберг и фон Притвиц очутились в Красной армии, сражаясь против своих же коллег – офицеров, ставших по ту сторону баррикад? Не осталось ли в этих русских немцах какая-то наследственность от их далеких предков, которые покинули свою Родину, чтоб служить чужим царям, чуждому им народу честно, верой и правдой иногда даже во вред национальным интересам своих кровных братьев? Не этот ли глубоко заложенный в них дух ландскнехтов помешал им разобраться и определись свое достойное место на крутом повороте истории их новой Родины и также честно служить новым хозяевам большевикам, а не против них пойти, как служили их далекие предки, изменившие тогда своей родине?
Охарактеризованные в предыдущих рассказах заключенные по возрасту принадлежали к поколению, встретившего революцию в зрелом возрасте с, казалось бы, уже установившимися убеждениями и, тем не менее они приняли революцию, одни как неотвратимое зло, которому приходиться служить, притом служить предано и честно, как служили монархии и России они сами и их предки, другие, настроенные аполитично, не поняли значения революции и не заметили происшедших коренных перемен, но от этого служили не менее честно большевикам. Но и те и другие не избежали общей участи и на равной ноге оказались в концлагере.
Перечисленные выше лица были типичными представителями той основной массы заключенных, которые привозились в концлагерь во второй половине двадцатых годов. Но немногие из этой массы, только те, которые имели определенную квалификацию в технике, могли выйти в элиту лагеря, пользовавшейся некоторыми бытовыми привилегиями. Основная же масса в меньшинстве прозябала за канцелярскими столами, в большинстве была на общих работах. К сожалению из последней категории я мало кого знал близко, из них никто особо не врезался мне в память, а потому материала для индивидуальных характеристик лиц из этой категории, находившейся постоянно на общих работах у меня нет и о них я подробно рассказать не могу.
ГАРРИ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
На пороге тридцатых годов и в начале тридцатых годов в связи с проведением принудительной коллективизации крестьянских хозяйств в концлагерь по 58 статье и по Указу от 8/VIII 32 года массами стали прибывать крестьяне, так называемые кулаки и подкулачники. Вместе с ними концлагерь стал пополняться высококвалифицированными, высокооплачиваемыми промышленными рабочими. Социальный состав заключенных резко изменился, интеллигенция потонула в этой массе и тем скорее ей удавалось, особенно инженерам, выходить в элиту лагеря. Пропасть между элитой и основной малокультурной массой заключенных все более расширялась, напоминая тот разрыв, который существовал до революции между интеллигенцией и простым народом. Поскольку к этому времени лично я уже отчасти принадлежал к лагерной элите мне трудно правдиво передать характеристику заключенных крестьян и рабочих, не сталкиваясь с ними в быту в стенах барака. Я могу дать только поверхностные характеристики этой части заключенных в дальнейшем в связи с разными событиями моей лагерной жизни.
С 1931 года в концлагерь по 58 статье начали прибывать, хотя и в одиночку, члены партии большевиков, даже не так называемые троцкисты, которых всех пересажали еще в конце двадцатых годов. Одинаковая с князьями и дворянами участь прибывавших партийцев вызвала глубокое изумление у нас, у заключенных, и мы смотрели на них со смешанным чувством непонимания и опаски.
Одним из таких партийцев, врезавшимся мне в память, был известный в то время корреспондент газеты «Известия» Гарри. Он прибыл в лагерь на Соловки в 1930 году, обвиненный чуть ли не по всем пунктам 58 статьи от вооруженного восстания против советской власти до саботажа и приговоренный к расстрелу, который был ему заменен 10 годами заключения в концлагере. Щупленький брюнет с относительно большой головой, большими черными глазами, довольно смуглой кожей, Гарри смахивал на молдаванина или румына, но безусловно в его жилах текла и цыганская кровь. Очень подвижный, властный по натуре, он как-то умел навязывать всем свою точку зрения и, даже волю, как само собой разумеющееся и, ни в коем случае, никем неопровержимое. Все это делало его довольно неприятным типом, несмотря на безупречную вежливость и обаятельные манеры при деловых разговорах.
По его хватке, а также отчасти по его рассказам о себе, можно было вывести о его большой склонности к авантюризму. С Гарри надо было быть очень осмотрительным, чтоб не быть завлеченным к какую-нибудь авантюру, от которых он и в лагере не мог удержаться. Мое знакомство с ним произошло, когда он был назначен цензором КВБ (культурно-воспитательное бюро) Кремлевского лагпункта на Соловках. Я не знаю сколько времени его держали на общих работах, или как коммунист, он их миновал, но факт остается фактом, что уже в 1930 году он сменил чекистку Лобанову на должности цензора. Последнее тоже было необычным, так как 58 статью и близко не подпускали к культурно-воспитательной работе, а тем более на должность цензора, которое занимали исключительно только чекисты заключенные или вольнонаемные-штрафники.
Для характеристики Гарри я остановлюсь поподробнее на первом приеме у него, на который я попал, как редактор стенгазеты «Электропредприятий» с заметками на цензуру для очередного номера стенгазеты. Впечатление, которое Гарри произвел на меня в этот прием, пожалуй, является наиболее точным, поскольку у меня не могло быть никакого при этом свидании предвзятого мнения. Я не знал, что Гарри коммунист, что он корреспондент «Известий», я даже не знал его фамилии. Я пришел в цензуру КВБ, куда я ходил обычно без всякого удовольствия, с заранее напряженными нервами. Лобанова всегда облекала проверку материалов атмосферой таинственности и значимости доверенной ей работы. Она всегда оставляла весь материал у себя, пронумеровав листы, и предлагала явиться за ним в определенный день, которого я всегда ждал с взвинченными нервами, так как никогда нельзя было быть заранее уверенным, что в припадке бдительности, Лобанова не найдет чего-нибудь предосудительного в той или иной заметке, уже не говоря о том, что вычеркнутые ею целые фразы искажали смысл заметки и делали ее непригодной для помещения в стенгазету. Кроме того Лобанова вела список всех стенкоров, спрашивая, если попадалась новая фамилия, по какой статье сидит, на какой срок и социальное происхождение. Такими вопросами я никогда не интересовался, не хотел быть каким-то стукачом и из-за этого часто получал от Лобановой поучения о необходимости бдительности с моей стороны, как редактора стенгазеты. Все эти сведения Лобанова могла получить и конечно получала в ИСЧ, но она не хотела обременять себя лишней работой.
Гарри стал сразу проверять при мне материал, который я принес. Начал с передовицы и, к моему удивлению, непочтительно хмыкнул, когда дошел до фамилии Сталина, а по окончании прочтения, не глядя на меня, спросил кто автор передовицы. Передовица была написана мной, Гарри, также не глядя на меня, отпустил по моему адресу комплимент (не то всерьез, не то с насмешкой, я так и не понял): «Не плохо Вы политграмотны». Далее я поразился с какой легкостью Гарри выправлял стилистические погрешности в заметках, которые я старался выправить предварительно до подачи материала, особенно у малокультурных стенкоров. Из-под пера Гарри вышли совсем неузнаваемые заметки, ничуть не потерявшие первоначальный смысл. Сказывалась его корреспондентская практика. Некоторыми стенкорами Гарри заинтересовался, но спрашивал у меня не статью, не срок, не социальное происхождение, как Лобанова, а кем работает данный стенкор. На всю цензуру с правкой заметок ушло не более четверти часа, Гарри поставил свою визу, вручил мне весь материал и только спросил давно ли я работаю редактором. «Пишите короткими фразами, они доходчивее для масс, длинными Вы только отпугнете читателей», - сказал Гарри мне на прощание. Выходя от такого цензора у меня гора с плеч свалилась.
Настойчиво выправляя мою стилистику и в последующие разы, Гарри принес мне очень много пользы в выработке корреспондентского стиля, за что я остался ему благодарен на всю жизнь. Я действительно научился у него писать и править заметки языком коротких фраз, легко читавшихся и безупречных по стилистике.
Гарри или очень быстро схватывал сущность заметки или он тщательно проверял материал, но на заметки написанные литературно он почти автоматически ставил свою визу. Задерживался Гарри лишь на правке стилистики, когда у меня самого предварительно ничего не выходило. И, тем не менее, иногда Гарри делал замечания «беззубо» и просил пояснить меня в чем дело. А когда я ему рассказывал суть дела, вызвавшего эту критическую заметку, Гарри тут же превращал заметку в острый фельетон, добавляя: «Не бойтесь, поместите, я Вас поддержу».
Сколько раз, бывая в кабинете у Гарри, я неизменно заставал его за писанием, которое он неизменно быстро прикрывал чистым листом бумаги, а потом засовывал в ящик стола, где мелькали стопы исписанной бумаги. Я не думал, что он пишет доносы на заключенных в ИСЧ, хотя его могли, как коммуниста обязать быть стукачом. Я скорее предполагал, что Гарри, как корреспондент, пишет статьи в лагерную газету «Перековка». В разговорах со мной не чувствовалось обычного стукаческого выспрашивания, не было у Гарри и стукаческих кляузных вопросов, политики Гарри в разговоре никогда не касался. Единственно что Гарри явно интересовало, хотя он это и пытался тщательно маскировать, так это детали лагерного быта в годы предшествовавшие его заключению в лагерь, в том числе прием этапов, распределение заключенных на работы, условия труда, отношение к заключенным вольнонаемной и заключенной администрации.
После просмотра принесенного мною материала, Гарри меня задерживал разговорами на литературную тему, о достоинстве того или иного произведения, рекомендовал мне много книг для чтения. Литературу, как старую, так и новую он знал блестяще и его оценка произведений всегда удивляла меня точностью его суждений. Из него вышел бы прекрасный литературный критик.
Вперемешку с высказываниями о литературе, Гарри рассказывал иногда и эпизоды из гражданской войны, в которой участвовал в рядах Красной армии под командованием комкора Котовского, будучи одним из адъютантов последнего и после гражданской войны до убийства Котовского в 1926 году. Котовского Гарри знал превосходно, охарактеризовав его в весьма нецензурных выражениях, как большого любителя женского пола, от какого порока он и погиб. Гарри подробно рассказал, как Котовского со своей женой с поличным поймал его адъютант, пристреливший тут же в кабинете комкора и Котовского и свою жену и сам покончивший самоубийством. Гарри не говорил о своей связи с Котовским в дореволюционное время, но судя по его рассказам об их, с Котовским, любовных похождениях в дореволюционной Одессе ими было немало истрачено денежек на женщин из сумм экспроприированных у «экспроприаторов» Котовским. В этих своих рассказах Гарри выглядел омерзительно. Насколько Гарри поднимался, рассуждая о литературе, настолько мелкосортным мужчиной он предстал передо мной по этим рассказам.
Незадолго до очередной смены генеральных прокуроров в 1932 году Гарри внезапно был освобожден из лагеря. Гарри к тому времени был весьма известен на Соловках и его освобождение вызвало сенсацию. Это было беспрецедентно, чтоб смертник, то есть заключенный, имевший расстрел, был освобожден досрочно из концлагеря, да еще не отсидевши и двух лет, да еще по «чистой», то есть без всяких ограничений в дальнейшем местожительстве, выборе профессии и т.п. Некоторые оптимисты даже увидели в освобождении Гарри новую эру советского правосудия, в которой надо ждать освобождение из лагеря всех заключенных по 58 статье. Излишне говорить о несбывшихся этих мечтаний. Но еще большую сенсацию вызвал трюк проделанный Гарри при посадке его на пароход. Он не дал ни помкомроты, ни оперативнику ИСЧ обыскать два чемодана, которые были при нем, что делали у всех заключенных и освобожденных при отправке их на материк. Гарри заявил о нахождении в чемоданах документов чрезвычайной секретности подлежащих прочтению только членами коллегии ОГПУ. Мелких сошек испугал властный тон Гарри и они не решились дотронуться до чемоданов. Действительно ли были в чемоданах у Гарри собранные им материалы о деятельности соловецкого начальства, или просто в отместку на прощание Гарри хотел пугнуть соловецкое начальство, у которого рыльце всегда было в пушку, так и осталось неизвестным. Так или иначе в этом поступке Гарри проявилась в полной мере его склонность к авантюризму. Когда Гарри уже был далеко со своими чемоданами очевидцы (надо помнить пословицу «врет как очевидец») стали утверждать как будто бы видели укладку Гарри в чемоданы большого количества стоп исписанной бумаги. Не отрицая возможности такого факта, я все же должен сказать, что Гарри был не такой дурак, чтоб укладывать материалы на глазах у посторонних, результаты почти двухлетнего его труда на Соловках.
Вскоре в «Известиях» снова появились корреспонденции за подписью Гарри, хотя и реже, чем до его заключения в концлагерь. С середины 1937 года корреспонденции с подписью Гарри в газете прекратились. Очевидно Гарри «пал жертвой неоправданных репрессий во время культа личности», как принято теперь писать об известных большевицких деятелях, ликвидированных по приказу Сталина по спискам составленным Маленковым в 1937-39 годах.
По мере отделения во времени от моего знакомства с Гарри, при воспоминаниях о нем, я все чаще и чаще задаю себе вопрос действительно ли Гарри был пострадавшим, как все заключенные по 58 статье, лицом попавшим в поле зрения ОГПУ, что рано или поздно приводило к аресту, расстрелу или заключению в концлагерь, или Гарри был специально заслан в концлагерь какой-то группой или группкой из высших сфер, как осведомитель, сексот для получения точной информации о действительном положении дел в концлагерях и в особенности таком, как Соловецкое отделение особого назначения СЛАГа?
С разгромом троцкизма, физической ликвидацией троцкистов или изоляцией их в концлагерях, ссылках и политизоляторах, борьба за власть в большевицкой партии в начале тридцатых годов вылилась исключительно в верхушке партии за тепленькие местечки в окружении Сталина, положение которого, как вождя, к тому времени стало вполне незыблемым. Даже Кирову, за которого, как свидетельствует Хрущев на ХХ съезде КПСС, на XVII съезде партии проголосовало 70% делегатов съезда, вряд ли удалось бы свалить Сталина, если бы даже он и не был бы убит, из предосторожности по приказу Сталина, в 1934 году. Отголоски этой подспудной драки за тепленькие местечки лишь глухо проникали в концлагеря в виде известий о смене генеральных прокуроров, сменой которых заключенные интересовались из чисто шкурных интересов. Обойденные в продвижении по строго установившейся к тридцатым годам, партийной иерархической лестнице искали компрометирующих материалов о деятельности своих более счастливых соперников, чтоб накопив таковой свернуть последним шею и самим сесть на их места повыше. Эта общность интересов обойденных кандидатов на продвижение объединяла их, если можно так выразиться, по вертикали в более или менее многочисленные группы и, когда главе такой группы удавалось, при помощи собранной информации, свалить ранее счастливого соперника и сесть на его место, участникам всей группы давались соответствующие повышения на места изгоняемых приспешников сваленного партийного работника. Не исключением из этого правила был и аппарат ОГПУ, где эти дрязги, подсиживание друг друга были не меньше, а может быть даже и больше, чем в партийном и советском аппаратах. Незыблемой, плотно усевшейся в кресла, была только коллегия ОГПУ, точно и неуклонно исполнявшая волю Сталина и потому недосягаемая для воздействия на нее чьих-либо происков. Правда обстоятельства смерти ОГПУ Менжинского, какой пост сразу же занял его помощник Ягода, вызвало много толков, отражавших мнение о причастности Ягоды к смерти Менжинского в целях своего личного продвижения.
Вполне возможно существование одной из вышеописанных групп во главе с кандидатом на должность генерального прокурора, который формально через своего помощника по наблюдению за деятельностью ОГПУ, отвечал за работу ОГПУ. Создалась необходимость для такой группы получить веские компрометирующие данные о творящихся в концлагерях ОГПУ беззакониях, чтоб свалить очередного генерального прокурора, а главе группы сесть на его месте, протянув за собой всю группу на более тепленькие местечки. Хотя в высших сферах все знали об ужасах концлагерей, но для выступления с успехом в какой-либо высшей инстанции, хотя бы на заседании политбюро, необходимы были для обвинений конкретные данные с датами, фамилиями виновных. Для сбора таких данных возможно и был заслан Гарри в концлагерь, а может быть он и сам вызвался на это по своей склонности к авантюрам. Техника оформления Гарри заключенным могла быть различная. Или о мнимом заключенном знал кто-либо из членов коллегии ОГПУ, оформивший приговор коллегии ОГПУ, а может быть никто из членов коллегии и не подозревал, а просто проштамповал на заседании приговор предложенный следователем, которого Гарри допрашивал по анонимному доносу. Такого доноса было совершенно достаточно для ареста Гарри, который со способностями литератора сам на себя написал при допросах тома своих несуществующих преступлений, чтоб получить приговор пожестче, выполнить поставленную цель попасть в лагерь особого назначения в Соловки. Надо полагать что Гарри шел на большой риск, свойственный ему, как большому авантюристу, так как малейшая осечка в заранее продуманной схеме его заключения в концлагерь могла стоить ему жизни.
Возможно что все же эта авантюра в конце концов привела Гарри к смерти в 1937-39 годах, поскольку Гарри слишком много узнал о концлагерях. Сталин постепенно физически уничтожал всех тех, кто в процессе «работы» под его руководством узнавал, по его мнению, слишком много о его грязных делах, каким «пороком» безусловно обладали Ягода и члены ОГПУ Берман, Беленький, Бокий, Вуль и другие, которых Сталин сначала отстранил от занимаемых должностей, объявив уголовными преступниками, а затем их расстреляли в 1936-37 годах. Сталин, творя черные дела, любил подчас выставить себя поборником правды для достижения своих целей. Не материалами ли Гарри воспользовался он при расправе с Ягодой и компанией, вменив им в преступление лагерные порядки, в то же время отлично зная их ранее и без материалов Гарри и не изменив эти порядки и после отстранения Ягоды?
Достоверно ничего не известно и эти свои предположения я высказал опираясь лишь на свои наблюдения, как Гарри интересовался подробностями лагерной жизни до его заключения в лагерь (о периоде просиженном им самим ему нечего было спрашивать, поскольку он изучил все лично), как много писал Гарри в лагере и тщательно скрывал написанное, как не дал вскрыть свои чемоданы, как загадочно он был освобожден из лагеря и затем продолжал работать корреспондентом «Известий», как и до заключения, чего бы никогда не допустили для лица прошедшего через ОГПУ по 58 статье.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ. МОЛОДЕЖЬ
Факт засылки в концлагеря лиц с секретными заданиями, под видом заключенных, безусловно имел место. В частности мне вспоминается один молодой заключенный, которому не было и двадцати лет, попавший в концлагерь на Соловки осенью 1929 года на трехлетний срок заключения. Он был хорошим электромонтером и попал в электромонтажную мастерскую. Малокультурный, очень старательный и дисциплинированный, встававший каждый раз при обращении к нему непосредственного начальства или всякого другого начальства и перед лицами старшими по возрасту, с открытым лицом и недалеким умом, он располагал к себе, пока не выложил нам историю своего попадания в концлагерь. Будучи в составе комсомольского батальона г. Харькова (тогда комсомол имел полувоенную организацию, а молодой человек, так и попал в лагерь в форме юнгштурма, на которой ясно были видны потемневшие места от ношения звездочки и комсомольского значка). Он был вызван в его штаб, где ему вручили запечатанный пакет с секретными документами и железнодорожный литер на проезд до города Кеми, где он должен был сдать пакет на Кемперпункте СЛОНа ОГПУ. Довольный оказанным ему доверием, он устремился на Север и доставил пакет по назначению. При вскрытии пакета на Кемперпункте его взяли под стражу и объявили о приговоре в три года заключения в концлагерь. Остается весьма сомнительным, чтоб таким способом ОГПУ сажало в концлагеря неугодных ему людей. Безусловно его простодушный рассказ о необыкновенном способе посадки в концлагерь нас насторожил и мы единодушно решили, что этого комсомольца прислали в лагерь стукачом и только благодаря неразберихе в лагере, вызванной большим наплывом этапов в эти месяцы, ИСЧ на Кемперпункте не успела его проинструктировать, а он попал в этап идущий на Соловки, а на Соловках затерялся в большой массе привезенных заключенных и его не сделали стукачом. В противном случае, он бы ни за что не рассказал бы нам о «новом» способе посадки заключенных в концлагерь. Не знаю впоследствии определили ли его стукачом, но по своей простоватой натуре, несмотря на одержимость коммунистическими идеями и дисциплинированность, он вряд ли смог кого-нибудь погубить. Вскоре его, под видом краткосрочника, отправили обратно на материк и я с ним больше не встречался.
По-видимому это был один из тех комсомольцев, которыми ОГПУ, под видом заключенных, хотела организовать секретную службу среди заключенной молодежи, поскольку в среде последней трудно было найти предателей. Молодежь в концлагере стойко несла все тяготы лагерной жизни, не поддавалась разлагающему влиянию лагеря, пронося через весь срок высокий моральный облик человека, чего, к сожалению, нельзя сказать о старшем поколении заключенных по 58 статье, не на 100% сохранившими честность в поступках, искренность в суждениях, верность высокой морали. Возможно такая разница в моральных качествах между «отцами» и «детьми» объясняется достаточным количеством заключенных в лагеря пожилых интеллигентов, смалодушествовавших в годины бедствий, предпочитавших отсидеться за стенами своих квартир, только посматривая в окошечки, как в неравной борьбе с большевиками гибли их братья, другие интеллигенты, нашедшие в себе мужество для открытого сопротивления, достаточно умные для правильной оценки создавшегося тогда положения, высокочестные, чтобы не торговать своими убеждениями, бескорыстные для принесения в жертву личных интересов на пользу общества. Унаследовав от родителей эти высокие моральные качества, дети этой категории интеллигенции за мужество своих родных отцов и были главным контингентом заключенной молодежи. Об этих молодых людях нельзя не рассказать.
***
Молодой человек М., 1911 года рождения, в семнадцать лет был арестован ОГПУ, обвинен по статье 58 пунктам 8 и 11 (участие в террористической организации), по которой был приговорен к заключению в концлагерь особого назначения на Соловки, сроком на 10 лет. М. не мог убить и мухи, но имел смелость иметь свое, отличное от официального, суждение по политическим вопросам. Застенчивый и самолюбивый мальчишка ни посторонним, ни близким никогда не сетовал на свою смелость, приведшую его в концлагерь, испортившему ему жизнь в материальном смысле этого слова. Он стойко нес свою тяжелую судьбу, оторванный от матери, которую он очень любил, которой приходился младшим сыном. Принимая, как неизбежное зло лагерный режим, М. всю свою волю сосредоточил, не роняя чести, не поступаясь своими убеждениями украинского националиста, не только как бы выжить свой долгий срок заключения, но и тщательно занялся своим самообразованием, тратя на это минуты выпадавшего отдыха от принудительного труда заключенного. Довольно быстро он стал хорошим токарем по металлу, работая на электростанции сначала учеником, а потом и самостоятельно на токарном станке. Специальность токаря не удовлетворила его стремления к полноте технических знаний, и М. занялся изучением электротехники и самостоятельно и на курсах организованных заведующим электропредприятиями Боролиным. Вначале М. очень мешала его слабая подготовка по математике и физике, которую он имел только в объеме семилетней школы. Однако М. успешно, самостоятельно пройдя полный курс элементарной математики, стал изучать высшую математику и механику, чтоб овладеть электротехникой на уровне знаний инженера-электрика. Боролин заметил этот упорный труд М. и, чтоб дополнить его теоретические знания практикой, перевел М. из токарей в дежурные по распределительному щиту электростанции. Тогда еще успешнее пошла учеба М., на учебу у него выкраивалось больше времени, поскольку в ночные смены, когда нагрузка на электростанцию более или менее ровная, не требуется постоянного напряженного внимания к показаниям приборов, М. сидя за столом мог отлично заниматься по учебникам. К сожалению, эта планомерная его учеба на четвертом году его сидения на Соловках была прервана отправкой его в этапе на строительство Беломорско-Балтийского канала. Довольно щупленький, плохо возмужавший на скудном лагерном пайке, он, тем не менее, был признан медосмотром годным к физической работе и отправлен как рабочая сила. На строительстве канала ему очень пригодились знания по электротехнике и М. стал электромехаником автомобильного гаража. По этой специальности затем он и работал всю жизнь. Возможно и там он продолжал совершенствовать свои инженерно-электротехнические знания, однако инженером-электриком так ему и не пришлось работать, не имея диплома, этого спасительного поплавка для многих бестолковых неучей.
По окончании строительства Беломорско-Балтийского канала М. получил скидку со срока заключения в пять лет и остался работать там же вольнонаемным электромехаником гаража. Затем его, как вольнонаемного перевели на ту же работу в Сибирь за Байкал, в Бамлаг, заключенные которого строили вторую колею железной дороги Байкал-Благовещенск. По окончании срока контракта, обзаведясь в Сибири семьей, М. в 1936 году переехал на юг нашей страны, не возвратясь по соображениям личной безопасности на свою неньку (любимую) Украину в родной город Чернигов.
Смелость не оставляла всю его жизнь. Эта смелость выразилась и в том, что он не побоялся нелегальной переписки сначала между заключенными, передавая с оказиями на Соловки нам записки о своем житье-бытье, а затем, поддерживая со мной переписку, когда я все еще был заключенным, а он уже вольнонаемным и в страшные годы ежовщины, когда никто из нас не мог поручиться кто первым сядет в концлагерь, и потащит за собой второго только за переписку с ним. Вторая мировая война прервала нашу переписку и я потерял из виду этого моего замечательного друга.
Заканчивая рассказ об М., нельзя не упомянуть об одном испытании свалившемся на него на Соловках, когда ему едва исполнилось 20 лет, в котором он проявил свои высокие моральные качества и присущую ему смелость. М. работал еще пока токарем, а жил в общежитии электропредприятий в одной комнате со мной, в числе четырех других заключенных. Придя с работы я сразу же почувствовал что с М. стряслась какая-то беда. По его необычно-расстроенному виду, по тому как он невпопад отвечал на вопросы и не поддерживал разговора, как отворачивался и смотрел в угол, я понял, что с ним что-то неладно. Я уже хорошо узнал его самолюбивый характер и при всем моем желании облегчить чем-нибудь его горе, я был бессилен, зная что спрашивать М. бесполезно пока в нем само все не перебурлит, и тогда, кому уж кому, а мне он сам все расскажет. Спал он плохо, ворочался, возможно даже плакал в подушку, дав волю своему горю, думая, что в тиши ночи его никто не услышит. Я тоже плохо спал в эту ночь, страдая за М., перебирая в уме возможные причины, могущие так повлиять на него. Утром мы не сказали друг другу ни слова, но он пошел вместе со мной на работу. Это был хороший знак и чтоб облегчить М. признание, по дороге я спросил: «Что случилось»? – «Плохо, - ответил М., - загонят меня на Анзер». Анзерский лагпункт Соловецкого отделения СЛАГа помещался на острове Анзер, был местом ссылки в лагере, отличаясь еще более строгим режимом, чем на Большом Соловецком острове. И далее он мне рассказал о вызове его накануне в ИСЧ, что само собой уже не предвещало ничего хорошего. Когда М. работал на станке к нему подошел, недавно появившийся на электростанции в должности делопроизводителя, удивительно мерзкий тип, пожилой с проседью киевлянин, сидевший в лагере по статье 58 пункт 13 (служба в карательных органах царского режима и белых армий) со сроком в 10 лет. Этот тип бесшумно скользил по электростанции, появляясь совершенно неожиданно в местах, где ему совершенно нечего было делать, старался ко всем лезть со своей дружбой, в то же время вызывая к себе какое-то гадливое чувство. Этого типа сразу же прозвали «слизняк». Настораживало еще против него и его бывшая служба секретным агентом жандармского управления, куда, как он сам всем рассказывал, он был завербован после ареста за участие в студенческой демонстрации в 1905 году. Наша интуиция не подвела. Шепотом он сообщил М., что последнего тайно вызывают в ИСЧ, куда он должен явиться в обеденный перерыв. Такое поручение могли дать только стукачу. Не выполнить такого приказа никто из заключенных и помыслить не мог и М., с тяжелым сердцем пошел в ИСЧ. Встретили там М. очень любезно, наговорили ему много комплиментов, что начальник ИСЧ убедился, что М. настоящий советский человек, что он по недоразумению попал в компанию «дворянчиков» (кто персонально были эти «дворянчики» ему не сказали) и, что он самый подходящий заключенный для скорого освобождения из лагеря, если М. станет их секретным осведомителем, то есть стукачом. Я только вообразил себе как краснел там М. от негодования и как бледнел он перед перспективой кар, которые обрушат на него чекисты за отказ быть стукачом. М. выстоял, не продал себя, он наотрез отказался. Не помогло и запугивание, вплоть до угрозы отправить на Анзер. Как ни бесновался оперативник ИСЧ, М. спас свою честь и честь своих предков. От М. отобрали расписку в неразглашении сделанного ему предложения и «посоветовали» подумать хорошенько и через несколько дней дать положительный ответ. Забегая вперед скажу, что М. больше в ИСЧ не ходил, долго еще был готов после этого для отправки на Анзер, но так его никуда и не отправили. Войну нервов М. выиграл. М. нарушил данную им в ИСЧ подписку, рассказав обо всем мне, но он знал, что я его никогда не подведу.
Когда мы пришли на электростанцию в тот день, надо было видеть, каким взглядом впился «слизняк» в М., пытаясь отгадать результат переданного им вызова. Каким, полным ненависти, взглядом ответил ему М.! Друг "М." - это Михаил Петрович Гуля-Яновский.
***
Молодой человек Н. в 1927 году, 24 лет отроду, был посажен в ОГПУ в концлагерь особого назначения на Соловки на 10 лет по статье 58 пункт 10 (антисоветская агитация). Н. был уже почти два года в лагере, когда я, посланный на работу на Соловецкую электростанцию, впервые увидел его очень аккуратно одетого в лагерное обмундирование, всегда застегнутое на все пуговицы. Эта присущая ему аккуратность как-то выделяла Н. из общей массы заключенных работавших на неквалифицированных должностях. Не имея никакой специальности, застенчивый и не стремящийся куда-то вылезти, у Н. оказалась очень тяжелая доля рядового заключенного. На общих работах, где Н. выполнял разные тяжелые физические работы, он пробыл почти два года, все это время маршируя в строю на работу и с работы в 14 роту, где проводил остаток дня и ночь с клопами и вшами на трехъярусных нарах. И все же он не опустился, был необыкновенно аккуратным и каким-то, по-особому, чистым. Чистым юношей он был не только снаружи, но и до глубины души своей, бесконечно веря во все светлое, возвышенное, в том числе и в чистое отношение людей между собой, каждый раз искренно изумляясь и тихо возмущаясь, когда видел грязь и подлость в отношениях заключенных между собой. Мне вспоминается как подействовало на Н. откровенное приглашение ему двух уголовниц легкого поведения, учившихся вместе с нами на курсах электромонтеров и охотившихся за этим смазливым юношей. Н. покраснел, как полагалось бы краснеть чистой девице услышавшей неприличное слово.
У Н. был безусловно философский склад ума, явные способности к гуманитарным наукам. Поскольку Н. был старше меня ему удалось познакомиться с философскими трудами Декарта, Спинозы, Гегеля, которые он очень неплохо знал. Когда же философия была изъята из школ и библиотек, Н. изучил и диалектический материализм. Влияние изучения философии сказалось на жизненное credo Н., наиболее ярко выразившемся в одном разговоре с ним. Я как-то пожаловался Н. в том, что заключен в концлагерь совершенно невиновным. «А разве за убеждения, - ответил Н. мне, - можно сажать людей»? И Н. рассказал мне как долго он разговаривал на эту тему с допрашивавшем его следователем ОГПУ и как тому нечего было ему возразить и предъявить Н. конкретного обвинения. И все же Н. заключили в концлагерь, да еще на 10 лет. Особая доброта Н. к людям, независимо от содержавшихся в них пороках или исповедуемых ими мировоззрениях, очень ярко сказалась в одном его поступке. Один крупный бандит, убийца, работавший и живший с нами, с которым у Н. не было и не могло быть ничего общего, просил поддержать его продуктовыми передачами когда попал в следизолятор за лагерный бандитизм. Никто из нас, знавших этого бандита не откликнулся, передачи делал Н., каждый раз рискуя сам попасть в следизолятор по подозрению в принадлежности к банде, возглавлявшейся этим бандитом. Н. подвергся допросу в ИСЧ, когда бандиты совершили дерзкий побег из следизолятора, но Н., по-видимому спасла 58-я статья и возникшее подозрение в его соучастии в подготовке побега отпало и вся история для Н. окончилась благополучно, хотя и стоило ему нервов.
Несмотря на явное тяготение к гуманитарным наукам, Н. проявил незаурядные способности к технике. Работая масленщиком на электростанции, Н. поступил на курсы электромонтеров, которые успешно окончил вместе со мной. Переведенный дежурным по распределительному щиту электростанции, Н. по учебникам самостоятельно углубленно стал изучать электротехнику. Много ему помогали курсы организованные при электростанции заведующим Боролиным. Но и после окончания и этих курсов Н. продолжал самостоятельно изучать электротехнику. Глубину и всесторонность его инженерных познаний я оценил, когда мне удалось добиться его перевода в контролеры электросети, где Н. оказался для меня совершенно незаменимым помощником, с которым я всегда советовался и который превосходил по своим теоретическим познаниям меня. При переводе меня на материк в 1933 году я сдал ему заведывание электросетями. Глубокой осенью того же года мне удалось еще раз увидеть его на Кемперпункте, куда он прибыл с этапом с Соловков, пробыв на острове шесть лет. Связь со мной, правда телефонную, Н. удалось восстановить только через два года, когда мы уже оба заведовали электростанциями, он в Надвойцах, в середине Беломорканала, я в Пушсовхозе у начала Беломорканала. Поздно вечером, когда телефонные линии не были так загружены, мы вызывали друг друга за сотни километров через загородную станцию Управления Белбалткомбината и оба, сидя, каждый в своем машинном зале, болтали между собой, надолго занимая провода. С освобождением меня из концлагеря я потерял из виду этого чистого юношу, не смогши даже попрощаться с ним по телефону.
***
Мой сверстник комсомолец А. был посажен в концлагерь на десять лет по статье 58 пункт 11 (организация) и пункт 10 (имевший целью антисоветскую агитацию) за два года до меня в еще более юном возрасте. Комсомолец он был липовый с самого вступления в комсомол. Встретивший Октябрьскую революцию, пропитавшийся до мозга костей большевицкими идеями, А. был неприятно поражен при вступлении в самостоятельную жизнь после окончания школы 1-й ступени. А. оказался в роли Потока-богатыря из поэмы графа А.К. Толстого «Поток-богатырь», в которой поэт с гениальной прозорливостью вложил в уста нигилиста (так называли XIX веке революционеров) ответ Потоку-богатырю на претензию последнего на место под солнцем, как представителю народа:
«Ты народ, да не тот!
Править Русью призван только черный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен!»
А. был сыном подрядчика из г. Владимира, а подрядчик, по марксистскому мировоззрению, эксплуататор, буржуй. Я видел этого «буржуя», приезжавшего к сыну на Соловки на свидание. Квалифицированный малограмотный плотник, имевший несчастие возглавлять плотницкую бригаду и бравшего до революции подряды на плотницкие работы. Итак, сын «эксплуататора» не мог получить ни образования, ни работы. На работу не принимали не членов профсоюза, а в профсоюз А. не принимали как сына «эксплуататора». По совету своей старшей сестры, которая была замужем за видным коммунистом в Москве, А. через печать отрекся от своих родителей. Не передать словами чего стоил этот поступок А. Будучи глубоко верующим христианином, А. всегда рассматривал свое заключение в лагерь и претерпеваемые им страдания, как справедливое Божие наказание за совершенный им грех, за нарушение пятой заповеди: «Чти отца твоего и мать твою …». Подлость совершенная А. в отношении своих родителей сразу широко распахнула для него двери электротехнической профшколы. А. зазвали в комсомол. Разрушенная этими передрягами вера в большевицкие идеалы, сделала из А. притворщика, носившего рядом с комсомольским билетом нательный крест, с которым он никогда не расставался и в лагере, несмотря на сыпавшиеся иногда на него насмешки. По окончании электротехнической профшколы А., как комсомольца направили на работу на одну из электростанций «Мосэнерго» в Москве.
Мыслящих комсомольцев на «Мосэнерго» оказалось достаточно. Не находя ответов на задаваемые вопросы на комсомольских собраниях, все более остро воспринимая увеличивающийся разрыв между словами и делами большевиков, группа наиболее умных и честных комсомольцев стала уединяться, проводя параллельно неофициальные собрания, на которых обсуждались острые вопросы современности. Озлобленный ценой, которой А. пришлось заплатить за свое благополучие в советском обществе, не оставивший надежды разобраться в случившемся, А. оказался в этой группе комсомольцев, которых было более двадцати. У них он нашел и одного верного друга, постепенно возглавившего эту группу. Не делая особого секрета из своих собраний, вся группа в 1927 году попала в лапы ОГПУ. Друг А. был расстрелян, остальные получили по десять лет концлагеря.
Крушение идеалов революции, вынужденное отречение от родителей не могли не повлиять на неустановившуюся психику А. Арест и допросы на следствии доконали А.. А. под следствием сошел с ума и был помещен в тюремную психиатрическую больницу. Помешательство было буйным, скоро прошло, врачебная комиссия признала А. вменяемым и в приговоре для него не было сделано никакого исключения. Действительно за все время его заключения он был совершенно психически нормальным и можно было думать, что А. вполне излечился.
Начало заключения в концлагере для А. было исключительно тяжелым. Их этап пришел в Кемперпункт после закрытия навигации и всех десятилетников вместо Соловков отправили на зимние лесозаготовки в Карельские леса, где заключенные гибли, как мухи, от непосильного труда, плохого питания, ночлега на морозе в лучшем случае в палатках, а то и просто на снегу у костра, от произвола конвоя. Комсомольцев, как десятилетников держали на лесоповале под усиленным конвоем. На своих плечах они узнали тяжесть баланов (балан – испорченное от английского слова ballans, ствол поваленного дерева после обрубки сучьев), дающих валюту их государству. А. вытерпел все – он не отрубил себе правой руки, чтоб стать инвалидом и избежать дальнейшего пребывания на лесозаготовках, он не замерз, не получил пули от конвоира.
С открытием навигации в 1928 году А. отправили на Соловки, где он быстро по специальности попал на электростанцию дежурным по распределительному щиту, где я с ним и познакомился осенью 1929 года.
Между нами завязалась крепкая дружба, правда не сразу. Жизнь научила А. жить в скорлупе, не доверять никому. Он долго приглядывался ко мне и моему верному другу Мише Гуля-Яновскому, пока не решил что мы стоящие люди. До нас А. был очень одинок, но когда он пошел к нам со своей открытой честной душой, какие чувства, долго таившиеся в нем, он излил на нас! Возможно что только благодаря А. я остался жив, когда заболел в зимовку 1931-1932 годов гнойным плевритом, после того как нас распаренных в бане ночью выгнали в холодный коридор, где мы в белье долго ждали из дезинфекции нашу верхнюю одежду. А. не спал ночами, ухаживая за мной, все подавая в постель, своими услугами совершенно исключив мое вставание с постели и выход из теплого помещения, пока я не выздоровел. Мы платили А. тем же, всегда принося ему обед в общежитие, чтоб он не прерывал своего дневного сна после ночной смены. Мы жили в одной комнате общежития электропредприятий, деля все что получали в посылках, или что удавалось нелегально достать на пропитание.
С довольно широким лбом, и широко поставленными глазами, коренастый, А. олицетворял собой крепыша. На его физическую силу тоже можно было положиться, с А. мы чувствовали себя в безопасности от возможных насилий со стороны уголовников, которых А. терпеть не мог, высказывая им свою неприязнь прямо в глаза. Несмотря на приобретенную скрытность, А. никогда не кривил душой, не стесняясь при случае высказать прямо в лицо заключенному то, что он о нем думал, а это не всегда было приятно многим. А. считали «колючим» и большинство не питало к нему расположения. Даже «некоронованный король» электростанции Данилов долго держался к А. настороже, который не оказывал ему никаких почестей и в то же время не примыкал к враждебно-настроенным против Данилова группировкам заключенных. Только когда Данилов увидел нашу тесную дружбу, а во мне и Мише Данилов был уверен, последний стал заботиться об А. так же, как и он нас, хотя А. по-прежнему не выказывал ему никакого почтения. Прямая честная душа А. так и не могла примириться с, правда только подозреваемым, предательством Данилова по делу расстрела 1929 года. Вообще не в характере А. было прощать людям, он мучился этой своей чертой, иногда говоря нам: «Ничего не могу с собой сделать, живу не по Евангелию, но не могу прощать своих врагов, как учит Христос».
Непримиримость к всякой лжи и обману едва не стоило жизни А. и в лагере. В соседней с нами комнате общежития жил почти совершенно седой, но очень крепкий заключенный токарь Лизандер, выдававший себя за старого члена партии социалистов-революционеров (эсеров) подвергавшегося репрессиям со стороны царского режима за революционную работу в Русской армии, где он служил рядовым. По его рассказам он прошел и штрафные роты и по приговору военно-полевого суда сидел в крепости, откуда его вызволила Февральская революция в 1917 году. В концлагерь на Соловки на десять лет он попал как эсер. Дружбу Лизандер вел и вообще общался только с заключенными сидевшими по 58 статье, а Мишу, меня и А. называл своими детками. Но что-то было неприятное в его бегающих, колючих глазках, его ласковость была лишена теплоты, иногда выглядела наигранной. Данилов, очевидно через секретную службу, узнал и предупредил нас, что на самом деле Лизандер никакой не эсер, а крупный бандит с дореволюционным стажем, специалист по вооруженным ограблениям, имеющий на совести несколько убийств и, что Лизандер действительно отбывал наказание в штрафных ротах и в крепости, но не за революционную работу, а за воровство и грабежи. По сведениям Данилова, вооруженными грабежами Лизандер занимался и после революции, неоднократно отбывая по приговору суда наказания в разных тюрьмах с побегами из них, вследствие чего его осудили по 59-й статье (а не по 58-й, как всем рассказывал Лизандер) на 10 лет концлагеря. 59-ю статью применяли только отъявленным уголовникам-рецидивистам-убийцам, поскольку по ней существовало только две меры наказания – высшая расстрел, минимальная 10 лет заключения. Я видел, как А. был взбешен обманом Лизандера. Затеяв какой-то пустяковый спор с Лизандером, А., в присутствии заключенных, живших в общежитии и электромонтеров, пришедших с линии в электромонтажную мастерскую, сорвал маску с Лизандера, рассказав во всеуслышание его подлинную биографию, назвал его бандитом и со всей злобой, которую А. питал к уголовникам набросился на Лизандера. Однако и Лизандер оказался крепышом, устоял на ногах, затем подмял под себя А. и выхватил нож. От удара ножом А. спас очень коренастый электромонтер, казак из конного корпуса генерала Шкуро, Добровольческой армии генерала Деникина. Как потом рассказывал этот казак, посаженный по 58 статье в концлагерь на десятилетний срок заключения за участие в гражданской войне, через десять лет после ее окончания, он дал «стырчка» Лизандеру, то есть попросту своим кулачищем так стукнул по руке, что нож вылетел из руки Лизандера. Дерущихся с большим трудом растащили, а Лизандера пришлось связать.
За употребление ножа или убийство А. Лизандер, по всей вероятности, отделался бы небольшим сроком штрафизолятора, и то формально, так как всякое насилие уголовников над политзаключенными тайно приветствовалось чекистами и даже, более чем вероятно, Лизандера бы зачислили в ВОХР для несения конвойной службы с оружием в руках. Драка не получила огласки, а Лизандер вскоре попал в этап, шедший на строительство Беломорканала. Впоследствии мы узнали, что на Беломорканале Лизандер был расстрелян в числе заключенных-заговорщиков, имевших целью поднять восстание в Беломорлаге. Последнее там было вполне осуществимо, так как войска ОГПУ вместе с сотнями тысяч заключенных были растянуты узенькой цепочкой по нескольким сотням километров трассы канала и не смогли бы подавить восстание, которое распространилось бы молниеносно повсюду, так как заключенные на канале были доведены до отчаяния непосильными скальными работами по двенадцать и более часов в сутки, не прекращавшихся ни в какие морозы и пургу, скудным питанием и зимовкой в палатках.
Так живя душа в душу с А., мы коротали долгие годы заключения, проводя свободное от работы время всегда вместе, устраивая нелегальные вылазки в лес за грибами и ягодами.
В 1932 году, летом, когда А. находился уже шестой год в заключении, его внезапно вызвали в УРЧ и объявили, что он освобожден по «чистой», то есть без всяких дальнейших ограничений так как по пересмотру коллегией ОГПУ его дела, десятилетний срок заключения ему заменен пятилетним, который он уже с лихвой отсидел. Впоследствии мы узнали, что пересмотр дела добился отец А. при посредстве своего зятя, того самого видного коммуниста. Нашей общей радости не было конца. На А. столь неожиданная, ни с чем несравнимая радостное изменение его судьбы так подействовало, что двое суток до отхода парохода, на котором он уехал (его уже не везли, а сам он ехал), он не спал и не мог долго сидеть на одном месте. Он метался между электростанцией, электромонтажной мастерской, где я жил, и электрометаллротой, где он жил в это время после ликвидации общежития электропредприятий.
Получение права проживать в Москве в дополнение к освобождению, такому неожиданному, из концлагеря не могли не повлиять на надломленную в ранней юности психику А.. Вскоре в Москве А. снова сошел с ума и находился в психиатрической больнице больше года. Однако и на этот раз он снова выздоровел, поступил в Москве же на работу и настолько хорошо зарабатывал, что регулярно высылал мне деньги в концлагерь, где я еще находился. А. не побоялся переписки с заключенным, он не побоялся переписки двух бывших заключенных в страшные 1937-39 годы. В 1938 году, проездом через Москву, я дважды видел А. у него на квартире. Вторая мировая война прервала нашу переписку. В 1945 году переписка возобновилась до 1946 года, когда я получил от А. очень странное по содержанию письмо. Это было последнее его письмо. На несколько последующих писем А. не ответил. Не ответила на мой запрос и его жена, с которой я познакомился будучи у них в Москве. Проездом через Москву в 1947 году по старому адресу я А. не нашел, а в справочной мне загадочно ответили: «Говорят, что такой-то в Москве проживающим не числится». Так я потерял и этого друга моей тяжелой юности. Попал ли А. снова в сумасшедший дом или снова в концлагерь?
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ ВАЛЕНИТИН ФЕЛИКСОВИЧ
Заканчивая рассказы о заключенных по 58 статье нельзя не упомянуть о большой группе духовенства, монашествующих лицах и других церковных служащих Православной Церкви, от архиепископов до рядовых монахов и монахинь, псаломщиков и старост, посаженных в концлагерь на разные сроки.
Я не имел тесного общения с этой группой заключенных и потому могу дать характеристики, и то, к сожалению, очень поверхностные только о трех лицах этой группы. В целом же о группе у меня сложилось впечатление, как о великих подвижниках и мучениках за Веру Православную, за исповедание и проповедь которой они попали в концлагерь и не изменили ей и в заключении. На эту группу выпало особенно много моральных, а порой и физических испытаний. Священнослужителям чекисты насильно стригли бороды и волосы, уголовники, подхалимы-атеисты из числа бытовиков и даже политзаключенных отравляли существование насмешками над Верой Христовой, провокационными спорами, глумлением над Церковью. Особенно тяжело было положение монахинь среди развратных, лишенных всякой морали уголовниц. Положение молодых монахинь еще более усугублялось понуждением к сожительству со стороны заключенных чекистов и ротного комсостава с 1930 года, когда политзаключенных заменили уголовниками и бытовиками. В концлагере священнослужителям иногда удавалось тайно отправлять требы по просьбе верующих заключенных и совершать вполголоса или шепотом богослужения в великие христианские праздники в какой-либо кладовой или коморке в отдельно-стоящих зданиях. В богослужении возникла необходимость в особенности после того, как летом 1930 года был ликвидирован Соловецкий монастырь и была закрыта монастырская церковь св. Онуфрия на кладбище, в которой молились монахи и заутрени с 4-х часов утра тайком посещали заключенные священнослужители и верующие, каждый раз рискуя попасть в штрафизолятор.
В большинстве священнослужители работали кладовщиками, сторожами, дневальными, писарями и слугами комсостава в ротах. Как правило в отделы и части управления концлагеря священнослужители не допускались. Многие священнослужители содержались на общих работах, выполняя тяжелые физические работы.
***
В конце 1930 или начале 1931 года, почувствовав высокую температуру от предшествовавшего противо-брюшнотифозного укола, я запросто ввалился в кабинет врача кремлевского медпункта, в котором обычно принимал один из двух врачей-заключенных, мой «одноделец» студент третьего курса медицинского факультета Киевского университета Борис Горицын. С Борисом мы поддерживали на Соловках дружественные отношения, несмотря на большую разницу в ступенях иерархической лестницы, на которых стояли он и я. Врачи в концлагере, ввиду ничтожно малого количества заключенных врачей и отсутствия вольнонаемных врачей, в начале тридцатых годов жили не хуже самого начальника отделения, только что без семьи. В кабинете за столом, вместо Бориса, в белом халате сидел Карл Маркс. Да, да, Карл Маркс, как бы сошедший с портрета.
Я с изумлением переводил глаза с литографии в рамке на стене на оригинал за столом и обратно и полностью потерял дар речи и способность двигаться. Галлюцинацией нельзя был объяснить представившееся мне видение, так как температура у меня была не столь высока, к тому же Карл Маркс за столом улыбнулся мне приветливой, далеко не марксистской, улыбкой и пригласил сесть. Как лицо живого человека, послужившего оригиналом для создания портрета даже лучшими портретистами, своей одухотворенностью всегда отличается от его лица на портрете, так и лицо врача, а в действительности, как я потом узнал, заключенного хирурга, знаменитого профессора Ташкентского университета Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, лучистыми глазами, светившимися добротой, совсем не походило на самодовольное лицо Карла Маркса на литографии. Оригинал и литографию делали схожими пышная белая борода, львиная грива волос, пощаженных при санобработке, как принадлежащие врачу, и крючковатый нос, унаследованный профессором от матери-гречанки из г. Керчи.
После медицинского обследования, проведенного профессором с большой тщательностью и душевной теплотой, и ряда медицинских советов, завершившихся выдачей мне справки освобождающей меня от дальнейших уколов, как туберкулезника, завязалась задушевная беседа, проникнутая со стороны профессора такой непередаваемой теплотой, таким величием его внутреннего содержания, что до сих пор воспоминания о ней во мне не угасли и сделали меня более совершенным духовно человеком. Валентин Феликсович был поистине Великаном человечности, прирожденным руководителем человеческих душ.
Взаимно осведомились о сроке заключения (о том, что мы оба политзаключенные и он и я поняли без слов). Узнав, что у меня срок 10 лет, в утешение этот врач души и тела сказал мне: «Может быть это и к лучшему такой долгий срок, по крайней мере более долгое время пробудете на одном месте без этапов, а вот мне дали три года, отсижу, выйду из лагеря и снова дадут мне новый срок и снова мучительные этапы, ведь теперь на свободе не оставляют нас священнослужителей». Да он сказал «нас священнослужителей». Он не оговорился, я не ослышался, потому что знаменитый профессор медицины был одновременно епископом Лукой, духовным пастырем ташкентских верующих, за что и получил срок заключения в лагерь особого назначения ОГПУ.
В 1921 году, в самый разгар гонений на Церковь атеистического государства, глубоко верующий ученый с мировым именем принял сан священника Православной Церкви, чтоб помогать людям в излечении не только физическом, но и духовном. В 1923 году профессор Войно-Ясенецкий постригся в монахи и становится епископом Ташкентским. Выступая с проповедями перед верующими в церквях, он говорил: «О, как страшусь я, что хотя бы один из вас не потерял горячей веры в Спасителя и вторично не стал бы распинать Его». Врачебную практику, медицинскую педагогическую и научную деятельность епископ, а позже и архиепископ Лука не оставлял ни на один день вплоть до 1957 года, когда он в возрасте 80 лет, полностью потерял зрение. Им написано более тридцати научных работ по медицине, за одну из них ему была присуждена Сталинская премия. Переводимый из одной церковной епархии в другую профессор-архиепископ последовательно заведует кафедрами хирургии на медицинских факультетах университетов (после заключения) Красноярского, Тамбовского, Симферопольского, из которого уходит по причине потери зрения. Во время второй мировой войны архиепископ Лука заведует еще и тыловым военным госпиталем в Красноярске. Более подробно биография (светская) и название научных трудов этого великого ученого изложены в статье о нем в Большой медицинской энциклопедии, том V, издание 1958 года. Его духовная деятельность и кратко научная изложены в некрологе напечатанном в №8 журнала «Вестник Московской Патриархии» за 1961 год, стр. 35-38. Характерно, что и БМЭ и в некрологе стыдливо обойдены молчанием годы заключения маститого ученого и наидостойнейшего из церковных руководителей.
Осеняя себя крестным знаменьем перед каждой операцией, появляясь в одеянии архиепископа на кафедре аудиторий медицинских факультетов с содержательными доходчивыми лекциями по хирургии, архиепископ Лука был почитаем и любим не только медицинским персоналом, но и студентами. Эта его популярность с одной стороны вынуждала власти атеистического государства терпеть профессора-архиепископа в стенах учебных заведений, используя его громадные знания, с другой всячески оказывала давление на руководство Православной Церкви с целью затормозить продвижение архиепископа Луки по церковной иерархической лестнице, боясь в лице его совершенно нежелательного для властей кандидата в Патриархи. Последнее отвечало желаниям и приспособленческих натур засевших в верхах Церкви, поскольку они прекрасно знали истинность веры в Бога архиепископа Луки, его честность и непоколебимость в отстаивании насущных потребностей верующих и Церкви. Сколько менее достойных архиепископов были возведены в сан митрополита, но профессор медицины и богословия так и не был удостоен этим высоким духовным званием. Нет сомнений, что архиепископ Лука был наидостойнейшим кандидатом в Патриархи Русской Православной Церкви, на посту которого не позволил бы превратить Церковь в прислужницу атеистического государства в неблаговидных целях иностранной политики государства и ущемлений прав верующих.
**************
В 1931 году ночью в бане на Соловках, когда по какой-то неразберихе электрометаллрота мылась в одни часы со 2-й ротой, я познакомился с ленинградским священником Лозино-Лозинским во время беседы, которую он вел с группой знакомых мне заключенных офицеров Русской армии. Священник был в заключении по 58-й статье уже седьмой год, но выглядел бодро, хотя и был сильно истощен. Он спокойно вел светский разговор, по-видимому, только большой Верой, сохранив человеческий облик, переборов ежедневные мучения на протяжении стольких лет. Священник получил от ОГПУ 10 лет заключения за «преступление» своего брата, тоже ленинградского священника, известного тем, что последний, повинуясь долгу возложенного на него саном священника, не отказал группе лицеистов и отслужил панихиду в Казанском соборе в Ленинграде 19 декабря (6 декабря по старому стилю) в Николин день 1924 года. Панихида была отслужена по «убиенному Николаю» при довольно большом стечении народа. Безусловно молились о душе бывшего Императора Николая II и ОГПУ произвела аресты и создало «дело лицеистов». Предвидя это, отслуживший панихиду священник Лозино-Лозинский в ту же ночь благополучно перешел финскую границу и скрылся от ОГПУ в Финляндии. Поскольку «преступник» оказался недосягаем, ОГПУ вместе с лицеистами арестовала его брата, с которым я и познакомился на Соловках, как описывал выше.
************
Десятником на Соловецкой электростанции после Данилова стал заключенный по 58-й статье в концлагерь на 10 лет протодьякон Экзарха Украины Халявко. Огромного роста, довольно молодой, физически очень здоровый, без бороды и обритый наголо, он походил на обыкновенного украинского хлопца. И только некоторые слова и обороты речи указывали на принадлежность его к духовному званию. Очень выдержанный, добродушный, никогда не ругавшийся, Халявко, вскоре приобрел общие симпатии, в том числе даже и уголовников, правда последних больше из почтения к его физической силе, которую он применил однажды к ним при отказе разгружать вагон с дровами во дворе электростанции. Великолепный бас Халявко привел его в самодеятельность, в театр, где он с огромным успехом выступал в отрывках из опер. От выступления в сольных номерах в концертах Халявко категорически отказывался, проводя грань между возвышенной музыкой оперы и прочей музыкой, считая последнюю греховной.
И священник Лозино-Лозинский и протодьякон Халявко оставались на Соловках, когда меня в 1933 году отправили на материк, и дальнейшая судьба их мне не известна.
Много священнослужителей остались лежать навсегда в земле Святой обители – Соловецкого монастыря в братских могилах умерших заключенных. Память о них изгладится в народе вместе с уходящим их поколением, а ведь каждый из них, принявший муки и положивший жизнь за Христову Веру совершили подвиг не менее значительный чем первые христиане гонимые язычниками и удостоившиеся причисления к Лику Святых стараниями древних Отцов Церкви. Древних христиан-мучеников чтут тысячелетиями – кто же из Отцов Русской Православной Церкви восстановит память мучеников ХХ столетия?
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. БЫТОВИКИ
Заключенные-бытовики составляли на Соловках небольшую по численности группу, довольно низкую по культурному уровню. В советскую юриспруденцию термин «бытовик» прочно вошел еще в двадцатые годы нашего столетия. Автор этого термина, возможно и неумышленно, вложил саркастический элемент. Под бытовиками подразумевались заключенные осужденные судом на заключение за преступления подпадающие почти под все статьи уголовного кодекса РСФСР за исключением политических и применяемых к уголовникам. Главным контингентом заключенных-бытовиков были всевозможные растратчики, жулики, взяточники. В этой связи понятие «бытовик», то есть гражданин совершивший бытовое преступление, явно порочило советский строй, так как растраты, обман, взяточничество получались вошедшими в быт, в отношения между гражданами и их государством. Растратчики совершали преступления, либо весьма примитивно, когда имели доступ к наличным деньгам, либо путем хитроумных комбинаций растрачивали материальные ценности, обращая их в деньги. Однако многие из них оказались осужденными за недостачу материалов, происшедшую без всякой корысти. Часть из заключенных этой категории, преимущественно весьма пожилые люди, привыкшие работать на доверии хозяев, перенеся ту же практику безучетной выдачи материалов из кладовых, складов и при советском строе допускали недостачу материальных ценностей, возможно в самом незначительном ценностном выражении, но попадали под суд и получали срок заключения. Так, например, принявший от меня кладовую электропредприятий на Соловках, старый железнодорожник, наичестнейший человек в повседневной жизни, проработавший всю жизнь кладовщиком в паровозном депо, был судим за недостачу инструмента и материалов и получил срок заключения. Он рассказывал: «До революции было проще, мастер выписывал материал и инструмент на полный ремонт паровоза, а я выдавал рабочим по мере необходимости, а если в конце года или при проверке кладовой у меня оказывалась недостача, то в худшем случае меня поругает инженер, начальник депо и на этом все кончалось. И инструмент я сортировал сам, без комиссии, какой приходил в негодность, сам и выбрасывал». Так старик продолжал работать и при строительстве социализма, давая рабочим нужный материал и инструмент не заглядывая каждый раз в каждую расходную накладную, выписана ли гайка или напильник. А как сделали инвентаризацию в кладовой, так мой кладовщик и сел на скамью подсудимых и доехал до Соловков. И таких «растратчиков» было немало.
Но были и прожженные жулики. Мне довелось узнать членов группы «Кабуки», каким названием они зашифровали свою жульническую организацию. Совершенно произвольно наименование своей организации они дали в 1928 году, когда в Ленинграде гастролировала впервые труппа японского театра «Кабуки». Это были несколько десятков ленинградских бухгалтеров и заведующих складами, работавших на различных предприятиях и торговых организациях, присвоивших, в результате всяческих махинаций, несколько миллионов рублей. За различные махинации на Соловках побывали и директор гостиницы «Москва» из Москвы и даже начальник «Торгсина» (торговое предприятие потребительскими промышленными и продуктовыми товарами продававшее не только иностранцам за валюту, но и советским гражданам за золотые и серебряные вещи и царскую монету и за драгоценные камни, оставшиеся у населения от изъятия их в порядке реквизиции в годы революции и в конце двадцатых годов). Фамилия этого начальника «Торгсина» Гулагов всегда привлекала внимание заключенных по ее созвучию с Главным управлением лагерей, сокращенно ГУЛАГом.
Второе место по количеству заключенных среди бытовиков занимали взяточники и дававшие им взятку. Здесь были и служащие всех советских учреждений и директора государственных предприятий, судейские и милицейские работники, спекулянты и мелкие частные торговцы. Слушая их откровенные рассказы можно было только поражаться до какой степени многие из них потеряли совесть – за что, чем и какими способами брались и давались взятки!
В концлагере на Соловках пришлось мне узнать о еще одном способе выманивать денежки у государства, паразитировать трудовой народ. В концлагерь были посажены два «изобретателя», долго морочивших голову ученым, которые боялись обвинения во вредительстве, сразу не отвергали противоречащие данным науки их «изобретения», а на протяжении долгого времени кропотливо отвергали доводы этих проходимцев, пока не стало ясно полная несостоятельность этих прожектов даже технически-безграмотным чекистам, которые цеплялись за эти прожекты, в особенности за второй из них. Первый жулик «изобрел» способ добывать электроэнергию прямо из земли, второй носился с машиной читающей чужие мысли. Понятно почему чекисты так цеплялись и не верили ученым в отношении неосуществимости такой машины. Какое широкое поле деятельности открылось бы для ОГПУ, если бы с помощью такой машины, профильтровав все население нашей страны, можно было бы выявить и заключить в лагеря всех инакомыслящих!
К бытовикам относились и виновники аварии на транспорте (если они не попадали по 58 статье, как вредители или диверсанты – по пунктам 7 и 9) и хулиганы и убийцы без преднамеренного совершения убийства или покушения на таковое. Так за нечаянное убийство человека на охоте на десять лет по суду был заключен в концлагерь мелкопоместный помещик, по образованию агроном (он окончил Петровско-Разумовскую Сельскохозяйственную академию в Москве, теперь Тимирязевская академия сельхознаук) Сергей Лесли. Поскольку бытовики являлись наиболее желанными, пользующимися абсолютным доверием у чекистов, заключенными (потому что норовящий положить себе в карман не способен на самопожертвование во имя какой-либо идеи), Лесли, несмотря на свое дворянское происхождение, был сразу назначен заведующим Сельхозом на Соловках, а затем начальником Сельхозотдела СЛАГа. Когда же Белбалтлаг слился со СЛАГом, то Лесли стал начальником Сельхозотдела Управления Белбалткомбината. Его жизнь в концлагере протекала почти как жизнь вольнонаемного чекиста. Лесли просто повезло, что он нечаянно убил человека. Ему как дворянину и помещику все равно было не миновать концлагеря, только по 58-й статье, получив которую он бы влачил жалкое существование каэра в концлагере, а отнюдь бы не ходил бы с портфелем, живя почти в свое удовольствие.
Вообще все бытовики, по обращению с ними чекистов, не чувствовали себя заключенными. Они были как бы военнослужащие, вместо строевых занятий, выполнявших разную работу, связанные лишь очень ослабленной в отношении их лагерной дисциплиной. Преимущественно из бытовиков комплектовался ВОХР лагеря, который нес те же функции, что и войска ОГПУ. Таким образом бытовикам-заключенным доверялось оружие, они были исполнительными тюремщиками и помощниками чекистов.
В 1930 году после снятии всех политзаключенных с административных и материально-ответственных должностей и перевода их на тяжелые физические работы, особенно стало вольготно в концлагере бытовикам, заполнившим вместе с уголовниками освободившиеся должности, особенно в складском хозяйстве, материальном и продовольственном снабжении, на лагерных кухнях и в магазинах для вольнонаемных, где для жульнических махинаций перед ними было открыто широкое поле деятельности.
В большинстве бытовики имели незначительные сроки заключения, им охотно давали скидки со срока и долго в лагерях они не задерживались, становились «исправившимися» и освобожденные из лагеря растратчики и жулики на воле снова могли привольно и богато жить за чужой счет, творя новые преступления.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. УГОЛОВНИКИ
Заключенные уголовники на Соловках не представляли собой по численности значительную группу подневольного населения, хотя их было и значительно больше чем бытовиков. В разное время лицо этой категории заключенных претерпевало значительные изменения. В 1929 году на Соловках содержались постоянно преимущественно, а их количество было незначительно, очень крупные бандиты, почти поголовно приговоренные судом к расстрелу, замененного им 10 годами заключения в лагере особого назначения. Они почти все были с дореволюционным стажем уголовных преступлений, продолжавших преступную жизнь и при советском строе, имевшие на совести по несколько убийств, побегов из тюрем, сплошное нелегальное проживание на воле от побега до нового ареста при совершении очередного преступления. Они все имели по несколько фамилий, которые они называли при очередном аресте и на суде, чтобы уменьшить себе срок наказания и скрыть другие числящиеся за ними преступления и побеги, совершенные ими под другими фамилиями. В их «послужных списках» были и ограбления государственных учреждений, иначе они бы не приговаривались судом к расстрелу. Среди более молодого поколения этих десятилетников, при советской власти, были все судимые за ограбление государственных учреждений. Большинство уголовников-десятилетников были воровские «короли», правившие не только на воле, но и в концлагере рядовыми уголовниками, большей частью ворами различных «специальностей»: карманниками, домушниками (квартирные кражи), голубятниками (кража белья с чердаков), майданщиками (кража чемоданов на вокзалах и транспорте), имевшие небольшие сроки заключения от пяти и меньше лет и составляющих более значительную, по сравнению с десятилетниками, часть заключенного уголовного мира. Эти краткосрочники попали в 1929 году на Соловки, где краткосрочников почти не держали, главным образом, из срочных тюрем (при очистке последних ОГПУ для подследственных заключенных), когда этапы шли транзитом через Кемский пересыльный пункт прямо на острова. Эти мелкие воришки, называемые на лагерном жаргоне «шпана», только в абсолютных цифрах повысили контингент уголовников на Соловках к концу 1929 года, в процентном же отношении, в связи с массовым завозом политзаключенных, уголовников стало еще меньше и они более незаметно растворились в общей массе заключенных.
С 1930 года процент уголовников на Соловках стал неизменно расти вследствие завоза в Соловецкое отделение концлагеря, независимо от срока заключения, из других, открывшихся к тому времени концлагерей, проштрафившуюся и непроштрафившуюся шпану, преимущественно с дополнительными сроками заключения за совершенные ими кражи в концлагерях. Соловецкое отделение стало не только «особого назначения» для политзаключенных, но еще и штрафное. Кроме того каждый начальник отделения, лагпункта старался спихнуть своему соседу или подчиненному побольше шпаны, которая в лучшем случае работала, и то нерегулярно, с прохладцей. С начальников лагерей, отделений, лагпунктов все жестче требовали выполнения производственных заданий, размер которых также зависел и от числа рабов находившихся в их подчинении, а со шпаны взятки были гладки и уголовники представляли собой весьма нежелательный балласт для каждого начальника. Поэтому и с Соловков при каждом требовании о передачи рабсилы в другие отделения и концлагеря прежде всего в этапы включали шпану. Однако взамен убывших с очередным этапом прибывало еще больше шпаны.
К концу 1932 года на Соловки прибыло несколько громадных этапов из всех концлагерей СССР с уголовниками-«откажчиками», то есть с уголовниками систематически, открыто отказывающимися работать на каких-либо работах. Такие же этапы продолжали прибывать и в 1933 году с открытием навигации и для лагерного чекистского начальства и для политзаключенных эта шпана стала подлинным бедствием. Откажчики, как не работающие, получали в день только 300 грамм хлеба без всякого приварка. К тому же, зачастую, и этот хлеб был ими проигран в карты на месяц вперед. Голодные и озверелые, потерявшие всякий человеческий облик, они грабили политзаключенных и квартиры начальства, нападали друг на друга в лесу и съедали убитых. Если раньше заключенные боялись ходить в лес, чтобы не попасть в лапы патрулей, то летом 1933 года солдаты дивизиона войск ОГПУ и ВОХРа боялись ходить в лес, чтоб не быть съеденными уголовниками. Эти откажчики давали наибольший процент смертей от истощения среди заключенных в 1932-33 годах на Соловках. В среднем в Кремлевском лагпункте умирало по 14 человек в день, что составляло в месяц к списочному составу заключенных Соловецкого отделения 15 процентов.
Если не принимать во внимание судьбу откажчиков, то в целом уголовникам в концлагере жилось привольно, неизмеримо лучше чем в тюрьмах, и, конечно, вне всякого сравнения с политзаключенными. Короли жили припеваючи, держа, как и на воле, согласно жестоким неписаным законам воровского мира, в безоговорочном подчинении себе рядовых уголовников. Короли меняли как перчатки своих марух (фактически жен), назначая им свидания в укромных уголках под охраной, от внезапного появления патруля, все тех же своих подчиненных. Шпана кормила и одевала своих королей, разрабатывала планы и осуществляла грабежи и воровство чемоданов политзаключенных и лагерных каптерок и складов, в то же время всячески отлынивая от принудительного труда. Привыкшие к постоянной нелегальщине на воле, уголовники и в лагере на каждом шагу попирали лагерные порядки. Но пока комсостав рот почти полностью состоял из офицеров Русской армии–политзаключенных случаи воровства были не столь часты, а 11 рота была всегда набита до отказа уголовниками за нарушение лагерных порядков и воровство.
В 1930 году вышло секретное постановление Совета народных комиссаров подписанное тогдашним председателем СНК В.М. Молотовым (Скрябиным) еще более усугубившим положение политзаключенных в лагерях и полностью развязавшим руки уголовникам. По этому постановлению запрещалось назначать на административно-технические и материально-ответственные должности политзаключенных, которые должны были быть использованы (словечко-то какое!) исключительно на тяжелых физических работах, а администрации концлагерей предлагалось обратить исключительное внимание на перевоспитание уголовников, как «социально-близких» (очевидно имелась в виду близость к пролетариату).
Немедленно все офицеры Русской армии были сняты с комсоставских должностей и отправлены на физические работы. Все кладовщики, заведующий складами, каптенармусы, имевшие 58 статью подверглись, той же участи или в лучшем случае остались рабочими на складах. На инженерных должностях получилась осечка: инженеров не имевших 58 статью в концлагере не оказалось, уголовниками заменить их все же не решились и инженерно-технических работники уцелели на своих местах. Замена политзаключенных жуликами-бытовиками и уголовниками на должностях в материальном и продовольственном снабжении привела к хищениям в невероятных размерах. Уголовникам теперь не приходилось даже замки ломать. Чемоданы у политзаключенных отбирались открыто на глазах «своего» комсостава. Продукты из складов получались в любых количествах уголовниками по продовольственным карточкам, печатаемым в лагерной типографии теми же уголовниками. В 1932 году к закрытию навигации выяснилось, что выдан запас продуктов, завезенный на зиму. На складах не оказалось ни соленой конины, которая два раза в неделю включалась в рацион заключенных, ни мороженой говядины для вольнонаемного чекистского начальства, ИСЧ, дивизиона войск ОГПУ и ВОХРа. Словом уголовники распоясались во всю, а перевоспитание их в пролетариат не получилось. Освобожденные из концлагеря уголовники продолжали ту же преступную жизнь и на воле и снова попадали в концлагерь. Я знал несколько уголовников, которые после освобождения, через некоторое время снова оказывались на Соловках с новым сроком заключения. А сколько их попадало в другие концлагеря с новыми сроками?
Пока уголовники потрошили чемоданы политзаключенных, лагерная чекистская администрация ухмылялась, но когда, обнаглев, шпана приступила к планомерным кражам в квартирах вольнонаемных чекистов и командного состава войск ОГПУ, лагерное начальство схватилось за голову. Был начисто обворован двухэтажный особняк, занимаемый начальником Соловецкого отделения лагеря, Чаловым. Наряду с грабежами квартир вольнонаемных начались убийства с целью грабежа заключенных, живших поодиночке при предприятиях. В официальных документах к концу 1932 года появился новый термин – лагбандитизм, то есть лагерный бандитизм. Борьба с ним была не легкой и наталкивалась на серьезные трудности, так как и администрация концлагеря из заключенных и карательные органы ИСЧ и ВОХР оказались настолько инфильтрированы уголовниками с введением в действие недоброй памяти постановления СНК 1930 года, что все распоряжения лагерных чекистов-вольнонаемных проводились формально. Преступления не раскрывались, возбужденные дела против попавшихся с поличным уголовников затормаживались, посаженные в следизолятор через надзирателей-уголовников не теряли связь с уголовным миром, который давил на пострадавших политзаключенных и те боялись жаловаться, а следователи нередко так поворачивали дело, что виновными оказывались политзаключенные и дело против уголовников прекращалось. Характерный случай произошел при большом пожаре летом 1932 года, уничтожившим фабрики ширпотреба. Налицо был явный предумышленный поджог банды уголовников с целью разграбить магазин (загорелось над ним), что и было ими осуществлено во время суматохи. А виновными оказались пожарники. Вся пожарная команда, состоявшая из шести политзаключенных-десятилетников, получили еще по десять лет каждый и была отправлена на лесозаготовки. Препровождаемые в следизолятор уголовники вдруг бежали от сопровождавшего их солдата ВОХР и потом их никак «не могли» снова найти на ограниченной территории лагеря и дело тоже прекращалось. А из королей, главарей шаек, так никогда и никто к ответственности и не был вообще привлечен.
Здесь в полной мере выявилась та тайная, всепронизывающая связь постоянно существующая в уголовном мире среди его членов и та железная дисциплина, которой не могут, под страхом смерти, не подчиняться все уголовники. Эта связь осуществлявшаяся круглосуточно в пределах лагпункта, отделения лагеря, где уголовники могли видеться друг с другом непосредственно, распространялась и на весь концлагерь и на все концлагеря через уголовников перебрасываемых из одного отделения в другое или из лагеря в лагерь. Таким образом распоряжения королей, включая и их смертные приговоры отдельным отступникам, нарушившим воровской закон, доходили до самых отдаленных лагпунктов самых отдаленных лагерей. Предавшему на допросе шайку, не выполнившему условий картежной игры, уголовнику некуда было скрыться, его всюду настигала карающая рука короля, волю которого выполнял какой-нибудь другой заигранный (то есть проигравшийся в карты) уголовник. Бороться с этим, тесно-спаянным, совершенно-особым, уголовным миром было не под силу чекистам. Лагбандитизм так никогда и не был искоренен, как и не искоренена преступность на воле, которую марксисты тщетно пытались объяснить пережитками капитализма.
С моральной точки зрения уголовники представляли собой самые подонки общества. Лишенные всякой морали, жестокие эгоисты, в массе своей некультурные и малограмотные, органически неспособные к труду, особенно усидчивому, поголовно трусливые и неврастеники от постоянного страха перед возмездием со стороны государственных властей и своих королей эти нелюди, в сущности влачили жалкое существование, сытые и пьяные до предела после очередной кражи, а затем голодные до совершения следующего преступления. Вся жизнь уголовника проходит между тюрьмой или концлагерем и на нелегальном положении на воле до раскрытия очередного преступления. Только очень немногие из них имели на воле семьи, большинство же были страшно одиноки, вступая с такими же как и они уголовниками в случайные связи.
Правда, среди уголовников были и талантливые единицы, которые может быть составили бы себе имена, если бы не покатились на уголовное дно. Я уже рассказывал о режиссере Соловецкого театра Глубоковском, по воровской кличке «Мартышка». Его сменил другой режиссер, не менее талантливый, воровской король заключенный Комиссаров. 14-летний вор Пушкин рисовал так, что подделанные им простыми цветными карандашами купюры лагерных бон и советских денежных знаков даже в лупу нельзя было отличить от подлинных. Уголовниками были и, возможно порвали с уголовным миром, писатели Авдеенко и Каверин.
Особо надо сказать об уголовниках детского и очень юного возраста до 16 лет. Я видел в концлагере мальчишек, по их виду, не более 9-10 лет. Бледные, грязные, в рубищах, эти мальчишки вызывали к себе смесь жалости и отвращения, жалости к их детскому возрасту, отвращение ко всем порокам, написанным на их уже состарившихся личиках. Количество несовершеннолетних уголовников было не меньше контингента взрослых уголовников. Несовершеннолетних уголовников, еще до постановления СНК 1930 года, пытались перевоспитывать, изъять их из-под власти воровских королей. В августе 1929 года на Соловках малолетние уголовники были переведены из рот, а уголовницы из женбарака, в отдельные бараки, где каждый имел топчан с соломенным матрацем, подушку, постельное белье и тумбочку в изголовье, чего не имели остальные заключенные. Малолеток одели в новенькие черные костюмы отличные от лагерного обмундирования заключенных, выделили для них отдельную кухню с улучшенным питанием, назначили воспитателей из бывших коммунистов-заключенных, а к девицам приставили моих «одноделок» политзаключенных Любарскую, Могилянскую, Привезенцеву и Левицкую для внушения своим подопечным правил поведения добропорядочных девиц. Мальчишки ходили по лагерю с песнями военным строем, девиц водили на прогулку парами. Заключенные остряки быстро окрестили первых кадетами, вторых «смолянками» (Смолянками назывались воспитанницы закрытого учебного заведения в Петербурге Смольного института для благородных девиц, куда допускались лишь дочери аристократов). Для малолеток настало райское житье, но, когда их заставили обучаться различным специальностям, а еще больше, когда их стали посылать на предприятия для прохождения практики, перевоспитываемые от работы отказались и снова переключились на воровство. При наплыве этапов в октябре-декабре того же года, когда заключенных девать было некуда, затею с отделением малолеток и их перевоспитанием бросили, они смешались с взрослыми уголовниками, короли могли торжествовать.
Подобные попытки отделения несовершеннолетних уголовников предпринимались и позже, но перевоспитания они также не дали… В зимовку 1932-33 годов ко мне на курсы электромонтеров на Соловках попали несколько малолеток из подобной особой колонны из Белбалтлага, где они были на легких работах по очистке от кустарника затопляемой зоны. За систематические кражи их отправили на Соловки. В Кеми в 1933-34 годах существовал при начальнике УСЛАГа оркестр духовых инструментов в составе около 60 несовершеннолетних уголовников. Как только им разрешили свободное хождение по городу у начальника Управления с Кемской милицией возник острый конфликт, так как в городе не осталось почти ни одной не обворованной квартиры. Пришлось оркестр распустить, а несовершеннолетних упрятать за проволоку на Вегеракшу.
С выдвижением меня на административно-технические должности мне пришлось тоже заниматься перевоспитанием несовершеннолетних уголовников, по замыслу лагерного начальства методом обучения их электротехническим специальностям. КВЧ без разбора объема предприятий и специфики производства, грамотности самих учеников, распределяли их на глазок по производствам отделения лагеря. На электромонтажных работах мне с учениками было проще, дав каждому электромонтеру по ученику в виде помощника и отправив их всех из электромонтажной мастерской на линейные работы. Хуже с этими малолетками дело обстояло на электростанции, где и по своей малограмотности они ничему не могли научиться. Кроме того за этой бандой надо было все время наблюдать и не столько, чтобы они не обворовывали (с этим приходилось мириться), а главное чтобы кто-нибудь из них в тесном по их количеству машинном зале не попал бы в маховик двигателя, ременную передачу к динамо-машинам или под напряжение на шинах за распределительным щитом. За каждый бы такой несчастный случай, да еще с несовершеннолетним, мне бы снесли голову. Я никогда особенно не верил в возможность сделать из несовершеннолетнего уголовника честного гражданина, тем не менее я много усилий положил, чтобы дать им электротехнические знания, хотя бы в объеме знаний помощника электромонтера. К несчастью подавляющее большинство их было настолько малограмотно, что занятия по теории приходилось начинать с преподавания арифметики, без которой даже закон Ома не мог быть применим и им понятен. КВЧ не учитывала необходимости дать малолеткам сначала общее образование, а затем уже квалификацию. Отсутствие какого-либо труда, тем более тяжелого физического, заполнение рабочего дня наблюдением за производственным процессом вперемешку с занятиями теорией, которую малолетки могли пропускать мимо ушей, заставляло наиболее смышленых дорожить пребыванием на вверенном мне предприятии. Воспользовавшись этим мне удавалось частично налаживать дисциплину. Обычно через некоторое время после начала обучения у меня этой шпаны, я их предупреждал, что малейшее воровство на предприятии или в бараке, неподчинение моим распоряжениям повлечет немедленное увольнение с предприятия. Это действовало, учившиеся у меня, более или менее долгий срок удерживались от воровства. Иногда кто-либо срывался, воровал, приходил с извинениями, просил не выгонять. Приходилось прощать при условии возвращения краденного. Вторично я никого не прощал и выгонял вора. Поскольку ученики держались у меня значительно дольше, чем на других предприятиях, откуда они сами убегали, я даже удостоился похвалы от начальника отделения Пушсовхоз на совещании административно-технических работников заключенных по вопросу профтехобразования. «Я спрашиваю вас почему у зава электростанции не бегут ученики?», - грозно вопрошал начальник у собранных им рабов и сам же отвечал: «Потому что он с ними занимается, учит их». Начальнику было невдомек что кто же из этих несовершеннолетних уголовников захочет махать тяжелым молотом в кузнице или чистить навоз на скотном дворе? Конечно несовершеннолетние выбирали полегче сидеть и слушать на электростанции, почему и убегали не от меня, а с других предприятий и просились сами на электростанцию. Однако как бы там ни было и взрослые и несовершеннолетние уголовники и уголовницы так и оставались неперевоспитанными.
За время моего пребывания в лагере мне постоянно приходилось соприкасаться с уголовниками, но запоминающихся сильных личностей мне так и не встретилось. Все уголовники были какие-то безликие без ярко выраженных индивидуальных особенностей. Одни и те же пороки, взгляды на жизнь, на отношение к другим уголовникам и вообще людям. Если подробнее охарактеризовать одного из них, его портрет можно приложить к любому другому. Я ограничусь описанием одного уголовника, которого я больше всех узнал.
ЖОРЖ ЛИФАНТОВ
«Жорж Лифантов», суя с короткими толстыми пальцами руку, говорил он, слегка наклоняя голову и смотря из-под сильно выраженных надбровных дуг белесыми круглыми глазами. С дешевой претензией на интеллигентность, он смотрел на нового знакомого, пытаясь определить какое впечатление на него произвело «Жорж». Лифантов ни за что не хотел быть Егором или даже Георгием. Жорж и только Жорж, иначе, по его мнению, он не был бы интеллигентом, за которого ему так хотелось себя выдать.
Лифантов была его настоящая фамилия, под которой он и получил свой предпоследний приговор – расстрел, замененный 10 годами заключения в лагере особого назначения на Соловках по совокупности целой серии статей уголовного кодекса, начиная с 59-й (бандитизм). У его было еще шесть фамилий, под которыми он был судим неоднократно за совершенные им преступления, в том числе убийства милиционера и одного гражданского лица, побеги из тюрем и с этапов, ограбления касс и частных лиц. Уголовником он стал еще в дореволюционное время и продолжал быть и при советской власти. Лифантов был воровской король и имел самую «высшую» в уголовном мире специальность «медвежатника», то есть грабителя сейфов. Он был электромонтер и при взломе сейфов пользовался электродрелью, без всякого набора ключей и «фомок», применение которых он считал в своем «деле» кустарщиной. С явным восторгом Лифантов вспоминал первые годы революции, когда можно было совершенно безнаказанно грабить всех обывателей подряд под видом их принадлежности к буржуазии. Однако к концу 1919 года он уже попал за грабежи в известную петроградскую тюрьму «Кресты», где был свидетелем массового расстрела чекой нескольких тысяч политзаключенных, продолжавшегося несколько дней и ночей в первых числах января месяца 1920 года. Об этой жуткой трагедии, когда погиб цвет русской нации, я услышал впервые от Лифантова. Расстрелом руководил и лично принимал участие комендант расстрела петроградской чека (существовала такая должность, камуфлировавшее всем известное понятие палач) Бозе. «В кожаной куртке, кожаных брюках, кожаных сапогах и кожаном авиаторском шлеме, застегнутом под подбородком, с которого спускалась на грудь большая рыжая борода, с маузером в руках, всегда пьяный», - таким обрисовывал Лифантов палача ЧеКа Бозе. В последних числах декабря 1919 года был издан декрет об отмене смертной казни. Зиновьев, бывший тогда председателем Северных коммун с центром в Петрограде отдал распоряжение о немедленном расстреле всех арестованных политзаключенных находящихся в петроградских тюрьмах приговоренных чекой или находящихся еще под следствием, чтобы поставить центральные власти перед совершившимся фактом. Мертвых ведь не оживишь. Возмездие настигло Зиновьева в 1938 году, вероятно он вспомнил свое распоряжение, когда его самого расстреливали.
У Лифантова на воле была жена, с которой он жил в краткие моменты своей легальной жизни. По-видимому, она была не уголовница, добропорядочная женщина, очень несчастная с таким мужем, любовь к которому пересиливала невзгоды сопряженные с поведением ее мужа. Внешне Лифантов не представлял собой ничего привлекательного. Приземистый, ниже среднего роста с круглой головой таким же лицом тюремной бледности, со скудной растительностью, Лифантов выделялся лишь обилием татуировки, которая покрывала не только всю спину, грудь, живот, руки, но и даже ноги до ступней. И какой только порнографии не было нарисовано на нем, а женскими именами так и пестрели его руки от пальцев до плеч. Водянистые глаза Лифантова не выражали ни единой мысли, в них не загоралось ни единой искры, когда он рассказывал о своих бандитских и любовных похождениях группировавшимся вокруг него ворам. Что в этих рассказах было из действительности, а что плодом его фантазии осталось загадкой навсегда.
С Бутырской тюрьмы в Москве, где я впервые встретился с Лифантовым, наши пути в заключении все время переплетались. В нашу общую камеру Лифантова, сильно обносившегося, худого и очень бледного, привезли в марте 1929 года из московской Таганской тюрьмы, где он отбывал очередной десятилетний срок под фамилией Медведев. В Таганской тюрьме «Медведев» успел отсидеть только не более двух лет из положенных ему десяти, но как электромонтера его уже допускали к работе даже на «баркасе», то есть на наружной стене тюрьмы и он, по-видимому, уже составил план очередного побега, который осуществить не успел, сожаление о чем у него прорывалось в разговорах со шпаной. Но не планирование побега решило судьбу Лифантова-Медведева. Изъятие его из срочных заключенных Таганской тюрьмы и перевод в следственную камеру Бутырской тюрьмы явилось следствием раскрытия всех его фамилий, под которыми он совершал грабежи.
В 1928 году МУР (Московский уголовный розыск) резко повысил уровень своей работы, пригласив к себе на работу выдающегося криминалиста, бывшего помощника начальника уголовного розыска Московского полицейского управления, фамилию которого я, к сожалению, не помню. Этот выдающийся криминалист по своей огромной практике знал не только в лицо, но и «почерк» каждого уголовника, то есть невидимые для обыкновенных людей способы ограбления, присущие каждому уголовнику. Старый работник угрозыска внушал священный ужас всем уголовникам, которые при одном упоминании его фамилии теряли свою наглость и становились покорными своей судьбе, как овцы. Раскрытие преступлений сразу же обрушилось лавиной на уголовный мир, отбывающие сроки по тюрьмам под другими фамилиями уголовники получали предъявление обвинений в совершении и других ими преступлений под иными фамилиями. С первого и единственного, притом дневного, допроса Лифантов пришел в камеру не похожий на себя. Куда девался наглый вид, быстро набранный им за несколько дней пребывания в нашей камере? Лифантов, и без того не блиставший упитанностью, еще более похудел и осунулся за какой-нибудь час. Он сел на край нар, опустив голову. Сплоченная им шпана тесно окружила его с вопросом «что»? Лифантов только произнес фамилию этого криминалиста, поджал губы и потряс головой, как бы стряхивая с себя неотвязчивую мысль. Произнесенная им фамилия отбросила от него всю шпану, точно Лифантов был ручной гранатой со спущенным запалом. Я видел как побледнели лица у шпаны, как в ужасе расширились у них зрачки, уставившиеся на Лифантова, от которого они уже не могли оторваться. «Все известно, не успел смыться (т.е. бежать)», - сказал Лифантов, безнадежно махнул рукой и повалился на нары, с которых он встал только на следующее утро. Я ясно слышал как этот матерый бандит ночью всхлипывал.
Постепенно привычка все время ходить на грани смерти восторжествовала и уже через несколько дней Лифантов верховодил шпаной и вел себя с той же наглостью, что и до допроса. И все же чувствовалось у него ожидание расстрела, перевода в камеру смертников. Его судило заочно особое совещание ОГПУ, так называемая «Тройка», по Москве. Когда Лифантов вернулся из коридора, вызванный туда дежурным для объявления приговора, радости его не было конца. Замена расстрела десятью годами заключения (в который раз ?!)! Лифантов мог считать этот приговор просто выигрышем в лотерее, и притом крупным выигрышем. «Дешево отделался» излучала его физиономия. Он никогда и до и после не был таким радостным. Сразу же стал собираться на этап, с которым Лифантов и был отправлен в мае 1929 года из Бутырской тюрьмы на Соловки в концлагерь.
Встретился я с Лифантовым на Соловках, совершенно неожиданно для меня, месяца через полтора после моего прибытия туда. Он работал линейным электромонтером и пришел в кладовую электропредприятий вместе с другими монтерами получать материал. Лифантов сразу подошел ко мне, сунул свою лапу: «Я знал, что ты здесь», - и, понизив голос, продолжал: «На замок чемодан не запирай». Более неприятной встречи и такого «совета» нельзя было и представить. Совет о замке, скорее приказ воровского короля, я и не мог выполнить, так как чемодана у меня вообще не было, а носильные вещи лежали все в тех же мешках, с которыми я был отправлен из Бутырской тюрьмы. Но я очень обеспокоился за целость своих вещей, считая их потерянными, предположив, что они уже проиграны ворами в карты.
Оказывается, я глубоко ошибался и понял это только значительно позже, когда я с Лифантовым оказался проживающим в одном помещении в общежитии электропредприятий. Тогда у меня уже появился чемодан и Лифантов объяснил мне подробнее свою заботу о замке на моем чемодане: «Не вводи в соблазн жуликов (т.е. воров), не утерпят взломать чтоб посмотреть, что у тебя есть, а если не заперт, то откроют, посмотрят и ничего у тебя не возьмут, а так тебе придется чинить замок. А если и возьмут у тебя что, так ты мне скажи, мигом вернут все, я прикажу»! Я задумался над этой фразой воровского короля и стал припоминать все мои с ним отношения.
Когда Лифантова привезли голодного и оборванного в Бутырскую тюрьму, я не знал кто он, по какой статье посажен. Мне просто стало жаль этого арестанта и я, движимый долгом христианина, поделился с ним только что полученной передачей от Политического красного креста, хотя и сам был сильно истощен на тюремном пайке, поскольку передачи от матери были запрещены. Лифантов поел с жадностью, он был очень голоден. Этот акт гуманности в отношении воровского короля, оказывается, поставил меня под охрану воровского неписаного закона. С этого момента моя личность и мои вещи стали неприкосновенными для воров и кто бы из них посягнул на меня карался бы немедленно королем, под властью которого находился этот вор с возвращением всех украденных вещей. Перед этим парадоксом может стать в тупик любой психолог. Как могли совершенно аморальные уголовники включить в свой жестокий первобытный закон такой благородный пункт, выполнение которого вряд ли встретишь у многих членов самого цивилизованного общества – добром отвечать на добро?! За все время моего пребывания в концлагерях у меня не пропало ни одной вещи, хотя я никогда ничего не запирал, на меня не было совершено ни одного нападения уголовников. При той чрезвычайно эффективной внутренней связи в уголовном мире этот наложенный на меня Лифантовым иммунитет был действителен всюду и даже после его расстрела. Мало того, когда меня освобождали из концлагеря, а я еще не покинул его пределы, ко мне подошел заключенный, совершенно мне незнакомый: «Лифантова знаешь?», спросил он меня. Засученный до локтей рукава, распахнутая на груди рубашка обнажали невероятное количество татуировок. Радость освобождения моментально сменилась у меня неприятным чувством – что ему еще от меня надо? «Так он расстрелян на Соловках в 1933 году», - ответил я. Мое сообщение нисколько его не поразило. «Знаю, - коротко бросил он, - теперь запомни», - и он назвал мне адрес и имя в том городе, куда я ехал, чтобы у этого лица я мог получить чистый паспорт на вымышленную фамилию. Я не собирался идти на нелегальщину и я наотрез отказался. Он повторил еще раз адрес и имя и добавил: «Все равно они жизни тебе не дадут под своей фамилией, раз ты побывал в лагере»!
Я, конечно, не воспользовался адресом, тут же его забыл, но последнюю фразу – ох, как я часто вспоминал потом, очутившись на так называемой воле, на воле, которая для бывшего заключенного по 58-й статье была скорее неволей. С выданным мне волчьим паспортом меня не приняли в том городе, куда я поехал, даже рядовым электромонтером на коммунальной электростанции. Во все предприятия и учреждения с повышенными окладами доступ мне был закрыт. Каждый осел мог меня лягать безнаказанно, это даже считалось доблестью, ведь у меня была 58-я статья! Я мог проживать только в захолустных городках, с моим паспортом я не мог появляться ни в одном большом городе, в областных городах я не мог переночевать в гостинице хотя бы одну ночь! Все эти нарушения с моей стороны паспортного режима грозили мне новым сроком заключения от 3 до 5 лет! Ну как тут не вспомнить слова уголовника: «Все равно они жизни тебе не дадут»! Таким бесправным изгоем я прожил почти всю свою жизнь и только в старости через 28 лет после ареста меня признали невиновным и я получил настоящий паспорт – с ума сойти! Последнюю фразу сказал мне один адвокат, когда я к нему обратился в 1957 году за разъяснением прав приобретенных мною после моей реабилитации, а он сопоставляя даты моего ареста и реабилитации высчитал срок в двадцать восемь лет, срок моих гонений и притеснений. За что? Да, действительно было правильнее сразу после освобождения из концлагеря перестать быть самим собой, явиться по указанному мне уголовником адресу, получить чистый паспорт на вымышленную фамилию и не испытать всего того, что я испытал и после освобождения из концлагеря, включая и 1937-39 годы, когда каждую ночь я ждал нового ареста, когда я кончал все дела обязательно до вечера, потому что не знал, где я встречу рассвет следующего дня – не за решеткой ли? Мои опасения повторного заключения в концлагерь в годы пика сталинского террора были далеко не безосновательны. В прокуратуре Ленинградского военного округа, которая пересматривала в 1957 году, по моей жалобе, мое «дело», у меня вышел любопытнейший разговор с одним майором юстиции. Когда он установил по документам, что я был посажен в концлагерь в 1929 году, а освобожден в 1936, он спросил меня: «Сколько раз Вы сидели?», - на что я ему удивленно ответил: «Один, и этого хватит»! Майор посмотрел на меня недоумевающее и спросил: «Так как же Вас в 1937 году не посадили? Ведь Вы понимаете, что в 1937 году Вас могли посадить за то, что Вы уже раз сидели?!». Комментарии к законности в сталинскую эпоху, как говорится, излишни. Возвращаясь к предложению сделанному мне уголовником – получению мною чистого паспорта на вымышленную фамилию, меня занимает вопрос: неужели «социально-близкие» преступники и по психологии были близки к лицам возглавлявшим, так называемую, диктатуру пролетариата, лучше меня, честного человека, понявшие уготованную мне участь после концлагеря?
На Соловках Лифантов «поскользнулся» впервые в конце мая 1930 года. Почти год он ни разу не был выявлен в нарушении лагерного порядка, хотя, приехав на Соловки нищим, у него очень скоро появилось три чемодана с носильными вещами, перина, подушка, постельное белье, одеяло и питался он не только лагерным пайком. Об этом постаралась соловецкая шпана. Во время поголовного выселения заключенных из кремля, в том числе и десятилетников, поздней осенью 1929 года, в связи с превращением всех помещений Кремля в колоссальный сыпнотифозный госпиталь, Лифантов из 14 рабочей роты попал сразу в общежитие электропредприятий, заняв коморку дежурного по электросети монтера при электромонтажной мастерской. К этому времени Лифантов уже был переведен из линейных монтеров в дежурные. Дежурных было два, они дежурили по суткам, имея, таким образом через сутки, двадцать четыре часа свободными от работы. Да и во время дежурства работы было мало, потому что под управлением Зиберта электросети были в образцовом состоянии и пробки перегорали редко, а обрывов проводов почти не было. Словом эта должность была легкой и оставляла много свободного времени Лифантову, в особенности для отлучек к шпане. На должность дежурного Лифантов попал не без давления на вольнонаемного заведующего электромонтажной мастерской Тарвойна, литовца по национальности, со стороны его жены. Тарвойн, так же как и его жена были заключенными, он по 58 статье на 3 года, она уголовница, с которой он познакомился в концлагере на Соловках и после освобождения они поженились. Жена Тарвойна вела весьма бесшабашный образ жизни, привыкши к таковому в уголовных шалманах. Обеды она не готовила, беря их в столовой для вольнонаемных, уборку комнаты и все хозяйственные дела делал муж, поскольку жена мнила себя великой актрисой на подмостках клуба вольнонаемных и для дома у нее времени не хватало. Кроме того она не порвала с уголовным миром, была легкого поведения и не зря поместила Лифантова в коморке электромонтажной мастерской.
Был выходной день, солнечный и довольно теплый для конца мая на Соловках; снег оставался лишь на северных склонах гор, а в затишье на припеке земля парила, показалась первая зелень. Правда остров еще был окован припоем льда, мешавшим открытию навигации, в Белом море полно еще было шуги, от которой тянуло остреньким ветерком, но в воздухе чувствовалась весна, первая весна моего заключения на Соловках. Выходной день также как-то умиротворял душу и я сидел у открытого окна нашей комнаты в общежитии, выходящего на юг в сторону Кремлевского озера. Мое внимание привлек быстро идущий от Кремля в сторону нашего общежития Лифантов. Через несколько минут он вбежал ко мне с деревянным чемоданом, который я ранее видел у него под койкой. Собственно это даже не был чемодан, а скорее сундучок с горбатой крышкой размером 40х60 см. «Купи его у меня, - почти выкрикнул Лифантов, - всего три рубля». Наличные советские деньги у меня были, но на них в магазине ничего нельзя было купить, так как расчет велся с заключенными по квитанциям на депонированные в кассе лагеря личные деньги заключенных. У меня все еще не было чемодана и вещи пылились в мешке под койкой. Кроме того такой чемодан, хотя и представлял собой дополнительную тяжесть на этапе, мог именно на нем очень пригодится для отдыха на нем во время привала на марше. Словом чемодан был мне действительно нужен и я его купил, отдав Лифантову деньги. Эти три рубля и погубили Лифантова. Я не обратил внимания на его возбужденное состояние и только потом сообразил, что он уже был навеселе. Лифантов убежал с деньгами, на них где-то еще хватил денатурата для храбрости и вонзил нож в бок одной малолетке, ученицы электромонтажной мастерской. Она была марухой Лифантова. То ли она ему отказала, то ли ему спьяну показалось, что у него есть счастливый соперник, но в припадке ревности Лифантов решил ее зарезать. Девчонку спасли, она выжила, а Лифантова сразу же забрали в 11 роту и через несколько дней мы узнали об отправке его в штрафной изолятор на Секирную гору сроком на 6 месяцев.
Половая распущенность Лифантова была характерна для всех уголовников. Значительно позже я как-то с ним сидел у окна в управлении электросетями. Со второго этажа нам хорошо была видна дорога, по которой показалась идущая без конвоя недавно привезенная на Соловки студентка-белоруска по 58-й статье на 10 лет. Под следствием она не потеряла своей упитанности и форм. «Вот эту бы …», - сказал Лифантов. Он не договорил, он меня все же стеснялся, но из его глазных впадин выглянул такой скот, что у меня ноги подкосились.
Итак, Лифантов попал на Секирку в штрафизолятор и ни у кого не оставалось сомнений в его гибели там. Однако месяца через два он появился у нас на электростанции, правда очень похудевший, но такой же наглый, как всегда. Ему повезло. Отсидев на «жердочке» в белье несколько дней в продуваемом всеми ветрами здании церкви на Секирной горе, в которой отсутствовали рамы в оконных проемах, и, не схвативши воспаление легких благодаря теплому времени года, Лифантов попал на электростанцию Савватьевского лагпункта, на территории которого была Секирная гора. Электромонтера там как раз не было и заведующий Савватьевской электростанцией, заключенный венгерский коммунист, упросил передать ему Лифантова. Лифантов приехал в Кремль, правда с конвоиром, за моторным топливом. У всех он выпрашивал съестное и все кто чем мог снабдили его.
Таким образом Лифантов благополучно отбыл свой штрафной срок и осенью 1930 года снова вернулся в электромонтажную мастерскую на должность дежурного электромонтера и снова занял свою коморку. Возвращению Лифантова на прежнюю должность безусловно помогло, недоброй памяти, постановлении СНК 1930 года о воспитании «социально-близких» уголовников. И это же постановление, коренным образом изменившее лагерную конъюнктуру, дало возможность Лифантову развернуть преступную деятельность на Соловках.
Поскольку Лифантов, как король, действовал через уголовников-членов его шайки, преступная его деятельность в 1930-31 годах была почти незаметна для нас. Никакие уголовники его не посещали в электромонтажной мастерской, никакой картежной игры на глазах он не вел. Иногда он отлучался, даже на целые сутки. Правда иногда нас поражало обилие его имущества, сменявшееся абсолютной пустотой чемоданов, а иногда и отсутствие их и даже постели. Это соответствовало удачным кражам и выигрышу в карты или проигрышу в карты. Однажды Лифантов так проигрался, что вынужден был выковырять все золотые коронки из своего рта. Однако с выбытием Зиберта в июне 1932 года, Лифантов перестал стесняться, почти не скрывал своего участия в лагбандитизме. Он очень часто стал предлагать мне и контролеру электросетей Шапиро, с которым мы помещались в одной комнате разные продукты, явно похищенные со склада, - мороженое мясо, крупу, сахар. В 1932 году очень обострился в концлагере голод и Лифантов предлагал продукты по баснословным ценам. Кроме весьма скудного питания на кухне, в то время заключенным, в зависимости от занимаемой должности, ежемесячно давалась продовольственная карточка и премиальные деньги для выкупа этих продуктов. Однако карточки не отоваривались ввиду отсутствия продуктов, а деньги у меня копились по 20-30 рублей в месяц. Таким образом мы с Шапиро иногда разрешали себе поесть мясного супа из говядины, которой я не пробовал более трех лет, или напиться сладкого чая. За небольшой кусок мяса Лифантов брал 100 рублей, за горстку сахара столько же. Благодаря Лифантову в этот период мы несколько раз вкусно и питательно поели.
Несмотря на хорошее ко мне отношение Лифантова, у меня с ним вышел крупный конфликт, когда он стал моим подчиненным. Я уже был заведующим электросетями, мы помещались в другом здании, где была только электромонтажная мастерская в первом этаже и две маленьких комнаты в мансардном помещении. В одной было управление электросетями, там же мы и помещались с контролером, в другой два дежурных электромонтера, в том числе и Лифантов. Последний повадился водить к себе в комнату свою очередную маруху. В случае если бы патруль при очередном обходе зданий застал бы у Лифантова эту уголовницу, то не только он и она, но и я, как администратор допустивший нарушение лагерного порядка во вверенном мне учреждении, были бы немедленно посажены в 11 роту на определенный срок, а потом меня бы сняли на общие работы. Я предупредил Лифантова, чтобы он прекратил свидания со своей марухой в нашем здании и объяснил, хотя он прекрасно знал, какие последствия он навлечет и на себя и на меня. Лифантов весело мне ответил, что никакой опасности для меня нет, так как его маруха подруга марухи начальника Кремлевского лагпункта, заключенного чекиста с Киевского вокзала города Москвы, получившего десятилетний срок за убийство своей невесты. Такое шаткое заступничество, случись что-нибудь, меня не удовлетворяло и я повторил, уже в форме приказания, Лифантову запрет допускать его маруху в наше здание.
Через несколько часов после нашего разговора маруха Лифантова снова пришла. Я вызвал Лифантова в свою комнату и повторил свое распоряжение. Неожиданно Лифантов набросился на меня с кулаками, я еле успел увернуться от удара. Мне удалось припереть Лифантова столом в угол, откуда он стал осыпать нецензурной бранью, а затем перешел на обвинение меня в контрреволюции, якобы он сам слышал, как я в пьяном виде пел «Боже царя храни». Глупее ничего нельзя было придумать, так как, во-первых, я никогда не был пьян и вообще спиртного в рот не брал, во-вторых, никогда монархистом не был и единоличную власть ненавидел. Меня эта ложь настолько возмутила, что я хотел переступить раз и навсегда взятое правило не обращаться к чекистам против заключенного, и вызвать по телефону патруль для ареста Лифантова. Однако я вовремя одумался. Лифантов отделался бы несколькими сутками пребывания в 11 роте в худшем для него случае, а мне грозило бы в лучшем случае добавление срока за «контрреволюцию», если бы Лифантов в присутствии патруля повторил свои вздорные обвинения по моему адресу. Ему бы поверили, а мне нет, как политзаключенному. Драться с ним тоже мне не улыбалось и тут я почему-то решил окатить его водой из подвернувшегося мне под руку ведра. Вероятно весь пыл Лифантова был из желания покрасоваться петухом перед своей марухой, а облитый водой он стал мокрой курицей. Маруха немедленно ушла, Лифантов сразу замолк, я позволил ему отодвинуть стол и выйти из угла. Через несколько часов мы с ним разговаривали как будто ничего не случилось. Маруха его больше к нам не приходила.
Я все же обо всем доложил заведующему электропредприятий заключенному инженеру Гейфелю. Мы с ним обсудили и пришли к заключению замять этот инцидент, так как, во-первых, мне все же не хотелось сажать заключенного, хотя бы и уголовника в 11 роту, во-вторых, фактическая власть в концлагере принадлежала уголовникам, они как раз были в апогее своей силы, как социально-близкие, и неизвестно как бы я еще мог пострадать и от чекистов и от уголовников.
Недели через две после описанного выше инцидента, в одну из сентябрьских ночей 1932 года я был разбужен ярким светом направленным мне в лицо. Открыв глаза, я увидел солдата войск ОГПУ. «Арест, - промелькнуло у меня в голове, арест в лагере, хуже ничего не могло быть, - дело рук Лифантова». Солдат тихо спросил: «Кто здесь старший»? Я ответил, что я заведующий. Тогда солдат нагнулся и еще тише сказал: «Беру у Вас Лифантова». Мы с контролером Н. быстро оделись и с солдатом прошли в комнату дежурных монтеров. Солдата в здание впустил другой дежурный монтер, болгарский коммунист и стукач, Шаранков, сидевший по 58-й статье с десятилетним сроком заключения. Лифантов крепко спал. Я подумал о легкомыслии ИСЧ посылать для ареста, хотя бы и в лагере, такого матерого бандита одного солдата, хотя, вероятно, рассчитывали и на Шаранкова, возможно, которому, как стукачу, все было заранее известно и потому он впустил солдата совершенно бесшумно. Солдат вынул наган из кобуры, направил на Лифантова, а Шаранков разбудил последнего. Солдат приказал Лифантову встать, одеться и собрать вещи. Лифантов наружно не волновался, не знаю что у него было в душе, но мне кажется, он искренно верил в засилье уголовников и в лагерной администрации, а потому не опасался за свою судьбу. Он оделся, свернул свою постель, туго перетянув ремнем. Когда Лифантов ее скатывал, он с чисто профессиональной ловкостью метнул мне свой бумажник так, что ни солдат, ни Шаранков, ни Н. ничего не заметили. Я быстро спрятал бумажник в карман. Тюк с периной оказался очень громоздким, под ним и взятым наперевес чемоданом, Лифантов почти исчез. Еще два чемодана Лифантов взял в руки, согнувшись под их тяжестью. Король был имущим. «Нашлепали (т.е. оклеветали), - сказал Лифантов на лагерном жаргоне, - Соловки! Вчера только в клубе вольнонаемных разговаривал со старшим следователем ИСЧ»! Сообщение о разговоре с таким высокопоставленным в концлагере лицом не произвело на солдата никакого впечатления – Лифантова отвел солдат в следственный изолятор в первый этаж здания управления Соловецкого отделения.
Содержание бумажника Лифантова доставило мне новые переживания. В бумажнике оказалось около пяти тысяч советскими деньгами. Оба мы с моим другом контролером Н., от которого у меня не было секретов, потому что я доверял ему вполне, были настолько ошеломлены, что так больше и не уснули, прикидывая что делать с деньгами? Сдать в ИСЧ – от уголовников несдобровать, молчать – найдут при обыске, тоже головы не сносить, ИСЧ с радостью причислит каэра к шайке бандитов. Из раздумий нас вывел утром худенький, бледненький, в каком-то почти полностью изношенном лагерном обмундировании, шпаненок из малолеток, появившийся в электромонтажной мастерской после ухода монтеров на линию и искавший меня по имени. «Уголовная связь заработала, - подумал я, - наверное от Лифантова». И я не ошибся – сунутая мне шпаненком записка на маленьком обрывке грязной бумаги, написанная карандашом была такого содержания: «На деньги делай передачи в следизолятор. Жорж». Решая вопрос об использовании денег, эта директива еще более усложняла вопрос: кто будет носить передачи бандиту, не рискуя быть причисленным к его шайке, и где покупать продукты? На последний вопрос сразу же сделал предложение малолетний уголовник: «Сколько и чего надо буду я вам приносить, были бы деньги». Хищение и продажа продуктов на черном рынке Соловков продолжались, уголовники действовали, несмотря на аресты в лагере уголовников. Мы были уверены и эта наша уверенность потом подтвердилась, что не один Лифантов был арестован. Н., как я уже рассказывал о нем, в любой момент старался сделать что-либо доброе другому человеку, и тут он предложил носить передачи. Я не соглашался, зная чем Н. рискует, однако он, сам вполне сознавая на какой риск идет, все изображал в розовом свете и продолжал меня уговаривать. Я наконец согласился, мы заказали малолетке буханку хлеба – 200 рублей, две пачки махорки за ту же сумму, 100 граммов леденцов – 50 рублей. Я знал эти цены, ведь был голод, но я не имел таких бешеных денег, да и потом воздерживался покупать у уголовников, за исключением двух-трех случаев и только у Лифантова. Через несколько часов наш поставщик все честно доставил нам и Н. пошел с передачей. Не думал я, что Н. вернется, но он благополучно вернулся, сделав передачу Лифантову в следизолятор и еще посмеялся над моими страхами, думаю, наигранно, чтоб успокоить меня.
Так шли дни. Через день, два этот самый несовершеннолетний уголовник регулярно появлялся в электромонтажной мастерской, приносил продукты, получал деньги, а Н. носил передачи в следизолятор. Я все время ожидал неприятности: ареста, вызова в ИСЧ или просто телефонного оттуда звонка. Не могли же не знать в ИСЧ об этих передачах и о том кто их делает? Но все было спокойно, очевидно ИСЧ было настолько инфильтровано уголовниками, что нам за помощь бандиту ничего не грозило.
В течение менее чем месяца все деньги на передачи оказались исчерпанными, об этом я предупредил малолетку и он исчез из нашего поля зрения, нисколько не удивившись моему сообщению. Очевидно и сумма была точно известна уголовникам вне стен следизолятора. Мы с Н. вздохнули свободно.
Вскоре, после окончания передач, это было в середине октября 1932 года, концлагерь на Соловках был объявлен на чрезвычайном положении. Правда роты и бараки с заключенными оказались не на замке, но многочисленные патрули совершенно не давали проходу заключенным по лагерю, буквально через несколько шагов снова и снова проверяя личность по «сведениям». Оказалось, что ночью из следизолятора бежали все содержавшиеся там бандиты, около сорока заключенных. Они подпилили решетку в окне, охрана ничего «не слышала». Мало того, как потом выяснилось, уголовники, в том числе и Лифантов, бежали в гражданской одежде, которая хранилась в цейхгаузе в следизоляторе под замком. Начальство рвало и метало. Дежуривших в ту ночь тюремщиков сразу же посадили в следизолятор, но пришлось сообщить в Кемь в УСЛАГ. Оттуда прибыл начальник 3 отдела (ИСО) с бригадой вольнонаемных следователей, за ним через несколько дней полк пограничников для поимки беглецов, которым с острова бежать было не на чем и они скрывались в лесах. Большой Соловецкий остров был разделен на сектора, обыск каждого возложили на полуроту пограничников во главе с чекистом из администрации концлагеря. Двухнедельный обыск ничего не дал, ни одна полурота ничего не обнаружила. Остроумнее всех поступил начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части) Михайлов, бывший дипкурьер Наркоминдела. В дипломатической почте Михайлов весьма успешно провозил из Парижа дамские чулки, сбывая их в Москве по весьма прибыльным ценам. За спекуляцию он и получил штраф – проработать вольнонаемным в концлагерях три года. Очевидно, за свое бескультурье и полную невоспитанность, Михайлов и был назначен начальником Культурно-воспитательной части Соловецкого отделения. В секторе Михайлова был продовольственный склад лагпункта Муксалма и он правильно рассчитал, что на этот склад нападут голодные беглецы, если они находятся в его секторе. Поэтому он не гонял пограничников по топям и мокрому снегу, а устроил несколько засад у склада и спокойно ждал больше двух недель. Расчет оказался правильный, в одну из ночей банда сделала налет на склад, попала в засаду и без единого выстрела всех тридцать с лишним беглецов, озябших и промокших до костей, связанными он доставил обратно в следизолятор. Лифантов был в их числе.
Через несколько дней после поимки беглецов раздался днем телефонный звонок. «Кто у телефона»? Я назвал себя. «Говорит следователь ОГПУ. (мысленно я отметил не ИСЧ) не можете ли Вы, - продолжал вежливый голос в трубке, прислать мне в комнату (и он назвал № комнаты) того паренька, который носил передачи Лифантову». У меня подкосились ноги, Н. побледнел. Делать было нечего, мы попрощались с Н. и он пошел в Управление отделения в указанную комнату. Вскоре он прибежал радостный и с порога крикнул: «Все хорошо». Следователь, вольнонаемный чекист, был очень вежлив, сразу же успокоил Н., что поскольку у него 58-я статья, он ничего общего с бандой не может иметь, и просил Н. опознать того тюремщика в следизоляторе, который принимал для Лифантова передачи, поскольку есть подозрение, что через этого тюремщика Лифантов получил напильник для подпилки решетки перед бегством. Н. чистосердечно признался, что не видел лица тюремщика, так как сам отворачивался, чтоб его лицо не запомнили. На этом и закончилась благополучно эпопея передач Лифантову.
Последний раз я видел Лифантова на расстоянии 80-100 метров, когда в погожий мартовский денек 1933 года его, в числе других сорока бандитов, везли на расстрел на Секирную гору, где через час он свалился в яму с двумя пулями в затылке. Так закончил в возрасте около сорока лет свою преступную жизнь Лифантов.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО 58 СТАТЬЕ
Российскую Империю господин В.И. Ульянов назвал в переносном смысле тюрьмой народов, подлинной тюрьмой народов товарищ Ленин сделал Соловецкие острова. Каких только национальностей не было среди заключенных! Только на Соловках был подлинно осуществлен марксистский лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Пролетариев из нескольких десятков стран с четырех континентов насильно заключенными объединили на Соловках в лагере особого назначения, где можно было встретить не только представителей почти всех национальностей населяющих СССР, но и подданных большинства зарубежных стран. Рассказ о заключенных на Соловках был бы не полон, если не коснуться национальной принадлежности их.
Наравне с подавляющим большинством русских, украинцев, белорусов, сотнями были представлены жители Средней Азии, так называемые басмачи и не басмачи, кавказские народности, преимущественно азербайджанцы и грузины, калмыки, якуты, мордвины, чуваши, татары крымские и казанские, башкиры, немецкие колонисты Поволжья и с Херсонщины и Одессщины, оттуда же греки и молдаване и другие национальные меньшинства Сибири. Только ничтожные доли процента были посажены по бытовым статьям, девяносто девять с десятыми долями процента сидели по 58 статье.
До 1930-31 годов контингент заключенных из национальных меньшинств состоял главным образом из тех борцов за самоопределение своих национальностей, которые поверив в искренность соответствующего ленинского лозунга, стали проводить его в жизнь, вплоть до примирения оружия против красноармейских частей посланных на подавление сепаратистского движения. Я уже упоминал о восстании якутов в 1926-27 годах. Но поднимались за независимость и азербайджанцы в 1917-20 годах, восставали грузины в 1924 году, установление московской диктатуры в Средней Азии с переменным успехом длилось до середины двадцатых годов.
К концу двадцатых годов, начала тридцатых изменились конечные цели и методы борьбы за независимость от Москвы, изменился и состав борцов. В 1928 году был расстрелян председатель Совнаркома «Автономной» Крымской ССР, его участь разделили в начале тридцатых годов многие высшие партийные национальные кадры. Более низкие, избегнувшие расстрела в органах ОГПУ на месте, попадали десятилетниками по 58 статье на Соловки. Эти партийцы принимали за чистую монету текст конституции СССР о добровольном объединении советских республик с правом свободного выхода из Союза и боролись не против советской власти и диктатуры большевиков, как это делали, так называемые, националисты в первой половине двадцатых годов, а за национальную свободу, за автономное решение своих национальных дел. Эти стопроцентные марксисты–интернационалисты понесли тяжелую кару.
Из них мне запомнился народный комиссар просвещения Белорусской ССР Балицкий. Бывший сельский учитель, коммунистом вынесший все тяготы гражданской войны, растерянно разводил руками, попав в одно положение с князьями и дворянами. Правда Балицкого допустили в концлагере к работе в КВЧ и он выступал по радиотрансляционной сети с докладами. От его выступлений было мало толку, не только темы никого не интересовали, но и с его белорусским акцентом и без радио было трудно понять. Делясь со мной впечатлением о своей первой лекции по радио, Балицкий говорил: «Я никогда по радио не выступал, не знал даже сумею ли, потому что когда выступаешь перед аудиторией она заражает оратора, а микрофон ничего не дает». Эту фразу я отлично запомнил, потому что Балицкий слово «заражает» выговаривал так, что никак нельзя было понять, аудитория его заражает или заряжает. Другое высокопоставленное лицо, теоретик компартии Украины Яворский, был официально обвинен в сотрудничестве до революции с австрийской жандармерией, но безусловно он был посажен в концлагерь на 10 лет за борьбу с московским руководством, потому что сколько бывших жандармских филлеров верно служивших и Сталину не подверглись наказанию после революции. Яворский был автор обязательного и единственного учебника «История революционного движения на Украине», по которому обучалось мое поколение в школах, техникумах и высших учебных заведениях на Украине. На Соловках заключенным, тоже с десятилетним сроком по 58 статье, был один Башкирский нарком, с успехом выступавший в самодеятельном Соловецком театре с национальными песнями.
Очень обособленно, замкнувшись в кругу своих национальностей, держались кавказцы. Это не было узким национализмом, сознанием превосходства своей нацией над другими. Подсознательно действовала укоренившаяся поколениями неприязнь кавказцев к поработителям–русским и прочим национальностям, которая мешала видеть в нас своих братьев по несчастью, страдающих как и сами кавказцы от большевицкой диктатуры. Кавказцам, как, впрочем, и другим народностям, трудно было отличить русских, белорусов, украинцев от коммунистов - душителей их свободы, их национальной независимости. Вкусившие свободу, а затем национальную независимость, принесенные им Февральской революцией, национальные меньшинства Кавказа и Средней Азии, еще более, чем прежде оказались озлобленными на своих поработителей, теперь русских большевиков, поскольку сравнительно легкий национальный гнет до революции, после краткой свободы, сменился гнетом и национальным и диктаторским.
Азербайджанцы, например, неистово ненавидели Кирова, который до 1927 года был первым секретарем Азербайджанской компартии, то есть фактически диктатором Азербайджана. (Неплохая иллюстрация для ленинской национальной политики: республика Азербайджанская – правитель русский коммунист). Расправа Кирова с азербайджанцами стоила этой нации многих ее сыновей. Национальная азербайджанская партия «Муссава» («Равенство») была полностью физически уничтожена, кто расстрелян, а кто заключен на 10 лет на Соловки. Азербайджанский народ был обезглавлен поголовным расстрелом и заключением на 10 лет в концлагерь особого назначения национальной интеллигенции, старой и молодой. Я знал на Соловках седовласого инженера Мелика-Пашаева, который был единственным инженером-азербайджанцем до революции. На Соловках тоже с десятилетним сроком заключения по 58 статье были молодой способный профессор-микробиолог Вадул-Заде Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы], которого остальные азербайджанцы с почтением называли эфенди, и один молодой врач специалист по ухо, горлу, носу.
С участниками восстания грузин в 1924 году мне не пришлось встречаться, поскольку их уделом был поголовный расстрел. На Соловки попали жертвы последующих «чисток» в Грузии и, как ни странно, грузины подавлявшие в рядах Красной армии восстание. Это были офицеры Нижегородского конного полка Русской армии, формировавшегося из уроженцев Кавказа, которые в гражданскую войну перешли к красным. Грузин офицер Пхакадзе, будучи заключенным, на Соловках был лагерным старостой. Грузин офицер Габелашвили был командиром наше электрометаллроты. Офицер армянин Ананьян работал бухгалтером. С ним вместе и тоже с десятилетним сроком по 58 статье сидел в концлагере на Соловках его родной брат, талантливый пианист и довольно известный музыковед. Последний по линии КВЧ дал несколько очень интересных лекций по музыке, на которых я впервые понял как надо слушать музыку, как надо в ней разбираться. К сожалению, этот цикл лекций был очень скоро запрещен, поскольку уголовники на них не ходили, а собиралась одна интеллигенция, то есть заключенные по 58 статье, а это у чекистов даже вызывало тревогу, как бы чего не вышло из этих собраний, не дать политзаключенным малейшей возможности как-то соорганизоваться. Это была конечно глупость, никакой подпольной организации не могло получиться из заключенных посещавших регулярно лекций, но у чекистов от страха глаза были велики. Возвращаясь к вопросу подавления восстания грузин грузинскими же офицерами, я передаю слышанный случайно разговор между Зибертом и Габелашвили. Я не слышал полностью вопрос Зиберта, но по концу услышанной мной фразы, последний интересовался, как могло получиться, что грузин пошел против своих. Габелашвили ответил кратко: «Кому служу, за того воюю».
Особая замкнутость в себе, в кругу своей национальности у кавказцев не была абсолютной. Их национальный характер был прямой противоположностью русской души нараспашку и этот характер только на время отодвигал общение кавказца с лицами других национальностей, общение которое распространялось лишь на единицы. Кавказцы, в особенности тугодумы грузины, очень долго изучали общавшегося с ними заключенного другой национальности, прежде чем вступить с ним в дружбу, если он, по их мнению, был достоин таковой. Зато, пройдя этот незаметный для него самого испытательный срок, русский, украинец, или лицо другой какой-либо национальности, завоевавший доверие кавказца, щедро вознаграждался настоящей дружбой, конкретные проявления которой со стороны кавказца были иногда ошеломляющие. По личному опыту, по моей дружбе с азербайджанцами и грузинами, я убедился, что на друга кавказца можно положиться так, как нельзя положиться ни на кого другого. Кавказец-друг раскрывает такие глубины человеческих чувств, верности другу, порядочности, какие недостижимы европейцу.
С заключенными других нацменьшинств мне мало пришлось общаться, кроме того национальности Сибири и Средней Азии слишком быстро вымирали и изучить хотя бы отдельных заключенных за период зимовки, не представлялось возможным. По культурному уровню эти народности стояли на низшей ступени, наиболее интеллигентными были азербайджанцы.
Несколько слов надо сказать о евреях, поскольку они тоже являются, правда в некотором роде, нацменьшинством. Заключенных евреев было ничтожное количество, даже меньше чем евреев-чекистов в лагерной администрации. На несколько миллионов евреев проживающих в СССР на Соловках евреев-заключенных за четыре года моего пребывания там побывало всего одиннадцать (в 1929-33 годах). Это были инженер-судостроитель Виллерат, коммерческий директор Ленинградского Судотреста Моргулис, курсанты школы красных командиров имени ВЦИК Шаргородский и Шнейдер, сын нэпмана Шапиро, бухгалтер Турбин, темный делец Шлозберг, белорусский партийный работник Мотель и еще три еврея, фамилии которых я забыл, в том числе и директор гостиницы «Москва» из Москвы, попавший в концлагерь в 1932 году. По 58 статье сидели троцкисты Шаргородский и Мотель, Виллерат, Моргулис и Турбин. Первые два имели срок по 10 лет, Виллерат и Моргулис по 5 лет и Турбин 3 года. Остальные все имели по 3 года за жульнические махинации. За исключением троцкистов все евреи освобождались досрочно, получая скидки по приговору. Очень характерным эпизодом было прощание со знакомыми одного еврея бытовика, который как-то отсидел свой полный срок в 3 года. На прощание, с чисто еврейским юмором, он всем говорил: «Единственный еврей, который отсидел полный срок». И он нисколько не отклонился от истины. Со свойственной евреям ловкостью, они никогда не были на общих, то есть тяжелых физических работах, а сразу попадали на хорошие должности. Виллерат сразу стал начальником Планово-производственной части Соловецкого отделения, а Моргулис его помощником, Шаргородский библиотекарем, Шнейдер помкомроты, Шапиро, не имея понятия об электротехнике, контролером электросетей, Турбин главным бухгалтером электопредприятий, Шлозберг заведующим магазином для вольнонаемных, Мотель председателем союза трудколлективов (в соловецком масштабе председатель ВЦСПС).
Забегая вперед, я должен отметить, что в последующие три года моего пребывания в концлагерях на материке мне довелось встретиться еще только с шестью евреями-заключенными: Ломовским, бывшим торгпредом СССР во Франции, его секретаршей Беседовской и ее братом авиационным инженером. Они все трое получили по десять лет срока каждый за один миллион рублей золотом, который они положили себе в карман, не знаю в какой пропорции между ими тремя, на поставках французской авиационной фирмой военных самолетов «Бреге» для Красного воздушного флота. Заключенный Ломовский в концлагере, точнее в г. Кеми, был председателем штаба соцсоревнования Кемского отделения Белбалтлага. На Медвежьей горе и в Повенецком Пушсовхозе я работал в подчинении московского буржуя Райца Льва Марковича, следователя Ленинградского ОГПУ Дич Меера Львовича и бывшего директора какой-то минской фабрики Крупняка. Все три имели 10 лет заключения в концлагере, Райц по 58-й статье пункт 7 (вредительство) – он остался работать коммерческим директором на своей бывшей фабрике обуви в Москве. Дич за взятку в десять тысяч рублей, за которую он прекратил дело и выпустил на свободу одного очень крупного бандита, Крупняк за хищение сырья и продукции. Все они также неплохо сразу же устроились в лагере: Райц был заместителем начальника инспекции ГУЛАГа по Белбалткомбинату, Дич начальником отделения лагеря Пушсовохоз, Крупняк там же начальником КВЧ.
Наиболее многочисленную группу заключенных-иностранцев из Европы составляли поляки и венгры, затем финны, чехи, эстонцы, латыши, литовцы, болгары. Было два француза, один англичанин и один швед. Из жителей Азии доминировали китайцы, меньше было корейцев и иранцев, был один японец, полковник генерального штаба, и один турок. Два молодых австралийца, техники, попали в концлагерь при отъезде на родину со строительства Сталинградского тракторного завода. Из Африки был один араб. Был еще один, русский по происхождению, этнограф Козлов, весьма пожилого возраста, проживший почти всю свою жизнь среди индейцев Патагонии и сам ставший индейцем. Заключенный по 58 статье на 10 лет, профессор Козлов работал на Соловках лесничим, ходил в сомбреро и мокасинах, из леса в кремль зимой приезжал за пайком на санках запряженных козлом. Чекисты относились к ему со снисхождением, считая его несколько умалишенным. Профессора свободно можно было причислить к представителю Нового Света в интернациональной семье заключенных. Герб Советского Союза с серпом и молотом лежащим на всех континентах земли выглядел на Соловках не только символично.
Заключенные поляки, финны, все прибалты и китайцы, родины которых непосредственно граничили с СССР не все были подданными своих государств. Значительная часть этих заключенных населяла пограничные с их родинами области СССР и подверглась заключению в профилактических целях по подозрению в возможном бегстве из социалистического рая в капиталистический ад, на родину. Другие были пойманы при попытке к такому бегству. Эти заключенные, как правило, имел сроки по 10 лет по 84-й статье Уголовного кодекса, хотя часть из них была обвинена еще и по 58-й статье пункту 6 (шпионаж) или пункту 4-й (связь с международной буржуазией). Исключение составляли китайцы, среди которых много было контрабандистов. На материке в концлагерях были контрабандисты и среди азербайджанцев. Подданные иностранных государств все, без исключения, имели 58-ю статью, пункт 6-й со сроками заключения в 10 лет.
Особо надо сказать о венграх и чехах, чьи государства не граничили тогда с СССР. Венгров было несколько десятков, соратников Бела Куна по коммунистическому перевороту в Венгрии в 1919 году. Поле свержения советской власти в Венгрии в том же году, спасаясь от буржуазной тюрьмы, венгерские коммунисты бежали в социалистическое отечество, где постепенно были посажены в лагерь особого назначения на Соловки по 58 статье на 10 лет каждый. Сам Бела Кун несколько позднее в 1938 году был расстрелян. Держались венгры очень дружно, вытягивая друг друга на лучшие должности, хотя культурный уровень развития у них был довольно низкий. Почти исключительно рабочие-металлисты, венгры занимали и инженерные должности. До инженера Пинскера заведующим электопредприятиями был венгерский коммунист заключенный Ковач и, благодаря ему заведующими Муксаломской и Савватьевской электростанций были тоже заключенные венгры.
Заключенные чехи частично тоже были коммунистами бежавшими в СССР от буржуазной тюрьмы и также рабочими-металлистами. Электромонтером у нас был Шимек. Несколько дней в электромонтажной мастерской проработал другой чешский коммунист Шипек, механик пожилого возраста. В анкете он с гордостью писал в строке профессия – революционер, в строке специальность – механик. Шипек работал в аппарате Коминтерна и много лет посвятил разработке тактики международного пролетариата в следующей войне. Под заголовком «Тактика международного пролетариата в будущей империалистической войне» его труды вышли из печати после того как он был посажен по 58 статье на Соловки сроком на 10 лет. Сенсацию в концлагере вызвал отказ Шипека от получения за свой труд гонорара, присланного ему на Соловки. На извещение финчасти он наложил резолюцию: «Отказываюсь от гонорара в пользу постройки тюрем в Советском Союзе» и подал с заявлением начальнику Соловецкого отделения. Это было выражением протеста несломленной в застенках ОГПУ воли революционера против сталинской расправы с несогласными с ним работниками Коминтерна, язвительной насмешкой над внутренней политикой Сталина. Шипек был одним из тех иностранных коммунистов, которые боролись против превращения Сталиным Коминтерна в послушное орудие иностранной политики СССР, против безоговорочного подчинения Сталину интернационального движения.
Третий чех был мой «одноделец» студент Киевского художественного института Петраш. Он заведовал фабрикой кукол в одном из соборов Соловецкого кремля и рискуя жизнью спас ее толевую крышу от возгорания во время большого пожара в 1932 году.
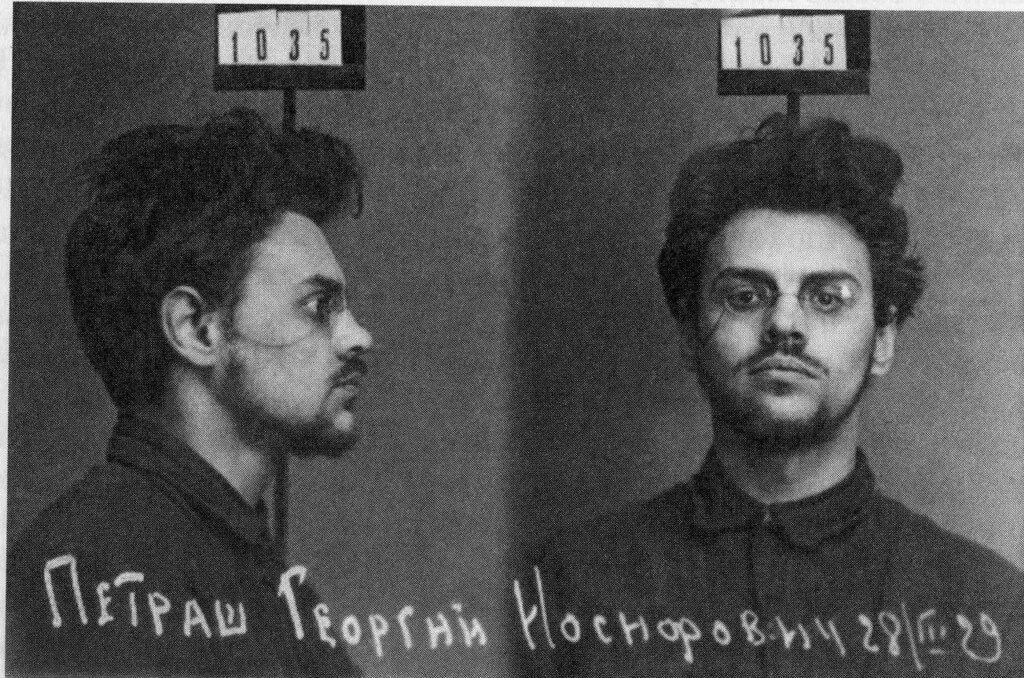
Осенью того же года, когда он из 10 лет отсидел 4 года его обменяли на видного чешского коммуниста, приговоренного в Чехословакии за подрывную деятельность против государства на многие годы заключения *. Виновного коммуниста обменяли на невиновного «контрреволюционера», каким числился Петраш. По-видимому Петраша присоединили к нашему «делу» в предвидение такого обмена.
Четвертый чех был профессор математики Киевского университета. Приехав в экскурсию из Чехословакии в Киев в 1926 году, профессор рассеянный и мало смыслящий в повседневной жизни, как и все крупные ученые, был ошеломлен, как ему показалось, попал в рай и затем выхлопотал себе место в Киевском университете и привез в Киев всю семью. В разгар коллективизации профессор имел неосторожность математически вывести затухающую кривую развития колхозного сельского хозяйства и поплатился заключением на 10 лет по 58 статье. Остальные чехи заключенные работали главным образом на Судоремонтном заводе на Соловках по своим специальностям рабочих-металлистов.
Заключенные китайцы благодаря многовековой национальной приспособленности к низкому уровню жизни, пожалуй лучше всех иностранцев выносили лагерный режим. Кроме того, тесно-спаянные между собой, они быстро захватывали все хлебные должности. Все повара на кухнях, в том числе и при клубе вольнонаемных, там же буфетчики, заведующие и продавцы магазинов для вольнонаемных и заключенных были китайцы. Лагерная прачечная была вся заполнена ими. Трудолюбивые и добросовестные китайцы не только чисто стирали, выполняя нормы, но и дополнительно стирали белье лагерной элите, что позволяло этим прачкам жить немного лучше чем на одном пайке. Стиркой белья для элиты занимался и японский полковник. Я видел неоднократно как он почтительно кланяясь, с очаровательной улыбкой, преподносил конверт с ослепительно белым бельем заведующему Электропредприятий Гейфелю, точно какой-то особо драгоценный дар своему высокому повелителю.
Однако в массе заключенным иностранцам, оторванным от родины, не имевшим материальной поддержки из дома, жилось в концлагере значительно тяжелее, чем русским и другим национальностям СССР.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. МЕЛЬНИС. БОРИС ШАРАНКОВ
Заключенный Мельнис был единственным иностранцем капиталистом в концлагере на Соловках. По национальной принадлежности он был латыш и, хотя и с акцентом, свободно говорил по-русски. С большой проседью, высокий и сухопарый, с неимоверно длинными конечностями, в морском кителе и капитанской фуражке, он не мог не привлекать к себе внимания. От большой нервозности, при разговоре Мельнис всегда неистово размахивал своими длинными руками, заставляя собеседников держаться от него на почтительном расстоянии. Эта его особенность дала повод острякам сравнивать его с ветряной мельницей, вертящей крыльями при сильном ветре. Его так и прозвали «мельница».
Мельнис был капитаном дальнего плавания. До революции он владел двумя товаро-пассажирскими пароходами каботажного (прибрежного) плавания, совершавших регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Ригой. На одном плавал капитаном он сам, на втором капитаном был его служащий. В момент революции и оккупирования немцами Риги Мельнис оказался на своем пароходе в Риге, второй его пароход застрял в Петрограде и был национализирован советской властью. После первой мировой войны Мельнис так удачно продолжал свое мореплавание на оставшемся ему пароходе, совершая рейсы из Латвии в западные страны, что постепенно стал приобретать другие пароходы и к концу двадцатых годов стал владельцем судоходного предприятия столь высокого класса, что оно получило высший международный класс «Ллойда».
В те времена Британская империя была еще в зените своего могущества, первой судоходной державой мира, вызывая тайную зависть моряков, многие из которых мечтали попасть в английское подданство. Но англичане почти не принимали в свое подданство лиц других национальностей, за исключением владельцев пароходов класса Ллойд. Мельнис воспользовался этим обстоятельством и стал английским подданным, считая не без основания, такое подданство во всех отношениях надежнее латвийского.
Дела Мельниса шли успешно, принадлежавшие ему пароходы бороздили воды Балтийского и Северного морей, принося ему все новые прибыли. Однако бес жадности нет-нет да и толкнет его в бок: «А прибыли бы было больше, если бы и тот национализированный пароход работал на тебя». Мельнис старался не вспоминать про этот пароход, но мысль как-то сама собой возвращалась снова и снова и судовладелец наконец не вытерпел в начале тридцатых годов поехал в Ленинград хлопотать о возвращении ему парохода. Куда бы он ни обращался, его очень любезно принимали, соглашались с его правом на владение пароходом, но дальше дело не двигалось. Тогда Мельнис решил обратиться в самый могущественный орган советского государства в ОГПУ, в иностранный отдел, помещавшийся не в Москве, а в Ленинграде на ул. Дзержинского, 2. В ИНО его приняли также весьма любезно, отнеслись с полным пониманием к его просьбе, но с оформлением передачи парохода все тянули. Мельниса развлекали, показывали достопримечательности города, водили по театрам, предоставляя место, как английскому туристу, в правительственных ложах, а время шло. Выведенный из себя Мельнис стал наивно угрожать немедленным отъездом из Ленинграда. На это ему в ИНО сказали, что якобы по советским законам имущество может быть возвращено только советскому гражданину и чтобы обойти эту формальность Мельнису достаточно лишь принять советское подданство. В доказательство ему даже показали заготовленный акт передачи ему во владение его же парохода. При виде акта Мельниса окончательно оседлал бес жадности. Мельнис забыл всякую осторожность и подал заявление об отказе от английского подданства и перехода в советское гражданство. В ту же ночь Мельнис был арестован ОГПУ и вся мощь Британской Империи не могла теперь его вызволить. Постановлением ОГПУ Мельнис по статье 58, пункты 4 и 6, был заключен на 10 лет в лагерь особого назначения на Соловках. И вот престарелый владелец пароходства класса Ллойд, старый морской волк очутился среди незнакомого ему Белого моря и не на палубе управляемого им парохода, а на клочке суши именуемом Большим Соловецким островом.
Пройдя соответствующий по времени стаж на общих работах, заключенный Мельнис был назначен начальником Соловецкого порта, в подчинении которого было всего два береговых матроса, да и те заключенные уголовники.
Видел я Мельниса в последний раз с палубы парохода «Ударник», когда меня уводили с этапом с Соловков в июне 1933 года. Стоя на пристани, Мельнис распекал своих двух подчиненных, как всегда, неистово размахивая руками, и, по мере удаления парохода от берега его фигура все более походила на ветряную мельницу, размахавшуюся крыльями на крепком ветре, который был для меня на этот раз попутным, потому что дул от Соловков.
***
Борис Шаранков, болгарский коммунист был посажен в лагерь особого назначения на Соловки сроком на 10 лет по 58 статье в 1932 году. Он работал в Москве в Коминтерне, но никогда не говорил о выполняемой им там работе, в разговорах всегда окружая большой таинственностью ее характер. Не стремясь разведывать партийные тайны, я и не задавал Шаранкову прямых вопросов на эту тему. Судя по культурному уровню Шаранкова, он мог быть, или членом делегации Коммунистической партии Болгарии, избранным от какой-нибудь рабочей ячейки, или связным между аппаратом Коминтерна и подпольными организациями своей партии в Болгарии. Возможно Шаранков был просто курьером в канцелярии Коминтерна, но в аппарате Коминтерна он безусловно не мог работать в силу своей малограмотности.
Длинноносый, смуглый, с карими глазами и очень черными волосами, в которых, несмотря на 35-летний возраст, уже серебрилась седина, Шаранков по внешности был типичным братушкой. Ограниченность умственных способностей наряду с большим самомнением и гордостью за принадлежность к компартии делали его довольно неприятным типом, имевшим к тому же склонность выслуживаться перед начальством даже за счет благополучия других заключенных. Шаранков никогда не рассказывал что явилось, хотя бы и косвенной, причиной его исключения из компартии и заключения на Соловки, но видна была его озлобленность против каких-то высокопоставленных «товарищей», которых он считал виновниками его несчастья, превративших его из революционера в «контрреволюционера», поставивших его на низшую степень общества вместе с «настоящими каэрами», противниками коммунизма, каковыми Шаранков считал всех заключенных по 58 статье, в том числе и меня. В одном из разговоров со мной, когда Шаранков жаловался мне на допущенную в отношении его несправедливость некими «узурпировавшими в партии власть товарищами», я ответил ему о неизбежности появления накипи в кипящей жидкости, какой процесс аналогичен каждой революции. В утешение ему я добавил, что эта накипь, то есть узурпировавшие власть товарищи, явление временное и, в конце концов, наверх всплывут истинные революционеры, как он и я, а грязная накипь утонет на дне. Я нарочно дал понять Шаранкову, что я такой же «контрреволюционер», как и он сам, и что наши с ним истинно революционные идеалы вместе с нами восторжествуют и тогда мы оба будем освобождены. Не знаю, понравилась ли Шаранкову моя мысль или он ухватился за нее с целью настучать на меня в ИСЧ со своими разъяснениями, что я под накипью подразумевал Сталина, но в дальнейшем в отношении меня уже не чувствовалось у Шаранкова его фанфаронства, подчеркивания своего превосходства, как коммуниста, надо мной, как беспартийным заключенным. С Шаранковым ни в этом разговоре, ни вообще я никогда не был искренним, памятуя его слабость выслуживаться любым путем. К этому времени я уже отчаялся в пересмотре приговора мне, был озлоблен и подчеркивал свою приверженность коммунизму лишь из опасения доноса Шаранкова в ИСЧ.
С первых же дней появления Шаранкова в электромонтажной мастерской, он стал осуществлять самозваный партийный контроль, в полной уверенности, что так должен он поступать, как коммунист. Электромонтажная мастерская была расположена в километре от электростанции, но Шаранков без всякой производственной необходимости встретился со мной на электростанции у стенгазеты, редактором которой я был. «От Вашей стенгазеты русским монархическим духом несет», - бросил мне Шаранков страшное обвинение и, не вдаваясь в подробности, быстро скрылся от меня. В этой фразе был и элемент национализма («русским») и элемент «политического чутья» коммуниста, а в целом несусветная чушь, выдававшую присущую Шаранкову глупость. Реплика Шаранкова меня очень встревожила, так как последствия ее, если бы она дошла до ИСЧ, даже трудно было предвидеть в условиях концлагеря для меня – политзаключенного. Я внимательно просмотрел все заметки и написанную мною передовицу, проверенные перед помещением в стенгазету цензором культурно-воспитательного бюро, и ничего не мог понять за что можно было бы зацепиться чтоб возвести на меня такое страшное обвинение. Единственное предположение можно было вывести из восхваления Сталина в передовице, восхваления без которого уже в те годы не могла появиться на свет ни одна статья и не только в концлагере, а и в советской печати на воле. Возможно, подумал я, что для иностранного коммуниста, каким был Шаранков, дико было восхваление генсека компартии, как самодержавного монарха. В таком случае мне, как автору статьи и редактору стенгазеты ничего не грозило. И все же я пережил несколько очень неприятных дней, в течение которых никак не мог встретиться с Шаранковым, чтобы потребовать от него объяснения в его клевете. Наконец мы встретились в кабинете заведующего электропредприятиями на совещании заведующих служб.
Шаранков не был заведующим какой-либо службы, он был линейный электромонтер, но он был председатель трудколлектива электропредприятий. С переименованием СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) в СЛАГ (Соловецкий лагерь) с добавлением «исправительно-трудовой» в конце 1931 года была введена новая надстройка в управлении заключенными – «трудколлективы» во главе с председателем, назначаемым администрацией лагеря. Все заключенные были объединены по производственному принципу в трудколлективы. Приказом по Соловецкому отделению все заключенные работающие на электропредприятиях были также объединены в трудколлектив электропредприятий. Очевидно эта мера была продиктована не столько переименованием концлагеря в исправительно-трудовой, сколько желанием чекистов поставить под партийный контроль председателя трудколлектива заведующих предприятиями инженеров-«вредителей», которые все продолжали оставаться заведующими, несмотря на постановление СНК в 1930 году о запрещении занимать административные должности в концлагере политзаключенным. Без инженеров производство разваливалось, а заменить их было некем. Кроме того от рабов все больше требовалась работа и еще раз работа, а эффективность последней все снижалась и никакой кнут не мог заставить работать заключенных с полной отдачей на все более и более уменьшавшемся пайке до совершенно голодной нормы. Трудколлективы, которые вводили как бы круговую поруку всех заключенных за выполнение производственного плана, должны были, по замыслу лагерных чекистов, как-то увеличить производительность труда, заставить работать заключенных до изнеможения, передав кнут в их собственные руки, чтоб они подгоняли друг друга. Точной инструкции об обязанностях членов трудколлектива и функции председателей разработать не удосужились, а потому председатели, сами не зная что делать, путались в ногах у заведующих, только увеличивая трудности в управлении коллективами предприятий. Перенесенная с воли форма управления предприятием «треугольник» - начальник - секретарь партийной организации – председатель профсоюза никаких улучшений на производстве в лагерных условиях не дала, тем более что «треугольник» оказался о двух углах. Эта неумная затея была скоро отменена, трудколлективы «распущены».
Итак Шаранков, как заключенный коммунист, был председатель нашего трудколлектива и в то же время он был линейный электромонтер. На работе он почти ничего не делал, прикрываясь большой занятостью по делам трудколлектива. Я знал, что встречу Шаранкова на заседании, но мне хотелось объясниться с ним с глазу на глаз, а в то же время я был совершенно уверен в поднятии вопроса о «монархическом духе» стенгазеты Шаранковым именно на этом заседании в присутствии всех заведующих служб и заведующего электропредприятиями Боролина. Последнему я доверял безгранично и знал что он вступиться за меня, но я не успел его предупредить о постигшей меня неприятности, что бы он заблаговременно мог подготовить отпор Шаранкову. Секретарствуя на этом заседании, я сидел как на иголках.
Боролин очень быстро стал ставить на обсуждение один за другим вопросы производства и выслушивая мнение заинтересованного заведующего той или иной службы, предлагал решение, неизменно обращаясь со стереотипной фразой к Шаранкову: «Вы тоже такого мнения»!? Боролин, которому Шаранков очень мешал в повседневном управлении электропредприятиями, насилу терпел его, но как умный человек отлично понимал «дух времени» и наружно считался с мнением Шаранкова, у которого хватало ума не выдавать своей невежественности по обсуждаемым вопросам и он кивал в знак согласия с предложением Боролина. Меня поразила предупредительность ко мне Шаранкова на этом заседании. Он явно заискивал передо мной, дружелюбно мне улыбался, называл по имени отчеству и во время обсуждения каждого вопроса он, подобострастно глядя на меня, говорил Боролину: «Возможно, может быть (называл мое имя отчество) добавит, ведь он давно работает и опытный работник». Заседание кончилось, Шаранков и не заикнулся о стенгазете и снова быстро улизнул от меня.
Сначала я подумал, что у Шаранкова все же хватило ума не ставить на сугубо производственном совещании вопроса по общественной работе, но только потом я догадался об истинной причине перемены его тактики. В последующие дни Шаранков продолжал передо мной заискивать и у нас с ним установились внешне вполне дружественные отношения. В этом инциденте выглянула все подленькая его душонка. За дни прошедшие от критики стенгазеты до совещания в кабинете заведующего Шаранков разобрался в структуре электропредприятий, узнав о подчинении электромонтажной мастерской, в которой он был линейным электромонтером, заведующему электросетями, которым был я. Разнос стенгазеты Шаранков сделал, не зная, что он мне подчинен, а узнав, испугался за свою шкуру, как бы чего вышло от критики своего начальника. Так инцидент с обвинением меня в проведении монархического духа в стенгазете и закончился.
После ликвидации трудколлективов, новому заведующему электропредприятиями заключенному инженеру Гейфелю высшим чекистским начальством было указано перевести Шаранкова на более легкую работу дежурным по электросети монтером. Шаранков перешел на жительство из электрометаллроты в комнату при управлении электросетями и поселился вместе с Лифантовым, о котором я уже рассказывал. Здесь еще больше окрепла наша видимая дружба и мы иногда вели длинные беседы на революционные темы. Я был очень осторожен с ним в своих высказываниях, почуяв в нем еще и стукача, помня всегда о возможности передачи моих высказываний Шаранковым в ИСЧ.
Однако, однажды, мы с моим контролером и другом Н. допустили неосторожность. Удостоверившись в наличии висячего замка на комнате дежурных электромонтеров, что означало отсутствие и Шаранкова и Лифантова, мы обрадовались что остались наедине и можем откровенно обменяться своими мыслями. Мы стали довольно громко выражать свои, далеко не лестные мнения о диктатуре большевицкой верхушки, непочтительно трактуя личность Сталина. Каков же был наш ужас, когда из-за тонкой перегородки комнаты электромонтеров послышался заглушенный кашель Шаранкова. Нам стал сразу же ясен умысел Шаранкова подслушать наши разговоры, в чем мы убедились потом, когда Лифантов нам рассказал о просьбе к нему Шаранкова запирать комнату на наружный замок вместе с Шаранковым, чтобы якобы ему не мешали отдыхать. Выдав себя кашлем, Шаранков начал стучать изнутри, прося открыть дверь и ругая Лифантова за якобы сыгранную с ним злую шутку. Наших с Н. высказываний было совершенно достаточно, чтобы по тем временам сталинской диктатуры, в особенности в условиях лагеря, нам была бы предъявлена 58 статья пункт 10 (антисоветская пропаганда) с добавлением нам срока заключения и отправки на тяжелые физические работы. В подваленном настроении мы с Н. ждали вызова в ИСЧ или заключения в тюрьму в тюрьме – в лагерный следственный изолятор. Но проходили дни и ночи, а нас никто не беспокоил, кроме Шаранкова, который пуще прежнего лез к нам в дружбу, все чаще заводя разговоры о сталинской политике, задавая провокационные вопросы. Гадая об отсутствии неотвратимых последствий после подслушанного нашего разговора, мы пришли к выводу, что неполное знание болгарином русского языка и его врожденная тупость помешали изложить ему в ИСЧ с достаточной убедительностью содержание нашего разговора. По-видимому там Шаранкову не совсем поверили, а взглянув на наше «досье», в которых не значилось ничего контрреволюционного за пять с лишним лет пребывания Н. в концлагере и за мое на два года меньше, решили толком разобраться в нашем нутре, временно отложив возбуждение против нас нового дела до сбора через Шаранкова же более веских улик, поручив ему выпытывание нас. В разговорах с Шаранковым мы с Н. изо всех сил изображали себя ярыми приверженцами Сталина, даже стыдили Шаранкова, как коммуниста, когда он в провокационных целях начинал критиковать большевицкую верхушку, рассчитывая на наше поддакивание.
Так шли дни, недели сменяли недели, а поединок с Шаранковым продолжался и стоил нам много нервов. Взяли от нас Лифантова в следизолятор, на его место я назначил линейного электромонтера, молодого коммуниста заключенного, летчика-истребителя Кузьмичева, родом из Кинешмы. Он был посажен на 10 лет в концлагерь по 58 статье за якобы участие в контрреволюционной организации, так называемой «Голубые пятерки», действовавшей в военной авиации, и за якобы попытку перелететь границу (статья 84). С переходом одновременно Кузьмичева на жительство в комнату вместе с Шаранковым, последний решил и на Кузьмичева распространить свою «опеку». Молодой заключенный как-то сразу раскусил Шаранкова, обозвал последнего стукачом и пригрозил доносом за его контрреволюционные разговорчики в ИСЧ. От Кузьмичева Шаранков сразу отстал, но нас тиранить не прекратил. Его доля была также не завидная, он попал в тиски между ИСЧ и нами, скользкими как налимы, натренированными старыми соловчанами. ИСЧ требовало с Шаранкова материала, а мы его не давали и, попав в безвыходное положение, очевидно Шаранков пошел на прямую клевету о нас, которая сказалась несколько позже и окончилась трагично для Шаранкова.
А пока надо рассказать, как мы окончательно убедились в стукачестве Шаранкова, хотя нисколько и не сомневались в этом до этого эпизода, поскольку Шаранков, подгоняемый ИСЧ все более себя расшифровывал все более контрреволюционными разговорами и открыто-провокационными вопросами. В середине 1932 года в концлагере на Соловках появился потомок знатного казачьего рода граф Левашов. Безукоризненно сшитый по нем костюм заключенного, холеный вид, который он не утратил и в лагере, великолепные светские манеры располагали к нему политзаключенных. Однако постоянно бегающие глаза, что-то отталкивающее в выражении его лица, а главное нескрываемая им близость и панибратство со следователями ИСЧ, заставляли держаться настороже с этим отпрыском графского рода. Хотя официально он был посажен по 58 статье, он ни дня не был на общих работах, а сразу после Гарри был назначен цензором КВБ, где я с ним и познакомился, как редактор стенгазеты, принося ему на цензуру материал для стенгазеты. В пересыльной роте граф Левашов был только мимоходом, он не помещался и в других ротах, а для проживания ему была предоставлена коморка на Алебастровом заводе, хотя никакого отношения к заводу он не имел. Однажды, когда я пришел к нему с материалами для стенгазеты, граф вышел ко мне на стук в дверь, прикрыл ее за собой особенно плотно и очень вежливо но настойчиво заявил, что в данный момент к себе он меня впустить не может. У меня мелькнула догадка, выработанная трехгодичным пребыванием в концлагере и я решил тайно установить наблюдение за его каморкой. Алебастровый завод был поблизости от дома, занимаемого электромонтажной мастерской, управлением электросетями, где мы жили с Н. и комнатой дежурных электромонтеров. Мое окно выходило как раз на Алебастровый завод и из окна через высокий забор мне была видна дверь коморки графа, но только на одну четверть сверху так, что головы входящих и особенно выходящих мне были видны. И в сумерки и вечером ежедневно по часам к графу входили и выходили заключенные. Когда можно было разглядеть лица, я констатировал неизвестность мне этих лиц. Это не были редакторы стенгазет, которых я всех знал в лицо, оставалось сделать заключение об обнаружении мною конспиративной квартиры для сексотов-стукачей. Стукачей не могли принимать в ИСЧ из боязни их расшифровать и они ходили к Левашову, который ведал сетью стукачей. Однажды в декабре 1932 года, ложась спать и выключив настольную лампу, я глянул в окно. Из-за тучи выглянула луна, ярко осветив землю. Дверь у Левашова открылась и я отчетливо в лунном свете увидел лицо, выходившего от него Шаранкова. Через несколько минут он пришел в наш дом.
Январь месяц 1933 года выдался для нас особо тяжелым. Когда я вернулся из командировки с материка в начале января, в ту же ночь к нам ворвался патруль. Солдаты войск ОГПУ кого-то искали под деревянными диванами, на которых мы с Н. спали, обшарили все закоулки в нашем домике, перетрясли наши вещи, просмотрели все папки с служебными бумагами, ничего не взяли и ушли. Появление у нас патруля было полной неожиданностью, так как и в общежитие электропредприятий и в наш домик электромонтажной мастерской никогда ни один ночной патруль не заходил. В общежитии была исключена возможность ночных свиданий с женщинами заключенными, а в нашем домике Н. и меня достаточно изучили как стойких по отношению к чарам прекрасного пола заключенных, почему нас ночные патрули никогда не посещали. Поразмыслив с Н. мы совершенно неправильно связали посещение патруля с моим возвращением из командировки. Мы подумали, что, поскольку я ездил без конвоя и несколько дней свободно ходил по городу Кеми, решили проверить мою благонадежность не привез ли я какой-нибудь нелегальной литературы или писем от заключенных заключенным на острове. На вторую ночь повторилось такое же вторжение патруля, а там и пошло и пошло, если не каждую ночь, то через ночь и все в разные часы. Мы ходили не выспавшиеся, сломленные духом. В душе я уже мечтал о новом аресте, чтоб хоть даже таким путем избавиться от этих ночных наваждений. Так продолжалось около месяца, когда наступил неожиданный конец нашим пыткам. В первых числах февраля с патрулем ночью к нам пожаловал сам начальник ИСЧ. Обыск был самый тщательный. Начальник лично все перевернул у нас, лазил в первый этаж по внутренней лестнице в электромонтажную мастерскую, обшарил и там кладовую. Потный и обозленный, начальник, уходя с патрулем, предложил Шаранкову выйти из помещения вместе с ним. Через закрытую наружную дверь и то было слышно, как орал начальник ИСЧ на Шаранкова. Минут через двадцать Шаранков появился бледный как смерть. С этой ночи мы спали спокойно, больше ни один патруль к нам не заходил, а днем Шаранков не задавал больше никаких вопросов.
Шаранков остался на Соловках, когда меня в конце июня 1933 года увезли этапом на материк, и о дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
***
В рассказе о заключенных, касаясь тех или иных фактов, имевших место во время их пребывания в концлагере, описывая их поступки при тех или иных обстоятельствах, возникших из быта концлагеря, было трудно раскрыть полностью душевное состояние заключенного, потому что никакими словами не передать этого совершенно особого чувства, преследующего лишенного всех прав человека. Повседневное душевное состояние заключенного может представить себе только тот, кто имел несчастье быть сам заключенным. Человеку не побывавшему в концлагере этого состояния не понять.
СО СТУПЕНЬКИ НА СТУПЕНЬКУ…
Со ступеньки на ступеньку технической лестницы на Соловках я стал подниматься не сразу. Средне-специальное образование инструктора-бухгалтера кооперации, которое у меня было, с техникой ничего общего не имело, а по финансовой части моя карьера, как я уже рассказывал, оборвалась не начавшись. Назначенный рабочим при кладовой кремлевской электростанции я им оставался больше года, до сентября 1930 года. Самая низшая, без всякой ответственности, но в то же время штатная должность, в условиях концлагеря, была для меня наилучшей возможностью коротать свой десятилетний срок заключения, не подвергаясь дополнительным опасностям довлевшим над каждым ответственным работником из заключенных. «Безответственный помощник ответственного кладовщика», - шутил про меня заведующий электропредприятиями заключенный инженер Миткевич, ласково смотря на меня своими голубыми глазами. Оторванный от семьи Миткевич перенес на меня и Мишу Гуля-Яновского часть своих отцовских чувств, распорядившись перевести нас двоих в общежитие электропредприятий из электрометаллроты, что никак не соответствовало занимаемым нами должностям рабочих в кладовой и в механической мастерской. Миткевич щадил меня и в дальнейшем, пока был на Соловках. Так в мае 1930 года он уберег меня от назначения ответственным кладовщиком, предпочитая, чтобы я и пользовался бытовыми благами соответствующими почти элиты концлагеря и в то же время не нес бы никакой ответственности.
После расстрела, во время массового октябрьского 1929 года расстрела заключенных, Грабовского, заведующего спортплощадкой, на последней водворился какой-то бытовик заключенный, который так развалил все спортивное хозяйство вольнонаемных, что лагерным чекистам пришлось пойти на замену этого бытовика снова политзаключенным. Выбор пал на мое непосредственное начальство, ответственного кладовщика Кудржицкого. Закрыли глаза и на то, что он жандармский ротмистр, видели в нем отличного спортсмена, каким он был на самом деле. Не зря зимой на катке Кудржицкий перед высшим начальством всегда демонстрировал свое изумительное искусство фигурного катания на коньках, чем и привлек к себе внимание начальника Соловецкого отделения лагеря.
Ко времени перевода Кудржицкого на спортплощадку, я проработал в кладовой уже более девяти месяцев, превосходно знал материалы и мне вполне по плечу была должность ответственного кладовщика, на чем особенно настаивал Гейбель, к тому времени уже ставший главным бухгалтером электропредприятий, и знавший, как я аккуратно вел картотеку в кладовой. Но, повторяю, Миткевич меня просто жалел, не хотел подвергать дополнительным опасностям, сопряженным с ответственной должностью, которая бы мне не дала никаких привилегий в быту, которые он мне и так создал, переведя на жительство из роты в общежитие. Перевод этот состоялся в начале 1930 года, когда в общежитии освободилось два места.
Общежитие занимало второй этаж довольно большого деревянного дома недалеко от кремля на восток от него, и состояло из четырех комнат и кухни. Две совсем маленькие занимали делопроизводитель Данилов и главный бухгалтер Гейбель, в двух побольше, в одной вдвоем жили старший механик электростанции и токарь Лизандер, в другой механик телефонной станции Каледин и электрообмотчик Полозов. К последним двум подселили нас с Мишей, самых молодых и по возрасту и по времени пребывания в концлагере и самых низших по занимаемым должностям. Во втором этаже еще была комната заведующего электромонтажной мастерской вольнонаемного Тарвойна, где он жил со своей женой, небольшая комната управления электросетями, где и спал заведующий Зиберт и маленькая коморка дежурного электромонтера Лифантова. Кухня была электромонтажной мастерской. Большая плита на кухне, служившая днем производственным целям, занималась нами по вечерам для приготовления ужина, который не полагался ни на общей кухне, ни на кухне электростанции.
Вдали от ротного командира, освобожденный от утренней и вечерней поверки, со свободным выходом из общежития, мы порой даже забывали что находимся в концлагере. К тому же деревянные, правда жесткие, диваны для спанья выгодно отличались от двухместных нар вагонной системы барака роты, а стол на четырех, индивидуальные тумбочки и табуретки по числу проживающих делали наше новое жилище комфортабельнее нежели барак на сотню заключенных. И все же, твердо усвоив непрочность всякого благополучия в условиях концлагеря, всегда находясь с неотступной мыслью о возможности в любую минуту по прихоти чекистского начальства быть отправленным в любую глушь острова или перевода на нары обратно в кремль, а может быть и угодить в этап отправляющийся в какой-либо отдаленный из вновь открывающихся концлагерей, я за семь лет своего пребывания в концлагерях ни в общежитии, ни потом так и не обзавелся никаким сенником, считая его лишней обузой на этапах. Спал я в общежитии, как и везде, где я ни побывал заключенным, на своем тулупе, прикрытым простыней, под одеялом без простыни, захваченным из дому при аресте, головой на подушке тоже взятой из дому. Доведение до минимума пользования постельным бельем, даже при моем проживании в общежитии диктовалось проблемой его стирки. Вообще в концлагере эта проблема была разрешена только в отношении нательного белья, выдаваемого каждому заключенному вместе с обмундированием. В бане заключенный менял свой комплект на чистый. Стирка обмундирования, носков, теплого собственного белья, которое многие носили под хлопчатобумажным верхним обмундированием лагерной прачечной не производилась. Все это, и постельное белье приходилось стирать самому заключенному, что в условиях проживания в ротах было совершенно невозможно. В бане стирку нельзя было осуществить ввиду краткости времени отпускаемой на помывку, да и сушить стиранное тоже было негде. Поэтому, как правило, заключенные имели очень неряшливый вид, поскольку обмундирование без стирки носилось до замены его новым, что происходило через год или два, в зависимости от наличия блата у заключенного в каптерках, частях общего снабжения или просто у начальника.
В общежитии мы стирали по вечерам и за ночь все успевало высохнуть развешенное в электромонтажной мастерской, где дров на плиту мы не жалели. Впоследствии, когда я выбился в лагерную элиту и получал премиальные деньги, белье мне за небольшую плату стирали китайцы, работавшие прачками в лагерной прачечной.
Вместо Кудржицкого ответственным кладовщиком был назначен линейный электромонтер заключенный Галунов, а я оставлен в кладовой рабочим. О Галунове электромонтеры отзывались неодобрительно. В частности рассказывали как за счет другого заключенного получил скидку со срока заключения в три года из десяти. Когда в 1927 году праздновалось десятилетие Советской власти, Соловецкий кремль был весь иллюминирован. Одна из гирлянд разноцветных лампочек свешивалась по двадцатиметровому шпилю главной колокольни монастыря, общая высота которой была такова, что во времена существования монастыря золоченый шпиль этой колокольни в солнечную погоду был виден с Карельского берега на расстоянии 60 километров. Укрепил гирлянду на самой верхушке шпиля электромонтер Полозов, тоже десятилетник, взобравшийся туда по шпилю с риском для жизни. Начальник концлагеря Мартинелли, поразившийся отвагой смельчака захотел выяснить его фамилию. Пока Полозов, спустившись благополучно со шпиля, по внутренней лестнице спускался с колокольни, Мартинелли подвернулся Галунов, приписав себе этот подвиг. Мартинелли сделал скидку со срока Галунову, а Полозов остался с полным сроком. На воле Галунов был выдвиженцем на материально-ответственной должности и, благодаря своей малограмотности (жуликом, насколько я его знал, он не был) допустил крупную недостачу материалов и был посажен за растрату на 10 лет на Соловки.
Первое время и ему со мной и мне с ним работать было трудно. Кудржицкий командовал, я подчинялся и работа шла. Галунов стеснялся мной командовать. Он чувствовал свою низкую культурность, стеснялся меня обидеть, как он потом объяснил мне, считая меня «барчуком», а себя «мужиком». Мне это и в голову не могло прийти, потому что и по должности я был ему подчинен, и по возрасту я ему почти в сыновья годился, и был воспитан в демократических понятиях без всяких сословных претензий. Галунов сам таскал материалы из центрального материального склада, сам отпускал из кладовой, я томился в бездельи. Когда я намекал ему о необходимости записи полученных и выданных материалов в картотеку, он отводил глаза и говорил, что вечерком займется. Отпускал он материалы на глазок, остатков материалов не знал, я видел неминуемую у него новую растрату. Словом он работал так же, как, очевидно, на воле, когда получил срок. Пришлось мне проявить инициативу и я стал командовать Галуновым. Прежде всего я выправил картотеку кладовой и затем несколько вечеров с Галуновым произвел сверку фактических остатков с данными картотеки. К сожалению Галунов уже успел наделать и недостач и излишков, причем первых оказалось больше. Пришлось ему ходить и к заведующему электромонтажной мастерской и механической и телефонной станции чтобы те выписали недостачу, а получили излишки. Пришлось мне взяться и за отпуск материалов, контролируя Галунова по расходным накладным. Одним словом мне пришлось стать безответственным кладовщиком при ответственном кладовщике Галунове. Моя инициатива как-то сблизила нас, работа спорилась, как будто лучшей доли для меня нельзя было и желать. Казалось дни моего соловецкого рабочего стажа текут безмятежно, можно забыть непрочность лагерного благополучия, но один страх стал меня преследовать – возможность быть отправленным этапом в неизвестные дали новых только возникающих концлагерей на пустом месте. Я ловил себя на этом парадоксе: заключенный страшился вывозки своей с острова пыток и смерти. Но вопрос стоял куда? В свое освобождение из концлагеря по пересмотру «дела» я уже не верил, а, следовательно покинуть остров, променять угол в общежитии и работу в кладовой на еще большие страдания – прозябания в палатках в тайге и работу на лесоповале? Нет, такая перспектива, такое «освобождение» с Соловков мне совсем не улыбалось. Пока заведующим электропредприятий был Миткевич, я знал, что он приложит все усилия, чтобы отстоять меня от этапа.
Вскоре после назначения кладовщиком Галунова, Миткевича ГУЛАГ продал заведующим трамвайной электростанцией в Ташкенте. Для Миткевича это было счастье, так как он освободился из лагеря, мог в Ташкенте жить с семьей, получая 10% ставки заведующего (90% шло в кассу ГУЛАГа) и паек заключенного. Заведующим электропредприятиями стал заключенный профессор Рогинский, освобожденный от валяния валенок в Войлочно-валяльной мастерской. Приятный профессор, мягкий и трусливый, к тому же до смерти запуганный и следствием и приговором, никакой защиты для меня уже не мог предоставлять, он бы и не подумал отстаивать меня от отправки этапом. А спрос на рабскую рабочую силу со стороны строек порученных ОГПУ все возрастал и ГУЛАГ был вынужден, не считаясь с «опасностью» того или иного заключенного, невзирая на данную заключенному статью и срок все больше и больше забирать мне подобных десятилетников на этапы для переброски в Магадан, Вайгач и прочие места «не столь отдаленные». Моя должность рабочего кладовой была не номенклатурной и я мог быть отправлен даже без уведомления, а не то что согласия заведующего Рогинского. Последнего все чаще и чаще вызывали в УРЧ на отбор заключенных на этапы и он не мог отстоять даже квалифицированных работников электропредприятий, ряды которых все редели и редели. Потребность в рабах на вывоз была настолько велика, что брали кочегаров, электромонтеров, масленщиков, машинистов. Эта вакханалия все разрасталась и я окончательно потерял покой.
Прошло четыре месяца нашей совместной с Галуновым работы, когда в сентябре 1930 года он мне внезапно объявил о переводе его стрелком ВОХР, он становился вооруженным тюремщиком. Даже для бытовика это была неплохая карьера. Галунов фактически освобождался из лагеря досрочно, отсидев из 10 лет четыре года и становился солдатом войск ОГПУ на недосиженный срок с получением сытного пайка, но без денежного довольствия. Встал вопрос о кандидатуре ответственного кладовщика.
К чести Рогинского, он не отдал просто приказ о моем назначении ответственным кладовщиком, как это вполне соответствовало атмосфере насилия царствовавшей в концлагере. Профессор вызвал меня к себе и, отведя глаза в сторону, предложил мне место кладовщика. Пробыв к этому времени в концлагере уже больше года я вполне убедился как трудно рядовому заключенному на голодном пайке, на трехъярусных нарах, в постоянных перебросках с места на место, на изматывающем тяжелом физическом труде сохранить свою жизнь, не говоря о здоровье. Ответработников эти тяготы не касались, поскольку они имели лучшие бытовые условия, легально или нелегально получали продуктовые подачки от чекистского начальства, руководили работами, не напрягая свои физические силы. Попасть в концлагере на ответственную работу было все равно, что сесть за карточный стол. И выигрыш, и проигрыш сопутствовали ответработникам. Выигрыш – некоторое улучшение быта заключенного, проигрыш, который никогда нельзя было предвидеть и который возникал благодаря стечению обстоятельств – штрафизолятор, добавление срока, а может быть и еще хуже. Должность ответственного кладовщика, конечно еще не вводила меня в элиту концлагеря, но до некоторой степени могла спасти меня от превратившейся для меня в кошмар перспективы угодить на этап. «Золотце, - стал уговаривать меня Гейбель, - это прямо клад для Вас, соглашайтесь»! Я и не думал отказываться, я согласился. Возможно, моего согласия и не требовалось, но Рогинский все же просиял, а Гейбель продолжил: «Только, золотце, принимайте все до грамма, до сантиметра от Галунова, Вы сами знаете какой он, ведь Вам отвечать теперь». Последние слова фразы Гейбеля были первой горькой пилюлей на моем пути ответработника, одним из многочисленных уроков, с какой осторожностью надо держаться в концлагере при отношениях и со своим «братом»-заключенным.
Действительно, как я ни старался поддерживать порядок в кладовой, передача Галуновым мне материалов проходила не гладко. Он не хотел перемеривать и перевешивать те материалы, остатки которых были велики. «Вагон его», - была любимая фраза Галунова, когда он старался уверить меня в большом количестве данного материала, значительно превышающем числящиеся остатки его. Я никак не мог вдолбить ему в голову вредность не только недостачи, но и излишков материалов. Большую путаницу еще внесла и комиссия из двух малосведующих в материаловедении заключенных, машиниста электростанции Копылова и одного счетовода. Словом акт снятия остатков совершенно не соответствовал ни остаткам по картотеке кладовой ни по данным бухгалтерии. В моем положении было самое печальное то, что нельзя было быть вполне уверенным в идентичности остатков материалов по акту передачи кладовой, составленной комиссией, с фактическими остатками материалов, особенно по малоходным фитингам для паро и водопровода. Как анекдот мне запомнился фигурный тройник для паропровода имевший внешнее сходство с брюками, который Копылов назвал в ведомости «штаны для паропровода». Сличительная ведомость пестрела излишками и недостачами, а Галунов уже был где-то далеко, с винтовкой в руках, подгоняя заключенных. Гейбель писал докладные Рогинскому, который стал коситься на меня, как будто я был виноват – не сумел так принять кладовую, чтобы все было гладко. Казалось бы Гейбелю надо было подать сличительную ведомость в финчасть на усмотрение начальника для взыскания недостачи с Галунова, которому все равно все бы простили, как солдату войск ОГПУ. Но Гейбель боялся выносить сор из избы, так как сам не был уверен в данных своей бухгалтерии, а при назначении ревизии в случае если бы ведомость была бы взята начальником финчасти под сомнением, при выявлении ошибок в бухгалтерии электропредприятий, в первую очередь очень бы попало Гейбелю. Поэтому он старался получить мое согласие на переделку акта приемки, чтобы я принял остатки материалов по книжным остаткам и в процессе отпуска материалов сгладил бы «разрывы», как он витиевато называл недостачи и излишки. Согласись я только с этим недостача Галунова легла бы на меня и при очередной инвентаризации отвечал бы за нее уже я, а за недостачу посадить меня в штрафизолятор было бы для Гейбеля безопаснее, чем связываться с солдатом войск ОГПУ.
Чтобы как-то выходить из положения, помимо повседневной работы с назначенным мне рабочим кладовой, я вечерами стал заниматься кропотливой работой и по сверке моей картотеки с бухгалтерской и проверки с учетом движения материалов. Каждый вечер выплывали совершенно неожиданные сюрпризы по пропущенным для списания счетоводом накладным, подитоживания карточек и тому подобное. В кладовой я тоже обнаруживал несоответствие фактических остатков передаточной ведомости. Гейбель делал часовые выговоры счетоводу материального стола, но защищая «честь мундира» бухгалтерии скрывал выявленные ошибки от Рогинского.
После полуторамесячной кропотливой работы сличительная ведомость значительно изменилась и за счет ошибок бухгалтерии и за счет выявленных мною расхождений в ведомости передачи мне кладовой. Гейбель соглашался изменить остатки по приемной ведомости только в том случае, если они соответствовали новым итогам по бухгалтерии. Если все же оставались отклонения в ту или другую сторону из-за ошибок комиссии, Гейбель все перекладывал на мои плечи, хладнокровно заявляя: «Золотце, я же Вас предупреждал принимать только строго по наличию, Вы же подписали акт приемки».
Рогинский метался между Гейбелем и мною, все больше раздражаясь и пугаясь недостачи обнаруженной во вверенном ему недавно предприятии. Чтобы окончательно ликвидировать, как выражался деликатно Гейбель, «пересортицу» Рогинский обратился к заведующему служб выписывать из кладовой материалы, числящиеся в недостачи, а мне отпускать числящиеся в излишках. Пришлось мне вести «тройную» бухгалтерию, записывая что фиктивно отпущено, а что на самом деле. Приходилось сидеть до глубокой ночи делая и разноску по своей картотеке и записывая навязанную мне фикцию. Очень выручал меня назначенный мне рабочий, толковый, честный и очень старательный заключенный, о котором я уже рассказывал. Он очень точно отпускал материал по накладным, выписывал и ходил за материалом на центральный склад отдела снабжения, словом разгрузил меня от повседневной работы, дав мне возможность сосредоточить все внимание на выправлении доставшегося мне наследства.
Так я приобретал жизненный опыт, глубже постигал классификацию технических материалов и в совершенстве овладел логарифмической линейкой. Прутковое, угловое и другое железо, прутковая бронза и медь учитывались в весе, а отпускались метражом, что всегда могла привести к недостаче или излишку металла. Определить для самопроверки фактические его остатки не представлялось возможным путем взвешивания из-за большого веса его и я приспособился, обмеряя длину и диаметр прутков, уголков и помножая на удельный вес металла на линейке быстро определять искомую величину.
Настал конец 1930 года, а с ним и инвентаризация кладовой. Поскольку фактическая проверка кладовой произошла при передаче от Галунова мне в сентябре месяце, инвентаризацию, проводящуюся раз в год, можно было бы и не делать, но Гейбель точно придерживался инструкции и ко мне в кладовую пришла инвентаризационная комиссия. Я был начеку, диктовал правильные названия материалов и запасных частей, чтоб опять не получились «штаны для паропровода» и следил за точным взвешиванием и обмером материалов. Однако получился другой казус. Комиссия перестаралась, взвесив негодные медные трубы и части от какого-то старого оборудования, которые лежали в углу кладовой еще до моего поступления рабочим и передавались от Кудржицкого Галунову и от последнего мне, как утиль-лом цветных металлов по книжным остаткам без взвешивания. В сличительной ведомости выплыли значительные излишки цветного металлолома. Тут забегал и Рогинский, потому что спрос на металлолом в стране был огромный, на числящиеся несколько сот килограммов его никто внимания не обращал, а тут оказалось «богатство» свыше двух тонн меди. Своевременная неотправка такого количества цветного металлолома могло рассматриваться уже как вредительство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Было от чего профессору-«вредителю» взяться за голову. Гейбель покачивал заложенной на ногу ногой и говорил: «Я ничего не знаю, у меня запись по инвентаризации». На прочие недостачи и излишки оказавшиеся у меня по сличительной ведомости уже никто не обращал внимания. С пересортицей материалов я еще мог согласиться, так как из-за незнания материалов счетоводом материального стола, он мог легко списывать одноименные материалы, разнящиеся только маркой, спутывая карточки, что относилось к роликам, изоляторам, шурупам, проводам, но с недостачей нескольких сот метров электрического шнура я никак не мог согласиться и потребовал ревизию бухгалтерии.
На этот раз меня поразило поведение того молодого казака, с которым мы за одним столом выписывали счета в первые дни моей работы на электростанции. В дальнейшем Кавокин был со мной в очень хороших отношениях, он много писал хороших рассказов, украшавших стенгазету. Я был редактором стенгазеты и всегда на всех собраниях с похвалой отзывался о Кавокине, как образцовом стенкоре. Последний уже был помощником главного бухгалтера электропредприятий и, очевидно, на него повлияло это продвижение по иерархической лагерной лестнице, переход его в элиту концлагеря. Кавокин высокомерно мне заявил: «Вы нам никаких претензий не предъявляйте, помните одно, что кладовщик всегда в руках бухгалтерии, что захотим, то и сделаем, будете ерепениться – посадим за недостачу». И это была не простая угроза, чтоб я не касался пороков бухгалтерии – направленный на меня его взгляд ничего хорошего не предвещал. Я замолчал и приготовился к вызову в ИСЧ с заведением на меня уголовного дела за недостачу материальных ценностей и отправки меня, как «растратчика» минимум на лесозаготовки, на который особенно не хотелось попадать в трескучие январские морозы 1931 года.
К моему счастью, без всякой моей просьбы, вмешался заведующий электропредприятиями Рогинский. Он усомнился в достоверности такой большой недостачи электрического шнура и распорядился сделать проверку записей по бухгалтерским карточкам, хотя бы по одному этому виду материалов. Гейбель поручил Кавокину и тот, фыркая, засел со мной на всю ночь. Оказался прав я. Несколько карточек учета этого шнура по бухгалтерии оказались скреплены между собой и при подсчете общего итога движения шнура были пропущены. Результат сошелся с записями в моей картотеке и фактическими остатками. Гейбель и Кавокин оказались посрамленными и предложили, чтобы не рыться в остальных карточках «пересортицу» списать, что было утверждено Рогинским и по ходатайству Гейбеля начальником финчасти. Мое «доброе имя» было восстановлено. Медный лом был сдан на центральный склад и отправлен на материк и Рогинский даже получил словесную благодарность от начальника Соловецкого отделения концлагеря «за мобилизацию внутренних ресурсов в целях ускорения выполнения первого пятилетнего плана индустриализации страны».
Я так подробно остановился на этих передрягах, испытанных мною в самом начале моего восхождения по иерархической лагерной лестнице, чтобы было понятнее еще одно крушение моих иллюзий в отношениях между заключенными. Если склоки между Даниловым и Миткевичем, Турбиным, Гейбелем и Кудржицким, Фрейбергом и Гейбелем как-то можно было еще объяснить скученностью заключенных, круглые сутки находившихся в тесном контакте друг с другом при ограниченности интересов лагерной жизни, то желание утопить такого же, как и они сами, заключенного только из-за лени поискать собственные ошибки и признать самими же подозреваемую собственную вину, выходило за рамки моего понимания людей и казалось мне просто чудовищной. И еще хочется остановиться на вопросе с путаницей в бухгалтерском учете. Не происходила ли она из-за рабского, подневольного труда счетоводов-заключенных?
Умудренный опытом с тех пор, помимо самопроверки фактических остатков в кладовой, я ежемесячно сверял с бухгалтерией остатки материалов по картотеке ведомой мною в кладовой и каждый раз поправлял счетовода. Гейбель стал верить теперь больше моим записям, моей картотеке, чем записям в карточках бухгалтерии. В июне 1931 года я благополучно сдал кладовую одному старому железнодорожнику, о котором я уже рассказывал. Наличие материалов по акту передачи точно сошлись с бухгалтерскими данными и я вздохнул свободно.
Мой перевод из кладовой, снятие меня с ответственной материальной должности, были весьма своевременными, так как в концлагере все жестче стало проводиться пресловутое постановление СНК 1930 года о запрещении занимать ответственные должности политзаключенными. Когда я принимал кладовую от Галунова в сентябре 1930 года это постановление только спускалось по длинной бюрократической лестнице ГУЛАГа ОГПУ и на Соловках еще не было известно. Когда же оно было получено первыми жертвами оказались ответработники частей управления отделения и бюро лагпункта, кладовщики центральных складов снабжения общего и материально-технического. До такой мелкой сошки, как я, взор чекистского начальства не дотянулся, но с течением времени и до меня могли добраться, я сознавал свое шаткое положение.
Обжегшись на молочке, мой приемник дул на воду при приемке у меня кладовой. Он по несколько раз все перемеривал, перевешивал, пересчитывал и затянул приемку на несколько дней. На ночь на двери кладовой он вешал и свой замок. Кладовщик железнодорожного депо, он очень плохо знал электротехнические материалы и уже после подписания акта сдачи-приемки часто просил зайти в кладовую, чтоб я показал ему местонахождение в кладовой того или иного электротехнического материала.
Мой спутник детских забав Александр Иванович Симонов, о котором я уже рассказывал, закончил срок сидения в лагере в июне 1931 года. Освобождалась его должность контролера электросетей и он выдвинул мою кандидатуру на это место. Заведующий электросетями заключенный морской офицер электрик-минер Зиберт немного знал меня по общежитию, видел как по вечерам, придя из кладовой, я самостоятельно занимался по учебникам электротехникой, вспомнил, как я успешно закончил курсы электромонтеров в 1930 году, и попросил Рогинского отпустить меня из кладовой. С назначением меня контролером электросетей я стал на вторую, притом уже чисто техническую, ступеньку лагерной лестницы.
Работа контролера электросетей была подвижная, мало требовала сидения за столом и не ограничивалась никакими часами. Сам процесс самостоятельного, в одиночку, хождения благотворно влиял на мою психику как бы подсознательно утверждая свободу передвижения в пространстве, ту свободу, отсутствие которой так гнетет психику заключенного. Конечно, эта свобода передвижения была в рамках выполнения возложенных на меня обязанностей, но выполняя их, я сам, а не по окрику конвоира, шел туда, шел сюда, тем более что и Зиберт не вмешивался в планируемый мною самим распорядок дня. Он только требовал полного выполнения всех возожженных на меня обязанностей и выполнение их мною верил мне на слово.
В обязанности контролера входил учет установленных внутри и вне помещений концлагеря электрических лампочек. Первого числа каждого месяца список их представлялся в бухгалтерию электропредприятий с точным указанием мощности электроламп по помещениям и наружного освещения. При ежемесячном обходе всех помещений на контролера возлагалась также обязанность составления актов при обнаруживании электролампочек большей, чем положено по нормам, мощности, так как расход электроэнергии был строго рационализирован. Эта часть обязанностей контролера не требовала знаний по электротехнике и с ней мог справиться любой заключенный со средним образование, что превосходно доказал впоследствии, назначенный по блату контролером заключенный Шапиро, ничего не понимавший в электротехнике.
Одновременно с записью электроламп, контролер был обязан в целях пожарной безопасности, посещая все помещения, следить за годностью внутренней электропроводки и соответствию нормам установленных предохранителей. Результаты этой проверки заносились в особый журнал. За состоянием наружной электропроводки и работой электромонтеров на производственных предприятиях наблюдал сам Зиберт.
В 1931 году велось еще кое-какое новое строительство, что требовало и новой электропроводки. Кроме того части управления отделения концлагеря и бюро лагпункта не были свободны от порока свойственного всем советским учреждениям вечно переезжающим с места на место. В концлагере эти переезды даже были чаще, по прихоти чекистского начальства. Эти переезды требовали переоборудования существующей электропроводки, переноса светильников с места на место. Последнее требовалось и при переставлении столов с места на место в канцеляриях, что было еще чаще. В управление электросетями заявки на переоборудование электропроводки сыпались дождем от всех учреждений, в среднем до пяти в день. Не говоря уже о затрате электроматериалов, эта суета-сует с переездами давала Зиберту и мне порядочно работы. Составление проектов и смет переоборудования, более сложных Зиберт брал на себя, остальное поручал мне. Надо было выйти на место, согласовать желание абонента, посмотреть все в натуре, сделать новую схему электропроводки, спецификацию на потребные для работ материалы. Я уже рассказывал, как Зиберт уже вторую сделанную мною смету отказался проверять, всецело полагаясь на меня и я действительно овладел этой уже чисто электротехнической работой – составления смет на уровне знаний техника-электрика.
Несмотря на такой казалось обширный круг моих обязанностей, у меня рабочий день был не настолько загружен, как при работе в кладовой и, пожалуй, период моей работы контролером электросетей был наиболее легкий за все мое пребывание на Соловках.
Совместно с Зибертом мы проводили работы по определению степени изоляции целых участков электросетей, что дало мне очень много в практике обращения с электротехническими измерительными приборами, закрепляя теоретические познания из учебников. В зависимости от результатов измерений Зиберт отдавал распоряжения заведующему электромонтажной мастерской о ремонте участков электросетей, что способствовало минимальной утечке электроэнергии в землю, настолько ниже нормы, что новый заведующий электропредприятиями заключенный инженер-электрик Боролин не мог скрыть своего восхищения и, жонглируя цифрами утечки, перед ничего не понимающим начальством, поднимал свой и Зиберта авторитет.
Однако Боролин, всегда отлично чуявший «дух времени», если и не более эффективно, зато с большей показухой, взялся за экономию расхода электроэнергии еще и по другой линии. «Строительство социализма» требовало колоссального напряжения всех сил народа и вопрос об экономии во всем становился все острее. ГУЛАГ все жестче требовал прибыльности концлагерей, снижения расходов на их содержание. Одним из элементов такого снижения была экономия расходов по освещению помещений рот и канцелярий, путем строгого контроля соблюдения норм освещенности и недопущения бесцельного горения электроламп. С целью усиления контроля, а также придачи большего веса управлению электросетями, Боролин быстро доказал начальнику Соловецкого отделения необходимость расширить штат контролеров и ввел должность второго контролера электросетей, которым был назначен, только что прибывший в концлагерь, заключенный сын нэпмана, Шапиро. Произошло перераспределение обязанностей: Зиберт передал от меня Шапиро учет расходования электроэнергии (запись мощности установленных в помещениях электроламп и подачу ведомости в бухгалтерию) и контроль за соблюдением норм освещенности. Наблюдение за состоянием электропроводки, соответствием предохранителей и составление смет остались за мной. Кроме того Зиберт передал мне свои обязанности по контролю за работой электромоторов предприятий и состоянием наружных электросетей. Получилось четкое распределение обязанностей между «коммерческим» контролером Шапиро и мною, «техническим» контролером. Время от времени и я ходил по помещениям, контролируя нормы освещенности.
На этом Боролин не остановился. С наступлением осенне-зимнего периода 1931-1932 годов, когда потребление электроэнергии на освещение достигает максимума, в особенности в полярных широтах, на границе вечной ночи, Боролин создал еще бригаду общественных контролеров, на обязанности которой было, в свободное от основной работы время, контролировать нормы освещенности. Это тоже была уступка «духу времени» - усиление эксплуатации рабов под соусом выполнения ими работ «на общественных началах». В бригаду вошли три моих друга А., М. и Н., все три дежурные по распределительному щиту, электротехники. Вопрос экономии расходования электроэнергии очень близко их касался в повседневной работе. Кремлевская электростанция работала в часы пик на пределе своей мощности и очень усложняла дежурства электротехников. Всякое снижение потребления электроэнергии облегчало их работу наравне со мной и Шапиро по контролю за расходом электроэнергии. Несмотря на то, что все трое общественных контролеров были заключенными по 58 статье, с десятилетним сроком заключения, Боролин добился, также как и для меня и Шапиро круглосуточных пропусков для хождения по территории концлагеря с правом входа в любое помещение концлагеря. Разбившись на пары, мы время от времени, особенно по ночам в ротах, днем в канцеляриях, делали проверку норм освещенности, составляя акты и отбирая электролампочки превышающие норму освещенности. Это были уже не те акты, которые составлял я, будучи единственным контролером, акты, по которым максимум я отбирал электролампочку. Боролин по актам общественных контролеров добился у начальника Соловецкого отделения взысканий командному составу рот и начальникам бюро и частей управления, причем некоторые отсидели по несколько суток в 11 роте за пользование очень мощными электролампами. В расходе электроэнергии был наведен порядок.
Не обходилось и без комических случаев при наших ночных обходах. В те времена комсостав рот из офицеров Русской армии был уже полностью заменен бытовиками и уголовниками. У последних всегда рыльце было в пушку, все они потворствовали кражам и лагбандитизму и потому, с перепугу от нашего появления, внимательно не читали наши удостоверения, принимая нас за оперативников ИСЧ, пришедших по их душу. В этих случаях дежурные комвзводы были особенно предупредительны в отношении нас. Солдатам войск ОГПУ, постоянно дежурившим в Восточных воротах Кремля, все мы контролеры до того примелькались, проходя в Кремль и обратно с целью контроля освещения, что они обычно краем глаза смотрели на предъявляемые нами наши личные пропуска в развернутом виде. Вообще эти пропуска давали нам пятерым неограниченную свободу передвижения по территории лагеря, а это так залечивало раны психики заключенного.
Но все же однажды меня задержали и именно в Восточных воротах при входе в Кремль. Стоял новый солдат, не знавший меня в лицо. Он внимательно изучил пропуск, взяв его у меня из рук, обратил внимание на зажатое резинкой на корочке развернутой книжечки с пропуском «сведение», которое само по себе могло служить пропуском на вход и выход из Кремля для работающих вне кремля в часы выхода на работу и возвращение с работы, и отвел меня в комендатуру. Солдат заподозрил меня в желании способствовать побегу из Кремля какого-нибудь заключенного, пронося в Кремль «двойной» пропуск – удостоверения контролера и «сведение». Дежурный комендант выслушал солдата, возвратил мне и «сведения» и пропуск и отпустил меня.
Несмотря на дополнительные обязанности возложенные Боролиным на аппарат управления электросетями, с передачей учета расхода осветительной электроэнергии Шапиро, у меня как-то стало больше свободного времени, что не ускользнуло от внимания Боролина, которому я не был непосредственно подчинен. Боролин все больше и больше стал приближать меня к себе, загружая меня общественной работой в целом по электропредприятиям. Несмотря на то, что я уже нес немалую общественную работу, как редактор стенгазеты электропредприятий, Боролин на одном общем собрании выставил мою кандидатуру в секретари штаба соцсоревнования и меня выбрали. На другом собрании он выдвинул мою кандидатуру секретарем БРИЗа (Бюро рационализации и изобретательства) и меня снова выбрали и на эту должность. На всех производственных собраниях я неизменно, по предложению Боролина, секретарствовал. Очевидно, ему нравилось как я вел протоколы, как их редактировал совместно с ним, как я без задержки представлял их переписанными начисто со всеми необходимыми подписями. На мои старания Боролин отвечал большой заботой обо мне.
Переименование концентрационных лагерей ОГПУ (концлагерей) в «исправительно-трудовые» лагеря ОГПУ в 1930 году дало для заключенных с последнего квартала 1931 года некоторые преимущества. С первого октября 1931 года был введен «зачет рабочих дней для заключенных перевыполняющих нормы выработки при образцовой дисциплинированности», как было сказано в приказе ГУЛАГа ОГПУ. Все расширяющееся строительство основных объектов по первому пятилетнему плану исключительно силами заключенных зависело в конечном счете и от производительности труда многомиллионной армии рабов. С другой стороны, несмотря на численный рост аппарата подавления в концлагерях в связи со все вновь организуемыми концлагерями по месту «Великих строек», количество заключенных быстро обгоняло прирост вооруженных тюремщиков и одним кнутом достигать увеличения производительности рабского труда становилось все затруднительнее. ОГПУ пришлось дополнить политику кнута еще и политикой пряника, которым и стал зачет рабочих дней.
Зачет рабочих дней отвечал и духу сталинских пятилеток – взять в кратчайший срок максимальное количество труда народа, а там хоть трава не расти. Заключенному лучше было снизить срок и освободить его от принудительного труда в отдаленном будущем, но сейчас выжать из него как можно больше, даже за счет его здоровья, поманив его теперь снижением срока, такова была идея зачета рабочих дней. За такой способ эксплуатации человека вечный позор Сталину и чекистам ОГПУ, но заключенных за то что они клюнули на эту удочку осуждать нельзя, ведь маячившая им обещанная свобода дороже очень многим и своего здоровья и даже жизни.
В каждом отделении исправительно-трудового лагеря ОГПУ была создана Аттестационная комиссия (АК), председателем которой был начальник Культурно-воспитательной части (КВЧ), а членами уполномоченный 3-й части (бывшая ИСЧ) и начальник Учетно-распределительной части (УРЧ), все три чекиста (вольнонаемные или заключенные). Основное слово в решении АК принадлежало чекисту из ИСЧ, в его руках находились все судьбы заключенных отделения, снизить срок или нет. АК заседал ежеквартально, вынося свои решения о зачете рабочих дней, то есть фактическом снижении срока заключения. АК выходила на производства, где иногда и опрашивала отдельных заключенных и в большинстве тут же записывали в протокол число зачтенных за минувший квартал рабочих дней или отказ в зачете. Соответствующие отметки вносились в зачетную книжку заключенного и в его личные дела в 3-й части в УРЧ. К концу каждого квартала в АК представлялись на каждого заключенного две характеристики о воспитуемости воспитателем роты и производственная заведующим предприятием. На основе этих характеристик, а также и устных ответов заключенного, если он подвергался допросу, АК выносила свое решение. Ударники получали высший зачет рабочих дней – три за два проработанных, что составляло за квартал ударного труда, полтора месяца скидки со срока заключения.
Ударниками признавались заключенные систематически выполнявшие производственные нормы не менее чем на 110%, заведующие предприятиями и цехами при выполнении плана предприятиями и прочие заключенные стоящие близко к начальству (как я у Боролина). Для заключенных выполнявших нормы от 100 до 110% зачитывалось четыре дня за три проработанных, то есть за квартал давался месяц скидки со срока. Не выполнявшим нормы в зачете рабочих дней отказывалось. Кроме того зачет рабочих дней не производился по всем категориям если заключенный хоть один день в течение квартала просидел за нарушение лагерного режима в роте усиленного режима, то есть попросту в карцере, каким была 11 рота в Кремлевском лагпункте. Не зачитывалось также тем, кто находился в госпитале, следизоляторе, штрафизоляторе и на штрафных работах или имел особые секретные отметки в личном деле 3-й части. Зачет рабочих дней производился независимо от статьи УК, по которой сидел заключенный, а также от его социального происхождения (так было до убийства Кирова, когда все изменилось). Поскольку в концлагере трудились не за страх, а за совесть лишь одни политзаключенные и отчасти бытовики, наивысшие зачеты, как правило, получали эти две категории заключенных. Не желавшие работать уголовники зачета обычно не получали, что не мешало им освобождаться из лагеря значительно быстрее истинных тружеников.
Участие в общественной работе столь многих профилей было мне на руку для получения надлежащих характеристик по зачету рабочих дней. Обычно наилучшие характеристики, исходившие от ротных воспитателей, как правило, малограмотных бытовиков или уголовников, предназначались для их окружения подхалимов, обитавших в роте и лебезивших перед воспитателем. Не жившего в роте, меня воспитатель мог и совсем не знать, если бы не та общественная работа, которую я нес и за которую отвечал и воспитатель электрометаллроты, за которой я числился. Не говоря уже о Боролине, всегда представлявшего на меня блестящую характеристику, и воспитатель вторил ему и я с первого же зачетного квартала прочно вошел в ряды ударников и неизменно получал и впоследствии наивысший зачет рабочих дней. До первого октября 1934 года за три года я набрал зачетов, снизивших мне срок почти на полтора года. 525 дней были довольно ощутимы, если принять во внимание, что в лагерных условиях каждый лишний день пребывания в заключении мог стоить жизни заключенному. Забегая вперед, не могу не отметить, что все же один квартал в 1934 году, по прихоти Ломовского, о котором я уже упоминал, я был лишен звания ударника и потерял за квартал 15 зачетных дней из-за перерыва в подаче электроэнергии на несколько часов в Управление СЛАГа из-за аварии двигателя электростанции, которой я заведовал тогда в г. Кеми.
Характеристики воспитателей были достаточно безграмотны, серы и однотипны, как в зеркале отражая невысокий культурный уровень их авторов. Хотя они были секретные, но все же мне удалось подсмотреть одну характеристику на меня, конец которой был довольно оригинален. Ее писал, недолго продержавшийся в роте, весьма способный и умный бытовик Лохов, страшный алкоголик, какая слабость и привела его в лагерь. Закончил он характеристику на меня фразой: «Остер на язык, но не злоблив».
В декабре 1931 года сказалось еще одно преимущество должности контролера электросетей. Начальник Соловецкого отделения лагеря решил разделить Кремлевский лагерный пункт на два и здание, второй этаж которого был занят электромонтажной мастерской и общежитием заключенных электропредприятий, приглянулся для управления вновь организованного лагпункта «Сельхоз». Правда это разделение на два лагпункта долго не просуществовало, так как само начальство изнемогло от выписки пропусков для заключенных, которые жили на территории Кремлевского лагпункта, а работали в сельхозе и судоремонтном заводе (на территории вновь образованного лагпункта «Сельхоз» бараков для жилья не было), и затея была отменена. Но нас все же успели выселить в 24 часа. Вольнонаемного заведующего электромонтажной мастерской Тарвойна переселили в номер монастырской гостиницы, в которой было общежитие для вольнонаемных, общежитие заключенных ликвидировали, переселив обратно в электрометаллроту, в том числе и моих молодых друзей. Данилов, который в это время уже работал в УРЧ, перешел на жительство в общежитие работников УРЧ и ИСЧ, а главный бухгалтер Гейбель был переведен в канцелярскую роту в Кремль. От общей участи попасть снова на жительство в роту избегли только Зиберт и я. Для управления электросетей и электромонтажной мастерской отвели две комнаты в первом этаже здания Управления Соловецкого отделения. В комнате управления электросетями поселился Зиберт, взяв и меня с собой с разрешения ротного командира и лагстаросты. На мое проживание в здании управления отделения разрешение от начальника Соловецкого отделения добился Боролин. В электромонтажной мастерской поставили койку для дежурного по сети электромонтера, на которой неофициально поселился Лифантов.
Окна обеих комнат выходили на юг, прямо на пристань и это обстоятельство лишний раз показывало какой большой авторитет был у Боролина. Пристань охранялась особо строго, а мы два политзаключенных, при желании, могли просто перешагнуть из своих окон на пристань и все же нам разрешили там жить. Через эти окна мне пришлось наблюдать какой массовый масштаб приняло ограбление монастырского производственного оборудования, вывозимого на открывавшуюся стройку Беломорканала, производимую Белбалтлагом ОГПУ. Металлообрабатывающие станки с Судоремонтного завода, узкоколейная железная дорога с подвижным составом, Пошивочно-обмундировочная фабрика, Войлочно-валяльная и Карбасная мастерские, почти полностью монастырская типография были вывезены на материк до закрытия навигации. Производство Соловецкого отделения СЛАГа приходило в упадок. Этап за этапом на Беломорканал отправляли и всех специалистов и неквалифицированных рабов. Вывезли и моего друга Мишу Гуля-Яновского. Из моих однодельцев на зимовку 1931-1932 годов почти никого не осталось. Застряли только медик Горицын, библиотекарь Холопцев да я.
Впрочем был еще никому из нас незнакомый один киевлянин, работавший лесником в глубине острова, с которым я познакомился лишь в следующую зимовку, спустя четыре года после нашего ареста. Такие уж мы с ним были «однодельцы».
Переключение внимания ГУЛАГа на строительство Беломорканал и других больших строек привело к упадку производства Соловков, в том числе и новое строительство, которое вообще прекратилось в 1932 года на Соловецких островах. Даже была ликвидирована строительная лагерная организация – Дорстройбюро, занимавшееся прокладкой и ремонтом дорог и строительством производственных и жилых бараков и их ремонтом. В здание Дорстройбюро (ДСБ) нас и переселили в феврале 1932 года, очевидно посчитав, все же небезопасным для управления Соловецкого отделения скопление заключенных электромонтеров в первом этаже управления и проживания там двух политзаключенных.
Здание ДСБ строилось начальником ДСБ для себя, добротно и с комфортом, включая даже потайной ход из первого этажа в мансарду. Большая комната с кладовой во весь первый этаж была отведена под электромонтажную мастерскую, второй этаж заняли управление электросетей и дежурные по сети электромонтеры. В первой поселился Зиберт и я, во второй комнате два дежурных электромонтера. Между нашими комнатами была маленькая кухонька с двумя выходами – одним явным по наружной лестнице, другим потайным в первый этаж. Когда здание занималось ДСБ, а в мансарде жил его начальник, вероятно, ни одна женщина спасалась от ночного патруля этим потайным ходом. Таким образом постоянно проживавшими в домике ДСБ оказалось нас четверо: в комнате управления электросетей Зиберт и я, в комнате поменьше Лифантов и молодой коммунист, бортмеханик гидросамолета Вася Углов, о котором я уже рассказывал и с которым я тут подружился. После сырых комнат первого этажа каменного здания, в этой сухой комнате я сохранил много здоровья. Если не все усиливающийся голод и террор уголовников, в этом домике для заключенных могло бы наступить, по лагерным масштабам, действительно райское житье, тем более что от кремля и управления Соловецкого отделения лагеря, он был расположен в удалении более километра и ленивое чекистское начальство уже не так часто наведывалось к нам.
Наступавшее ежегодно с закрытием навигации прекращение на шесть месяцев передвижение масс заключенных благоприятствовало открытию во время зимовки со стабильным контингентом учащихся разнообразных курсов профтехобразования для подготовки из неквалифицированных заключенных специалистов, спрос на которых в лагерях все возрастал с расширением строительной деятельности концлагерей ОГПУ. Продолжая самостоятельно изучение электротехники после окончания курсов электромонтеров, весной 1930 года, в зимовку 1930-1931 годов, еще работая кладовщиком, я поступил на курсы шоферов. Заведующим курсами и единственным преподавателем на них был секретарь Курсов Профтехобразования КВЧ (КПТО КВЧ), офицер Русской армии, первый русский танкист, прошедший подготовку в Англии в конце первой мировой войны, заключенный Алиханов. С курсантами он извлек из лома остатки какого-то легкового автомобиля, от которого уцелел мотор, задний мост и карданный вал и, пользуясь этими «наглядными пособиями», обильно напичкав нас теорией двигателей внутреннего сгорания, талантливый танкист, выпустил нас шоферами, и неплохими механиками по двигателям внутреннего сгорания. Практику езды проходить нам было не на чем, так как на Соловках не было ни одной автомашины, почему прав мы и не получили. Но знания приобретенные мною у Алиханова и углубленные затем с помощью моего друга Углова, в совершенстве знавшего двигатели внутреннего сгорания, очень мне пригодились впоследствии, когда я был назначен заведующим Кемской электростанцией, оснащенной исключительно такими двигателями. Эти же знания очень помогли мне, когда еще позже я был назначен старшим механиком Повенецкого Пушсовхоза, где мне пришлось иметь дело с тракторным парком. Во второй половине ХХ века каждый мальчишка знает в принципе устройство мотора, но в двадцатых годах, когда автомобили и мотоциклы исчислялись десятками и то в больших городах, понятие о двигателях внутреннего сгорания имели лишь специалисты водившие и обслуживающие автотранспорт. Для не имевшего технического образования, как я, курсы Алиханова были весьма ценными.
В зимовку 1931-1932 годов Боролин, как я уже рассказывал, организовал курсы электротехников на электропредприятиях в неофициальном порядке. На этих курсах я почерпнул много знаний не только по электротехнике, но и по паровым машинам. Так к лету 1932 года у меня накопился кое-какой багаж технических знаний, конечно, до некоторой степени отрывочный и неполный, но все же достаточный для успешного выполнения возложенных на меня обязанностей контролера электросетей, но, пожалуй, не более.
Чтобы закончить рассказ о курсах, на которых я учился, будучи заключенным на Соловках, нельзя не упомянуть о курсах ответственных работников, на которых я побывал, тоже без отрыва от производства, но на которые я был послан заведующим электропредприятиями Гейфелем в ноябре 1932 года. Подоплека организации курсов такого профиля для заключенных осталась для меня не ясна. Может быть, в связи со все увеличившимся колоссально количеством концлагерей, кадров ответработников не хватало и чекисты, боясь назначения на ответственные посты заключенных только что прибывающих после приговора в концлагеря, решили создать кадры из старых, по количеству отсиженных лет, заключенных, которыми изобиловали Соловки? Поскольку в числе все возраставшей массы заключенных в начале тридцатых годов, возрастало количество заключенных коммунистов, не только в абсолютных числах, но и относительно, казалось бы коммунистам и карты в руки погонять заключенную массу рабов, заполнять коммунистами ответственные должности и в концлагерях, как на воле, а не политзаключенными, хотя уже и сидевшими в концлагерях долгие годы! Однако надо упомянуть одно выступление начальника Соловецкого отделения, очевидно, по инструкции свыше, в котором он ошеломил нас, политзаключенных. В выступлении последовал разнос тех начальников из чекистов, которые потеряли «бдительность» и считают заключенных коммунистов по 58-й статье безупречными своими помощниками, тогда как, по словам начальника, заключенные коммунисты утратили всякое доверие партии к ним уже тем, что заключены в лагерь как контрреволюционеры и потому к ним надо относиться с такой же бдительностью, как и к прочим контрреволюционерам. Это выступление перевернуло все представление о заключенных коммунистах и возможно явилось причиной организации вышеупомянутых курсов, на которые в большинстве были посланы беспартийные «контрреволюционеры», вроде меня. Для комплектования курсов была дана разверстка по предприятиям и учреждениям и от электропредприятий был направлен я. Поскольку эти курсы были для элиты лагеря, занятия на них проводились, хотя и без отрыва от производства, но только два вечера в пятидневку, а не каждый день как на остальных курсах КПТО. В числе курсантов оказались бывшие высшие партийные работники союзных республик, в том числе наркомпрос Белоруссии Балицкий и работники ЦК КП(б) Украины Яворский, о которых я уже рассказывал и на этих курсах с ними познакомился.
Политэкономию, историю партии и диалектический материализм читал нам заключенный коммунист из КВЧ, сидевший по какой-то бытовой статье за жульничество. Лекции его проходили на столь низком идейном уровне, что постоянно морщились не только высшие партийные работники, вроде Балицкого и Яворского, но даже и я, хотя мне уже совершенно было все равно где правда, а где ложь в марксизме. Я очень основательно проходил и политэкономию по учебнику Богданова и диалектический материализм по учебнику Бухарина при получении средне-специального образования и знал марксизм неплохо. Меня удивляли некоторые высказывания и выводы этого лагерного педагога. Возможно эти отступления от ортодоксального марксизма, на котором воспитывалась молодежь десятых и двадцатых годов, объяснялись не столь слабой подготовкой лектора, а приспособлением марксизма к установлению единоличной диктатуры Сталина, необходимостью, не только разрушать капиталистическое общество, копаясь в его слабых сторонах, но, наконец, что-то и созидать, пусть далекое от идеалов октябрьской революции, но что-то более реальное, чем упрощенная нежизненная марксистская система отношений людей между собой. Ведь прошло уже четыре года, как я простился с волей и мне не было известно, как уже в 1932 году, после крушения Бухарина, самого видного и последнего теоретика послеоктябрьского периода, Сталин успел «творчески» переработать даже самые основы марксизма.
Начальник ППЧ Демченко успел прочитать нам вводную лекцию по организации производства, старший плановик ППЧ такую же лекцию о планировании производства. Большая часть курсантов попала на этапы и они были вывезены с Соловков и наш лектор-марксист заявил о своем нежелании заниматься с малочисленной аудиторией оставшихся курсантов и затея с курсами лопнула. Курсы ответ работников, просуществовав не больше месяца, без всякого приказа по Соловецкому отделению закрылись.
НА ОТВЕТРАБОТЕ
На ответработе я оказался совершенно неожиданно для самого себя. Внезапность предстоящего освобождения из концлагеря заведующего электросетями заключенного Зиберта в мае 1932 года, принесло волнение не только ему одному. Заведующий электропредприятиями Боролин был поставлен перед трудной задачей подыскания приемника Зиберта. Соловки были совершенно оголены специалистами, вывезенными перед закрытием навигации на Беломорканал, а поступление новых не предвиделось, так как все «свеженькие» заключенные специалисты задерживались начальством ударной стройки Беломорканала и до Соловков не довозились. На Соловках зимовали фактически только два инженера-электрика – Боролин и Зиберт. Теперь оставался один Боролин, заведующего электросетями инженера не стало. Из всех электриков, работавших на электропредприятиях, самым знающим был мой друг А. У него была закончена нормальная электротехническая профшкола (а не Соловецкие курсы, как у моего другого друга Н. и у меня), он работал электриком еще на воле несколько лет, да и в лагере уже более четырех лет дежурным техником по распределительному щиту электростанции.
А. был самым подходящим кандидатом несмотря на свою молодость (27 лет), в заведующие электросетями из находившихся в распоряжении Боролина кадров электриков. Однако Боролин, зная прямой характер А., проявляемое им полное отсутствие всякого чинопочитания, не хотел его назначения заведующим электросетями, боясь возможности конфликтов с ним при непосредственном подчинении А., ему, Боролину. И Боролин решил использовать меня буфером, между собой и А. в процессе будущей работы, взаимоотношений между заведующим электропредприятиями и электросетями. Боролин вызвал Зиберта и меня и, очень тактично объяснил сложившуюся обстановку, воздав должное моему уживчивому характеру, и предложил мне должность заведующего электросетями. Боролин не переоценивал моих знаний, также как и я сам, но он хотел видеть именно меня заведующим электросетями, рассчитывая на мой такт, уживчивость с людьми, а чтобы не страдало дело и я мог бы справляться успешно с новыми электротехническими обязанностями, Боролин тут же предложил мне перевести на мое место технического контролера моего друга А., который уже в силу дружбы со мной не подведет меня, отдавая делу весь свой высокий уровень знания электротехники.
Получалось копия того, что происходило на воле. Во главе предприятия назначался малосведущий «красный директор», отвечающий за все, а работу вел специалист «технический директор». Я знал верную дружбу А., знал что кто-кто, а он меня не подведет, что вдвоем с ним я справлюсь с заведыванием, но все же стать ответработником в концлагере, да еще в 26 лет, стать начальником старого опытного электрика, да еще вольнонаемного, заведующего электромонтажной мастерской Тарвойна, тут было от чего испугаться и над чем призадуматься. Зиберт и Тарвойн приветствовали выбор сделанный Боролиным и предполагаемое перемещение А. и мне оставалось только согласиться, чему искренно обрадовался Боролин.
Так я поднялся еще на одну ступеньку административно-технической строго иерархической лестницы концлагеря, твердо став в ряды элиты заключенных, в которых я и оставался, несмотря на все опасные ситуации, встречавшиеся на моем пути, до освобождения из концлагеря, занимая инженерные должности.
Моя кандидатура, по представлению Боролина, вопреки постановления СНК от 1930 года, была утверждена начальником Соловецкого отделения концлагеря, и, при отправке Зиберта на материк, я принял от него заведывание электросетями Кремлевской электростанции. Через несколько дней, после отправки Зиберта, вся хитроумная комбинация Боролина неожиданно лопнула: досрочно освободился из концлагеря мой друг А., мой «технический директор», которого еще не успели перевести из электрометаллроты на жительство в управление электросетей.
В радости за досрочное освобождение друга я как-то особенно не вспомнил об исчезнувшей моей технической опоре; но Боролин явно струсил и стал меня утешать, заверив меня в своей повседневной помощи мне, в чем я и не сомневался. И пока Боролин был на Соловках это каждодневное руководство мной, разрешение за меня сложных электротехнических проблем я все время ощущал на себе.
С отправкой на волю А., встал вопрос о кандидатуре технического контролера электросетей. Хорошим спутником мне во всех отношениях был бы юноша Н., хотя и тоже доморощенный электротехник, но обладавший познаниями больше моих. Он работал дежурным техником по распределительному щиту электростанции и я вполне сознавал бесполезность моей просьбы у Боролина, перевести Н. в контролеры электросетей, поскольку тогда на электростанции не стало бы сразу двух дежурных (имея в виду и освободившегося А.). Я решил опереться на моего нового друга, работавшего дежурным по электросетям монтером, бортмеханика морской авиации, заключенного Васю Углова, на твердость его характера. В новом положении заведующего мне очень важно было чувствовать на моем участке работы локоть верного друга, который не подведет в тяжелую минуту, и таковым, насколько я уже успел изучить Васю, был именно он. Способный и сообразительный, под моим руководством, Углов мог быстро стать и ценным моим помощником в чисто электротехнических делах. Тарвойн одобрил мою кандидатуру, Боролин согласился, радуясь, что я не просил у него Н., не оголил окончательно распределительный щит электростанции.
Трудолюбивый Углов одновременно оставил за собой функции дежурного монтера по электросетям. Шапиро быстро переехал на освободившийся деревянный диван в комнате управления электросетей, стал жить не в роте, а в одной комнате со мной. Иметь всегда под рукой обоих контролеров электросетей было для меня тоже ценно. В бывшем домике ДСБ все четверо нас проживавших, в том числе даже и Лифантов оказались объединены какой-то дружбой, которая очень облегчала мне, в особенности на первых порах, заведывание электросетями, первые шаги административной деятельности в моей жизни. Со стороны сложившаяся обстановка могла показаться парадоксом, так как по возрасту самым старшим был Лифантов, затем Углов, потом Шапиро и самым младшим был я, их начальник. Хорошие взаимоотношения установились у меня и с вольнонаемным Тарвойном и линейными электромонтерами, непосредственно подчинявшиеся ему. Возможно этому содействовало мое обхождение с заключенными при моей работе контролером. Принимая электропроводку после работ по моим сметам и, находя не соответствие с проектом, я никогда не раздувал оплошностей работавших на этом объекте электромонтеров, чтоб не делать им неприятностей, не доводил до сведения Тарвойна, а тем более Зиберта, чтоб не делать неприятностей и Тарвойну, а только указывал работавшим электромонтерам и не считал за труд произвести приемку проводки вторично, когда все уже было сделано по моим указаниям и соответствовало электротехническим нормам. Я знал что старые электромонтеры предупреждали новеньких о выполнении самым тщательным образом работ по моим проектам и сметам и постепенно мне все реже приходилось производить приемку работ дважды. В прочих взаимоотношениях с окружавшими меня заключенными я всегда ставил себя на равную ногу с ними, независимо от полученной ими статьи уголовного кодекса, их культурного развития, всегда помня о равенстве всех людей.
Такую тактику я продолжал и после назначения меня заведующим электросетями, облекая распоряжения в форму дружеской просьбы и, лишь в исключительных случаях прибегая к команде. Хорошее обращение с подчиненными, как равного с равным, наряду с большой требовательностью в исполнении ими своих обязанностей на высоком уровне и пресечения всякой тени подхалимства были и в дальнейшем основой моей деятельности на административных должностях, занимаемых мною впоследствии и очень облегчали мне работу на ответственных постах, поскольку подчиненные за такое мое отношение к ним работали не за страх, а за совесть, чтобы не подвести меня и не наделать мне неприятностей из-за своей небрежности. При переводе меня с одной должности на другую возглавляемые мною коллективы всегда искренно жалели о моем переводе. Мне запомнилось высказывание одного заключенного-бытовика, когда я был переведен из заведующих Кемской электростанцией на Медвежью гору. Угрюмый и замкнутый, узнав о моей переброске, он вдруг обрел дар речи и, обращаясь к другим заключенным, моим подчиненным, сказал: «Нет, такого начальника, я не встречал и не встречу в лагерях!». Это было высшей похвалой мне, как администратору и человеку, похвалой, которой я никак не ожидал, никогда не анализируя свой ненадменный стиль руководства.
Итак, в новой для меня, и притом инженерной, должности, с помощью Боролина и возглавляемого мною коллектива, я понемногу осваивался и даже перестал трусить перед выпавшей для меня ответственностью. Углов довольно быстро, как я и предполагал, освоился с контролем работы электромоторов на предприятиях, а со сметами на переоборудование электропроводки по заявкам я справлялся и один, так как заявок поступало все меньше – Соловецкое отделение приходило в упадок.
Большой встряской нервов и проверкой моих знаний был большой Соловецкий пожар, о котором я расскажу потом подробней, но самой большой свалившейся на меня неприятностью был перевод в г. Кемь в конце лета 1932 года моего наставника и опекуна Боролина, который все и всегда за меня знал и за спиной которого мне нечего было опасаться.
Вместо Боролина заведующим Электропредприятиями был назначен артиллерийский офицер Русской армии, инженер-технолог по взрывчатым веществам, заключенный Гейфель, недавно посаженный в концлагерь по 58 статье на десять лет, которыми ему был заменен расстрел по первоначальному приговору. Не оправившийся от ужасов следствия, приговора и этапов, он абсолютно не мог на первых порах руководить электропредприятиями. Такая пассивность Гейфеля объяснялась еще, возможно, и тем, что он не был инженером-электриком, а потому он знал электротехнику в пределах, полагающихся знать инженеру не электротехнической специальности. Я попал в глупое положение, почувствовав это сразу же с первого доклада Гейфелю. Если Боролин знал меня, как доморощенного электрика, с ограниченными знаниями, приобретенными на Соловках, то Гейфель познакомился со мной, как с заведующим электросетями. Со мной он с первым, из заведующих электропредприятий, стал почти на равную ногу, заявив, что в отношении всей чистой электротехники, включая динамо-машины электростанции (к которым я по должности не имел никакого отношения), он всецело рассчитывал на меня. В глазах Гейфеля я оказался единственным и притом высшим авторитетом по электротехнике на Соловках. Отныне мне приходилось вариться в собственном соку, рассчитывать только на свои знания, не будучи инженером на инженерной должности. Положение к этому времени еще усугублялось и тем обстоятельством, что электросети, в том числе и внутренняя электропроводка, требовали, если не капитального, то хотя бы текущего ремонта, а проводов и установочного материала абсолютно не завозили на Соловки – все забирал Белбалтлаг, а доходившие до Кеми крохи распределялись Управлением СЛАГа по разраставшимся отделениям концлагеря на материке, в то время как Соловецкое отделение в производственном отношении забывалось. Если во время моей работы в кладовой, последняя ломилась от всяких материалов, спрос на которых со стороны только начавшихся строиться объектов первой пятилетки был не столь велик, а львиную долю продукции промышленности забирало ОГПУ для единственного тогда в стране Соловецкого концлагеря на Соловецких островах, то теперь Тарвойну для ремонта приходилось сращивать обрывки проводов из утиля, а вместо промышленных фарфоровых роликов ставить глиняные, обожженные на Соловецком кирпичном заводе. Отвечать за бесперебойную работу ремонтируемых таким способом электросетей становилось далеко не безопасно. Если Боролин со всем своим огромным авторитетом не мог добиться ни метра нового провода, ни одной электрической лампочки, то на Гейфеля и подавно у меня не было никакой надежды.
Не успел Боролин сесть в Кеми в кресло главного механика СЛАГа, как я лишился обоих контролеров. Углова, как бортмеханика авиации, забрали на гидродром для обслуживания на воде гидросамолета, а Шапиро взяли на этап и отправили досиживать срок на материке. Одновременно из электромонтажной мастерской забрали вместе с Шапиро и отправили на материк двух лучших электромонтеров Корча и Горкушу, молодых людей с Украины, обоих сидевших по 58 статье со сроком по десять лет. Тарвойн буквально взвыл, лишившись этих электромонтеров, в такой же степени и мне было не легче, потому что я отвечал и за электромонтажную мастерскую. Положение ответработников на средних ступенях административно-технической лестницы в области подбора кадров своих подчиненных было значительно сложнее, чем заведующих производствами, так как УРЧ при комплектовании этапов совершенно не считалось с ними и ставила нас перед совершившимся фактом. Гейфеля при комплектовании этапов, как и других заведующих хоть вызывали в УРЧ для согласования намеченных к отправке заключенных и споря до хрипоты, заведующим удавалось отстаивать своих работников. Гейфель знал по фамилиям персонал электростанции, но он не мог помнить всех работников электросетей, телефонной станции, электромеханической мастерской, чем и пользовались в УРЧ и обирали нас – заведующих служб предприятий.
Обрисовав на очередном докладе Гейфелю создавшееся положение, я прямо указал на юношу Н., как на единственного кандидата, который мог восполнить потерю сразу двух контролеров. Не знаю чтобы сделал Боролин, потому что и на распределительном щите электростанции из четырех дежурных Н. был самый знающий, но Гейфель, который неизменно во всем всегда со мной соглашался, немедленно перевел Н. ко мне в контролеры электросетей. От масленщика электростанции, через моториста у электромотора мельницы, дежурного электрика у распределительного щита электростанции Н. дошел до контролера электросетей, а затем, после вывода меня на материк, он стал и заведующим электросетями Соловецкого острова. Такова была карьера, такого же Соловецкого самоучки, как и я, этого способного юноши. Н. перевели из роты на жительство ко мне в комнату на диван, занимавшейся Шапиро. На топчан Углова из роты переселили Шаранкова, переведенного в дежурные по электросети монтеры.
Н. стоил больше всех бывших контролеров вместе взятых не только по знаниям, которые были выше моих, но и по работоспособности и исполнительности. Поговорив с ним, мы решили второго контролера не искать, чтобы не усугублять вопрос нехватки кадров электриков, и справиться с работой вдвоем. Положение в электросетях удалось стабилизировать еще и поступлением в электромонтажную мастерскую недавно посаженного в концлагерь одного опытного электромонтера, но неразрешенный вопрос с электроматериалами продолжал висеть Дамокловым мечом над моей головой.
Обеспечение электросетей таким знающим электротехником, как Н., болезненно отозвалось на работе самой электростанции. Взятый вместо Н. интеллигентный молодой человек, посаженный по 58 статье на десять лет и недавно привезенный на Соловки, оказался «не на высоте». На воле он работал механиком по ремонту ткацких станков в Иванове и если знал электромоторы, то в динамо-машинах разбирался слабо. Правда, вскоре, освоившись, он стал квалифицированным дежурным по распределительному щиту, но в одно из своих первых дежурств он допустил грубую ошибку. Мы с Гейфелем были в театре и наслаждались концертом, даваемым заключенными артистами в порядке самодеятельности. Внезапно потух свет и испуганный голос осветителя, одного из монтеров, дал нам знать о выключении электроэнергии электростанцией. Освещая путь фонариками в панике из зала ринулось начальство, вскочил и Гейфель, попросив меня бежать с ним на электростанцию. Погруженный в темноту кремль казался еще мрачнее. Восточные ворота сразу же были заперты и нам стоило большого труда при помощи наших удостоверений доказать командиру охраны ворот необходимость пропустить нас за Кремль на электростанцию. Гейфель развил скорость не по своим летам и я еле поспевал за ним. Уже подбегая к электростанции мы поняли по вспыхивающим и гаснущим огням, что в машинном зале творится что-то неладное. Вбежав в машинный зал, мы увидели растерявшегося ткацкого механика, метавшегося от звонившего телефона к распределительному щиту, на котором он тщетно пытался включить сетевые рубильники. Каждый раз срабатывал автомат максимального тока, защищая единственную работавшую пародинамо от чрезмерной нагрузки в сети. Вторая пародинамо при запуске не давала напряжения. Немедленно запустили гидротурбину, включив фидера управления лагеря, казармы войск ОГПУ и наружное освещение концлагеря, чтобы уменьшить скандал и возмездие. Гейфель позвонил начальнику Соловецкого отделения о принятии мер по устранению неполадок. Запустив еще несколько раз вторую пародинамо, мы окончательно убедились в ее неисправности – напряжения она не давала и восстановить полностью освещение концлагеря не представлялось возможным.
Время шло, Гейфель растерянно и с надеждой смотрел на меня. А что мог сделать я, как найти неисправность, какой я был инженер-электрик? Вихрем неслись у меня в мозгу лекции Боролина по динамо-машинам. Я старался вспомнить все, что он нам говорил и вдруг меня осенила мысль. Боролин не раз подчеркивал особенность динамо-компаунд, то есть динамо со смешанной обмоткой возбуждения, которые были установлены на кремлевской электростанции. А это значило, что если дежурный не выждал времени, нужного для развития полных оборотов пародинамо при ее запуске и поторопился включить ее на шины распределительного щита, пародинамо не дав напряжения выше сетевого, сама взяла на себя мощность работавшей пародинамы и обратным током на ней были размагничены ее полюса возбуждения. Возможно причину аварии сразу бы сообразил Н., и не только он, но и другие, менее опытные дежурные по распределительному щиту, но я лично не работал у распределительного щита и эта мысль не сразу пришла мне в голову. Дежурный подтвердил включение пародинамы на малых оборотах, при проверке стрелкой компаса в полюсах остаточного магнетизма не оказалось – причина аварии была определена мною правильно. Обмотку возбуждения подключили в соответствующей полярности к шинам распределительного щита, намагнитили током полюса, снова присоединили обмотку возбуждения, запустили пародинаму и она дала ток. Аварию ликвидировали за полтора часа и электростанция заработала на полную мощность. Этот случай окончательно убедил, хотя Гейфель и раньше нисколько не сомневался, в высоких моих познаниях в электротехнике, закрепив за мной неофициальное звание «главного» электрика на Соловках. Этот случай повлиял на мою дальнейшую карьеру на материке, на рекомендацию Гейфелем меня на должность заведующего Кемской электростанцией.
Не прошло и месяца с укрепления электросети переводом ко мне контролером Н., как на меня обрушился новый удар по линии кадров. Борьба с лагерным бандитизмом не давала никаких результатов и распоясавшиеся «социально-близкие» уголовники стали планомерно обворовывать квартиры высшего лагерного начальства, которое было вынуждено покинуть свои коттеджи и сгрудиться с остальными вольнонаемными, в том числе и гражданскими, в одно общежитие, под которое был отведен второй этаж здания управления Соловецкого отделения, бывший большой гостиницы для паломников, где помещались фешенебельные номера с высокими потолками. Усиленные наряды дивизиона войск ОГПУ круглосуточно оберегали общежитие от воров, начальство поднималось в служебные кабинеты по внутренней лестнице, не высовывая нос наружу – перешло от атаки на лагерных бандитов к пассивной обороне. В это общежитие был переселен из другой гостиницы и Тарвойн. Общежитие приняло вид коммунальной квартиры с бесчисленным количеством хозяек на одной кухне, где то и дело возникали ссоры между высокопоставленными дамами. Бывшая уголовница, жена Тарвойна, никогда не занимавшаяся домашним хозяйством, но вынужденная в сложившейся обстановке готовить обед также на общей кухне, особо отличалась своим задиристым характером, вечно ругаясь со всеми остальными хозяйками набором, недоступным даже мужчинам-уголовникам, нецензурной брани. Кульминационным пунктом этих ссор явился брошенный женой Тарвойна в жену начальника Соловецкого отделения Солодухина горящий примус. За ожогом начальницы острова последовала высылка с Соловков Тарвойна. Его немедленно, вместе с хулиганствующей половиной, вызванные солдаты взяли в охапку и сунули на отходивший пароход. Я остался без заведующего электромонтажной мастерской.
С Гейфелем мы всячески прикидывали кого бы назначить вместо Тарвойна, но подходящей кандидатуры не находили. На третий день после отправки Тарвойна, с веселым приветствием, как к хорошему знакомому, явилась ко мне бывшая заключенная, бандитка Лемтюгина и торжествующе положила мне на стол приказ начальника Соловецкого отделения концлагеря Солодухина о ее назначении вольнонаемной заведующей электромонтажной мастерской. Я давно отвык удивляться и возмущаться, но тут моему удивлению и возмущению, которые я тщательно скрыл под притворной улыбкой, не было конца. Чтобы понять мою реакцию на приказ Солодухина, надо сделать отступление для характеристики этой особы. Лет тридцати, с большим шрамом через весь нос от, очевидно, полученной ею ножевой раны при очередной драке в каком-нибудь уголовном шалмане, совсем безграмотная, едва умевшая подписывать свою фамилию, и то не полностью, Лемтюгина была прислана, будучи заключенной-уголовницей, ученицей в электромонтажную мастерскую в 1931 году. Никому точно не было известно насколько успешно она овладевает специальностью электромонтера, но все знали как эта дама (у нее была девочка лет пяти в лагерном детском доме для детей родившихся у заключенных женщин в лагере) предпочитала работать с монтерами на линиях электропередач, проходящих по лесным просекам. Проще говоря, она была марухой всех монтеров уголовников. Освобожденная досрочно после большого соловецкого пожара в начале августа 1932 года, Лемтюгина тут же вышла замуж за командира отделения войск ОГПУ, который и «продвинул» свою благоверную на заведывание электромонтажной мастерской.
Излишне говорить, что всю работу по заведыванию электромонтажной мастерской пришлось вести мне, начиная от выписки нарядов и кончая наблюдением за процессом производства работ. Хотя из-за отсутствия материалов объем ремонтных работ и переоборудование электропроводки пришлось очень сократить, все же мне трудно приходилось всюду поспевать. К чести Лемтюгиной, не лишенной природного ума, она прекрасно сознавала свою неспособность заведующей и по крайней мере не вмешивалась в работу по заведыванию мастерской и не выставляла своего я. Чаще всего она появлялась в мастерской только утром подписывать наряды и раздавать электромонтерам инструмент, а остальной день проводила дома в общежитии для комсостава войск ОГПУ, куда иной раз мне приходилось к ней ходить для срочной подписи какого-либо документа. Муж Лемтюгиной, простой крестьянский парень из Вятской области, как-то признавшийся мне, что грамоте он был обучен только на действительной службе в войсках ОГПУ, когда я заставал его дома, относился ко мне с большой предупредительностью, отлично сознавая за чей труд идет зарплата в его семью. Единственным и постоянным пунктом раздоров у меня с Лемтюгиной был вопрос подбора электромонтеров. С квалифицированными кадрами низшего звена ощущалась такая же острая нехватка, как и инженерно-техническим персоналом в конце 1932 и 1933 годах. Уголовники, в основном несовершеннолетние-штрафники, учившиеся на курсах электромонтеров, заведывание которыми я принял от Зиберта, а также и преподавание на них, не становились квалифицированными электромонтерами. Когда на зимовку 1932-33 годов на Соловки стал флагман лагерного флота новый «Глеб Бокий» в три тысячи тонн водоизмещения, и стал вопрос о ремонте на нем электропроводки, на эту работу некого было послать. Вдвоем с Н. мы в течение зимы, работая по два-три часа в день монтерами, сами произвели весь ремонт. А Лемтюгину, как магнитом, тянуло к уголовникам и последние, абсолютно не смыслившие в монтерском деле, то и дело появлялись в штате электромонтажной мастерской. Чтобы избавиться от этих бездельников надо было преодолевать сильное сопротивление Лемтюгиной. Правда она энергично поддерживала дисциплину среди своей шпаны, осыпая их нецензурной бранью, а несовершеннолетних уголовников, физически послабее, она подчиняла и кулачным боем.
Такое «двоевластие» в электромонтажной мастерской длилось около семи месяцев и закончилось с открытием навигации 1933 года, когда мужа Лемтюгиной перевели с Соловков и она уехала вместе с ним, положив себе в карман кругленькую сумму за заведывание (образец эксплуатации человека человеком по-советски). Я не стал искать нового заведующего электромонтажной мастерской и взял его обязанности на себя, по совместительству. С момента выбытия Тарвойна я и так нес эту двойную нагрузку, а без Лемтюгиной стало даже легче.
В начале декабря 1932 года произошла новая смена моего непосредственного начальства. Вместо переброшенного в Управление СЛАГа, в Кемь, Гейфеля, заведующим электропредприятиями был назначен работавший ранее на Судоремонтном заводе, заключенный штабс-капитан, инженер-механик Русского флота и флагманский механик Красного Черноморского флота, симпатичнейший Василий Иванович Пестов. Как судовой инженер-механик он прекрасно разбирался в пародинамах стоящих на Кремлевской электростанции, поскольку они были сняты с какого-то корабля и от меня отпала опека над ними. На первом же докладе я обрисовал Пестову катастрофическое положение с электроматериалами и электролампочками. Пестов доложил начальнику Соловецкого отделения и тот отправил его в командировку в УСЛАГ за материалами. Пестова отправили под конвоем с солдатом войск ОГПУ. Исполняющим обязанности заведующего Электропредприятиями на время командировки Пестова начальник Соловецкого отделения назначил меня. Я перебрался в тот самый кабинет электростанции, куда в первые месяцы моей работы на предприятии меня дружески к себе приглашал заведующий «Электро» заключенный инженер Миткевич, меня, тогда простого рабочего кладовой. За три года заключения от рабочего кладовой, не имевшего никакой технической специальности, до и.о. заведующего электропредприятиями проделан был путь немалый, притом же от роду мне было только 27 лет. В этом была не столько моя личная заслуга, сколько результат воспитания меня родителями в демократических принципах и забота обо мне инженеров Миткевича и Боролина. Спасибо им!
-------------------------------------------
Миткевич Эдуард Константинович родился в 1878 году в Смоленске. Образование: высшее, беспартийный, старший инженер Центрального отдела электрификации ж.д. Наркомата путей сообщения СССР. Арестован в 1928 году. На Соловках заведовал электропредприятиями Соловецкого лагеря. В 1930 году был продан ОГПУ в Ташкент на должность заведующего трамвайной электростанцией.
В середине 1930-х проживал Московская обл.,:платф. Челюскинская Ярославской ж. д., ул. Октябрьская, д.4.
Арестован 17 октября 1937 года. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению вконтрреволюционной деятельности. Приговорен к расстрелу 7 февраля 1938 года. Приговор приведен в исполнение 8 февраля 1938 года. Место захоронения Бутово-Коммунарка.
-------------------------------------------
Боролин Павел Васильевич, 1890 г. р., уроженец Ново-Стрелецкой слободы Пронского у. Рязанской губ., русский, беспартийный, инженер бюро Днепростроя, проживал: г. Ленинград, 3-я Советская ул., д. 7. Арестован 15 ноября 1929 г.; обв.: шпионаж и вредительская деятельность. Постановлением Коллегии ОГПУ 23 июня 1930 г. приговорен к ВМН; постановлением Коллегии ОГПУ 13 января 1931 г. расстрел заменен заключением в концлагерь на 10 лет.
Волгострой НКВД СССР, гидроузел, Начальник Угличского отделения. Проживал: Ярославская обл., Угличский р-н.
Арестован 14 февраля 1938 г. Приговорен: Комисс.НКВД и прокур. 15 мая 1938 г.
Приговор: ВМН. Расстрелян 16 июня 1938 г.
ПОЖАР (1)
Пожар страшное явление, в течение короткого времени уничтожающее плоды многолетнего труда человека, приносящее потерю материальных ценностей, а иногда и стоящее человеческих жизней. В истории развития человечества есть какая-то роковая закономерность. Все великие открытия служащие на пользу цивилизации, развитию человека, одновременно приносят им и неотвратимый вред так получилось с добычей огня, с расщеплением атома. Открытие огня по праву считается началом цивилизации и тот же огонь по неосторожности или в руках злоумышленника приносит человеку неисчислимый вред. Расщепленный атом сулит колоссальное повышение производительности труда, и в то же время атомная бомба уничтожит не только цивилизацию, но и само существование всего живого на земле.
Пожар в советской стране еще более грозное бедствие, причиняющее не только гибель материальных средств с возможно человеческими жертвами погибающими в огне, но и несущее страдания и смерть совершенно невинным людям после пожара. По марксистской схеме классовой борьбы каждый пожар, каждое малейшее появление огня рассматривается как поджог, и не просто поджог, а диверсионный акт со стороны так называемого классового врага, агентов международного империализма. Диверсионный акт наказуется 58-й статьей, пункт 9, и «виновные» без судебного разбирательства приговаривались ОГПУ к расстрелу. «Виновных» находили очень легко, арестовывая работавших на воспламенившимся объекте, поблизости проживающих, просто случайно находившихся в районе пожара. Следователи ОГПУ быстро фабриковали дело, получая за это повышения и награды. Ведь кровь невинных чего-то стоила!
Такую же систему «бдительности» проводили чекисты и в концлагерях. После пожара лагерных складов ваты на 90-м пикете в г. Кеми, возникшем в декабре 1934 года от искры маневрового паровоза НКПС, был расстрелян начальник пожарной охраны г. Кеми заключенный офицер Русской армии Клодзинский, отсидевший в концлагере по 58 статье почти все десять лет и находившийся на пороге освобождения. Большое число заключенных пожарных и заключенные кладовщики получили внушительные дополнительные сроки с отправкой на штрафные работы на лесозаготовки за проволоку. После пожара на электростанции Мебельной фабрики лагпункта «Вегеракша» в Кеми осенью 1933 года заведующий электростанцией и дежурные смены также получили большие дополнительные сроки заключения с отправкой на штрафные работы. Аналогично дополнительный срок получил заведующий сельхозом в Повенецком отделении Белбалтлага в январе 1936 года офицер Русской армии, служивший в Красной армии начальником Противовоздушной обороны Ленинграда заключенный комбриг барон фон Притвиц, сидевший по 58 статье сроком на десять лет, за загорание ночью оранжереи при сильном морозе. Легче отделался комендант увеселительного заведения «Вой-губа» Повенецкого отделения, куда начальство из Управления Белбалтлага приезжало веселиться с заключенными женщинами. Комендант Жабонос получил только три года дополнительного срока, поскольку он был не политзаключенный, а бытовик, хотя большое двухэтажное здание сгорело дотла в морозную февральскую ночь 1936 года.
«Пожар, - разбудил меня в шестом часу утра дежуривший по электросетям Углов, - Кремль горит»! Я немедленно вскочил и распахнул окно на восток, в сторону Кремля. Стояло прекрасное солнечное утро конца июля 1932 года. На небе не было ни одного облачка, горизонт был затянут дымкой, такой дымкой, которая бывает в знойное степное лето. Уже около двух месяцев стояло редкое для Соловков почти знойное лето без единого дождя и воздух вполне прогрелся устойчивым юго-восточным сухим ветром дувшим без перерыва почти все лето с неослабеваемой силой. Уже некоторое время на Летнем берегу материка горели большие массивы тайги и воздух был пропитан гарью, которая переносилась через шестидесятикилометровую водную преграду и создавала ту видимую дымку, которую можно было принять за знойный воздух южных степей. На самом Соловецком острове возникали торфяные пожары, добавляя едкой гари в атмосферу над островом. Над Кремлем вился небольшой дымок в районе восточной части Преображенского собора, где размещался деревообрабатывающий цех Фабрики ширпотреба. По телефону я передал распоряжение дневальному электрометаллроты поднять всех линейных электромонтеров и прислать их в электромонтажную мастерскую. Не успели еще мы с контролерами разложить инструмент, как линейные монтеры уже были в мастерской, пробежав бегом больше километра от барака. Тут сказалось их отношение ко мне. Они восприняли столь ранний подъем не как издевательство над ними с моей стороны, а как срочную необходимость помощи мне, хотя еще и не знали причину побудившую меня прервать их сон. Подоспел Тарвойн, электромонтеры быстро разобрали инструмент и, оставив на дежурстве Лифантова, мы бегом, включая обоих контролеров, помчались к Восточным воротам кремля, единственному входу в него, чтоб спасти от огня электрооборудование Фабрики ширпотреба.
Ворота оказались заперты и охрана ворот категорически отказалась нас пропустить. Нам дорога была каждая секунда, пожар не ждал нас, но напрасно Тарвойн (ему, как вольнонаемному, я предоставил объясняться с охраной) доказывал сочную необходимость нашего присутствия на пожаре, солдаты войск ОГПУ продолжали оставаться непреклонными.
Изоляция масс заключенных при каком-либо происшествии в концлагере была характерной чертой отношения чекистов к подневольным рабам. Чекисты до смерти боялись всякого проявления какой-либо инициативы со стороны заключенных, каких-либо действий масс без заранее строго-продуманного организационного плана и только под руководством свыше. Чекисты всегда боялись, как бы проявленная заключенными инициатива в помощь лагерному начальству не переросла бы в бунт рабов против надсмотрщиков. Лучше все пусть сгорит, рассуждало начальство, но чтобы заключенные сидели под замком и стихийно не приняли бы участие в тушении пожара.
Тарвойн сбегал в Сельхоз, оттуда позвонил начальнику Соловецкого отделения концлагеря и тот согласился пропустить нас в Кремль, отдав распоряжение командиру отделения сторожившему ворота. Мы подбежали к Преображенскому собору. Крыша пристройки собора, соединяющей его с деревянной крышей восточной стены Кремля была уже объята пламенем, языки пламени вырывались из-под стрехи крыши собора и из окон магазина для заключенных, находившегося в пристройке.
Паровая пожарная помпа качала вовсю, но тоненька струйка воды из брандспойта едва достигала середины окон собора. Медный котел помпы был начищен до блеска, на нем латинскими буквами ясно было видно наименование английской фирмы и год выпуска «1888 год». Это был ценный экспонат для музея истории техники, но как средство тушения пожара он был безусловно непригодным. Да и что могли сделать со стихией огня шесть пожарников, оставшихся в штате пожарной команды, после многочисленных сокращений административно-хозяйственных расходов концлагеря? Пожарники лезли в огонь с топориками, рискуя жизнью, но неподержанные никакой техникой (не было даже ручных огнетушителей) все их геройство было бесполезно. Главное не было воды наверху в очаге пожара. Можно было бы организовать цепочкой подачу воды ведрами на крышу (заключенных для этого хватило бы) но, опять таки, это было бы сделано с участием масс заключенных, а их, как раз, предпочитали держать под замком. Бушующий огонь созерцало, стоя в отдалении, все чекистское начальство лагеря. Также неподвижно стояли солдаты и комсостав дивизиона войск ОГПУ, оцепив горящий собор. Сновали лишь оперативники 3-й части (ИСЧ), занятые не тушением пожара, а попыткой задержать неизвестных еще «поджигателей-диверсантов». Единственным шагом, который был предпринят для локализации пожара, было распоряжение чекиста начальника Кремлевского лагпункта заведующему Электропредприятиями … выключить весь Кремль, чтобы, как он пояснил, «огонь не распространился бы по электрическим проводам». Гейфелю стоило немалых усилий, чтоб разъяснить невежественному начальнику абсурдность его опасений и добиться отмены его распоряжения. Как раз наличие электрического освещения в горящем соборе, куда мы ворвались сходу очень помогло нам спасти электрооборудование и вообще все оборудование цеха. Через вентиляционные каналы пробитые в сводах собора огонь с крыши распространился на пиломатериалы и полуобработанные детали продукции и внутри помещения было уже много дыма, сквозь который, давая кое какое освещение красным светом поблескивали мощные электролампы. Внутри собора уже была бригада заключенных ремонтников, механиков и слесарей, цеха, которые демонтировали оборудование для эвакуации из горящего помещения. Несмотря на дым и огонь нам удалось снять и вытащить из цеха все электромоторы, распределительные щитки, реостаты и даже несколько мощных электроламп, откусив их с патронами. Мы помогли и ремонтникам снять с фундаментов станки, со стен трансмиссии и все вытащить во двор подальше от горящего здания. Последнее оборудование пришлось вытаскивать в сплошном дыму, под осколками лопавшихся от жары оконных стекол, через горящие рейки и стружку. К счастью никто ожогов и ранений не получил. Все мои подчиненные работали превосходно, самоотверженно, притом очень слаженно и без всяких понуканий. Среди электромонтеров сновала ученица электромонтажной мастерской заключенная-уголовница Лемтюгина. Она визжала, путалась в ногах, подкладывала невпопад катки под выволакиваемые электромоторы. Я ее не вызывал на пожар и был удивлен ее появлением, так как из женбарака выбраться без вызова было совершенно невозможно. Своим криком и визгом Лемтюгина привлекла к себе внимание начальника Соловецкого отделения концлагеря Чалова, он записал ее фамилию и, каково же было наше удивление, когда через некоторое время после пожара, Лемтюгина «за самоотверженное спасение оборудования на пожаре», как было сказано в приказе по СЛАГу, коллегия ОГПУ освободила ее из заключения досрочно. Никто больше никаких поощрений не получил, ведь мы были не уголовники, а политзаключенные. Не получил никакого поощрения и вольнонаемный Тарвойн, потому что он был хоть и бывший, но все же политзаключенный, а 58 статья это такое пятно на человеке, которое не смывается никаким подвигом и сопутствует ему на протяжении всей жизни и даже за гробом.
Удачное спасение электрооборудования из горящего собора давало мне некоторую надежду на уменьшение моей «вины» в пожаре, потому что с первого слова «пожар», когда меня разбудил Углов, я уже чувствовал себя обвиняемым, а, следовательно и приговоренным по делу о пожаре. Мне превосходно уже тогда была известна схема бдительного мышления чекистов о диверсионном акте со стороны классовых врагов и я знал, что «виновные» обязательно будут «найдены». Легче всего причину возникновения пожара «установить» в неисправности электропроводки и приписать такое ее состояние умышленной воле политзаключенного заведующего электросетями, в должности которого, к несчастью, состоял я, хотя только в течение неполных двух месяцев. Эта мысль неотступно следовала за мной с самого начала сборов в электромонтажной мастерской и каждый раз, когда на пожаре оперативник 3-й части (ИСЧ) проходил, не задерживаясь мимо меня, я мысленно благодарил Создателя, что это еще не за мной – пронесло! В то же время моя мысль упорно работала, как попытаться доказать на ожидавших меня допросах свою невинность, отсутствие с моей стороны даже малейшей халатности в наблюдении за исправностью электропроводки. Внезапно я вспомнил о журнале записей проверки плавких вставок в предохранителях контролерами. Этот журнал мог быть большим козырем в моей уже воображаемой защите не допросах. «Но все ли в нем записано?», - усомнился я. С быстрыми и неожиданными переменами в штате электросетей – отправки Зиберта, освобождения А., моего назначения, назначения нового контролера Углова – журнал мог быть забыт и, хотя Шапиро и Углов безусловно этой работы не оставляли, могли записей и не произвести. Ведь «слов к делу не пришьешь»! Если записей нет, чем докажешь следователю факт регулярной проверки предохранителей? Я отозвал Шапиро в сторону и, объяснив ему мои сомнения, попросил его немедленно уйти в управление электросетей и привести в порядок журнал. Ему единственному я мог поручить эту деликатную работу. Сообразительный, он почти без слов меня понял какая опасность грозит и ему, как контролеру за непроверку предохранителей. Вечером я просмотрел журнал и пришел в восторг, как выглядело в нем все правдоподобно и показывало работу контролеров с лучшей стороны. Шапиро умел подать товар лицом.
Отослал я Шапиро с пожара еще и по другой причине. В каждом человеке, не еврейской национальности, где-то глубоко подсознательно заложен антисемитизм, независимо от его политических убеждений, воспитания, среды, в которой он находится. Этот антисемитизм может вырваться без всякого желания в минуты большого раздражения, когда человек слабее управляет собой. Я видел как начальники обозлены пожаром, как сами они боятся последствий для себя, а потому ежесекундно можно было ожидать от них здесь же на пожаре какой-либо дикой выходки, разрядку их гнева на ком-либо из подвернувшихся под руку заключенных. Шапиро, хотя может быть только и на немного меньше чем остальные заключенные, был истощен, худ и костляв, но широкое строение лицевой части черепа имитировало его упитанность, что само по себе, в придачу к типичным еврейским чертам его лица, могло вызвать ненависть и гнев начальства, попади он в поле их зрения. Спасал я не только самого Шапиро, но и себя и всех заключенных электросетей, потому что Шапиро был контролер и по детонации взрыв гнева обрушившегося на Шапиро не пощадил бы и нас. Словом не надо было рисковать привлечением внимания начальства на себя. Третья, уже не предусмотренная мною, польза отсылки Шапиро с пожара оказалась наиболее реальной. В отсутствие на вызове дежурного электромонтера Лифантова, Шапиро находился в здании управления сетями, здание оставалось беспризорным, и Шапиро потушил несколько головней долетевших до нашего домика.
Сильный юго-восточный ветер, еще усилившийся при пожаре, далеко нес искры и даже головешки, устилая ими не только крыши кремлевских построек и двор Кремля, но занося их в западном направлении далеко за Кремль. Несколько раз загорался настил пристани и несколько деревянных построек за Кремлем и окружавшие их заборы. Огонь перекинулся с Собора на главную колокольню, где нашел себе богатую пищу. В колокольне была сушилка пиломатериалов, которые запылали гигантским костром. Прямая опасность грозила соседнему Собору, где был цех кукол Фабрики ширпотреба. Пристройка этого Собора, выходящая к пылающему очагу пожара была крыта толью и могла загореться от одной искры, от нестерпимого жара, пышущего от горящей колокольни. На крыше пристройки одиноко маячила с метлой в руках фигура заведующего кукольным цехом, моего «однодельца», киевского студента-художника, чеха по национальности, Петраша.
Он ходил по крыше размеренным шагом под градом головешек и искр, закрывая иногда от нестерпимого жара лицо рукавом телогрейки, и сметая с крыши метлой падавшие головешки, затаптывая начинавшиеся на крыше очаги пожара. От головешек и искр на Петраше часто загоралась одежда, но он тут же сбрасывал, тушил и снова надевал и снова она загоралась, но Петраш не ушел с крыши пока не миновала опасность. На крыше Петраш пробыл около семи часов подряд в непрерывной борьбе с пожаром и вверенный ему цех от огня отстоял. За свой самоотверженный поступок Петраш также не получил никакого поощрения, потому что он был заключенный по 58 статье. Поощрением нельзя назвать его обмен на видного чешского коммуниста, по которому Петраш был освобожден из концлагеря, отсидев четыре года из десяти лет срока, и отправлен под конвоем в Чехословакию. Этот обмен не имел никакой связи с действиями Петраша на пожаре. Мне не известны мотивы, побудившие Петраша без передышки вынести такие физические мучения, находясь почти в очаге грандиозного пожара, пойти на риск мучительной смерти в огне. На этот подвиг, очевидно, его толкнуло не столько желание сохранить социалистическое имущество, сколько тот же страх перед марксистской схемой бдительности, страх быть обвиненным в возникновении пожара, а отстояв цех уменьшить свою «вину», иметь надежду на более смягченный приговор. Петраш, видимо, решил рискнуть отстоять цех, а в случае неудачи предпочитал сгореть в огне пожара, чем снова принять мучения допросов с конечным результатом – расстрелом.
К одиннадцати часам утра распространение огня стало настолько угрожающим, что начальство приняло решение об эвакуации Кремля. Загорелся Троицкий собор с наветренной стороны Преображенского собора и деревянная надстройка на восточной стене Кремля. Эта надстройка на верхней части кремлевской стены почти по всему периметру ограды представляла собою деревянную галерею с крышей построенную еще монахами в конце прошлого столетия, когда Кремль утратил значение военной крепости. Эти галереи использовались и монастырем и концлагерем как складские помещения для муки, крупы, сухих овощей и других продуктов, требующих сухих складов.
По деревянной надстройке, раздуваемый ветром, огонь стал быстро распространяться вдоль восточной стены Кремля. С помещений рот были сняты замки и заключенные после томительного бездействия сразу заполнили двор Кремля, таща на себе и свои пожитки и нехитрый ротный инвентарь, топчаны, столы, табуретки, шкафы из ротных канцелярий, исполняя приказ об эвакуации. Широко распахнулись не только Восточные ворота, служивший единственным выходом заключенных из Кремля по пропускам, но и еще двое ворот в восточной стене, никогда не открывавшихся со времени основания концлагеря. Настежь открытыми были также ворота в юго-восточной стене, служившие только для провоза зерна на мельницу, и Святые ворота, где помещались пожарная команда, имевшая для выезда внутрь Кремля и наружу.
В Кремль въехало больше десятка телег из Сельхоза, на которые грузили содержимое продовольственных, обмундировочных и материальных складов, вывозя все в сторону Сельхоза, где сваливали в кучи прямо на землю. Оцепление места пожара было снято и переброшено на охрану площадок куда сваливали эвакуируемое добро. Заключенные не только грузили содержимое складов на телеги, но и тащили на себе в эвакуируемые места, зачастую забывая о своих личных вещах. Масса вышла из-под контроля начальства и работала по спасению имущества концлагеря без всяких указаний с его стороны, слаженно и понимая без слов пожелания заключенных кладовщиков. За складами эвакуировали общую кухню, декорации и инвентарь театра. В последнем руководили и сами таскали самодеятельные артисты. Демонтировав электрооборудование и Кукольного цеха мы все вывезли на телегах подальше за пределы Кремля. Это было удивительное зрелище самодеятельной энергии масс, в которой растворилось всегда приказывающее чекистское начальство. На него уже никто не обращал внимания и, почувствовав себя лишними, все начальники исчезли из Кремля. Не обошлось и без воровства со стороны уголовников, но лагерное имущество от них отбирали сами по своей инициативе политзаключенные. Последние, обретя самостоятельность в хаосе пожара, зорко следили за ворами и я видел несколько раз, как отбирали, хотя и не без драки, у них наворованное.
В три часа дня к пристани подошел пароход «СЛОН» с пожарной командой города Кеми укомплектованной из заключенных, которой командовал офицер Русской армии заключенный Клодзинский, бывший начальник Соловецкой пожарной команды. Пожарники протянули с парохода шланги и мощные паровые донки «Слона» дали такой напор воды, что огненная стихия стала отступать, опасность распространения пожара на весь Кремль миновала. К шести часам вечера огонь был полностью ликвидирован и только знаменитый, когда-то золоченый, шпиль главной колокольни догорал большим факелом – факелом свободы, которую огненная стихия дала в этот день, и только на один день, рабам, освободив их от размеренного распорядка дня, установленного неволей и принудительным трудом.
Около семи часов вечера подгорело основание шпиля и он рухнул на землю с пронзительным ревом, обдав жаром на большом расстоянии от места падения. Из цельного дуба, шпиль долго горел, лежа на земле, и никто не пытался затушить его, как бы отдавая дань былой гордости седого монастыря, канувшего в вечность, сгоревшего в разрушительном огне революции, как догорал теперь и сам шпиль колокольни. Стены сгоревших соборов даже снаружи были персикового цвета, который приобрел кирпич от столь длительного воздействия высокой температуры развившейся от пожара. Выждав около часа, вдвоем с Тарвойном, мы вошли в Преображенский собор, чтобы посмотреть возможно пригодные остатки электропроводки. Несмотря на продувание через оконные проемы сильным ветром, внутри Собора стены были еще чуть розовые и пылали жаром. На каменном полу лежали слитки спекшегося оконного стекла, траверзы были оплавлены, покорежены, почти все фарфоровые изоляторы разлетелись на куски, которые тоже были оплавлены. От высокой температуры медь проводов не только плавилась, но и распылялась. Мы поняли тщетность нашей надежды что-либо использовать из материалов, в которых мы так нуждались для ремонта электросетей. Посетили мы и Троицкий [ Преображенский ] Собор, который служил складом исторических реликвий русского народа и был всегда на замке. В нем до пожара сохранился даже иконостас. Теперь Собор весь выгорел, из него ничего не эвакуировали. Груды пепла остались от иконостаса, от сложенных музейных редкостей, в том числе и от возка Петра Великого, на котором он объехал всю Карелию, наметив трассу Беломорско-Балтийского канала. Да, проект Беломорканала принадлежал Петру Великому, но осуществили его заключенные рабы ХХ столетия. Мне однажды уже пришлось быть в Троицком [Преображенском] соборе и я был поражен, осматривая царский возок, хитроумной комбинацией ремней, осуществлявших подвеску кузова возка к передней и задней оси. Передние колеса были высотой в человеческий рост, задние имели диаметр около трех метров. На таких колесах возок легко преодолевал многочисленные ручьи в Карелии.
ПОЖАР (2)
Около девяти вечера я вернулся в управление электросетей, где Шапиро ждал меня с ужином приготовленным из продуктов, присланных в посылках. Я не ел более суток, целый день провел на ногах в напряженной обстановке пожара, но главное, что истощило мои силы, была мысль о неминуемой расплате жизнями политзаключенных за пожар, в том числе, возможно, и моей. Мне уже было известно о прибытии на Соловки вместе с пожарной командой заместителя начальника СЛАГа и начальника 3-го отдела (информационно-следственного отдела), этого ОГПУ в ОГПУ, чекиста Мордвинова, привезшего с собой свору следователей. Воронье слеталось на запах крови, которая должна была пролиться за пожар. Жертвы пожара были неизбежны. Есть мне не хотелось, хотелось только лечь и попытаться уснуть, чтобы уйти из реального мира. Шапиро и пришедший мой старший друг, офицер Русской армии, заключенный Всеволод Юльевич Фрейберг, работавший ранее делопроизводителем на Электропредприятиях, а теперь бухгалтером «Утильсырья», все же уговорили меня поесть и после ужина стряслась еще одна беда, но уже сугубо личного для меня характера.
Милейший Всеволод Юльевич, скользивший по поверхности всю свою жизнь, ничему не научился и за пятнадцать лет советской власти. Пожар он воспринял как интересной развлечение, хотя бы на один день перевернувшее однообразный размеренный день заключенного, благо «Утильсырье» помещалось от Кремля еще дальше, чем наш домик, и Всеволод Юльевич был совершенно посторонним наблюдателем огненной катастрофы. Ему и в голову не могло прийти какие роковые последствия несет пожар политзаключенным, в частности и мне, в котором он души не чаял. Свою тревогу перед другими по понятным причинам я глубоко скрывал и даже, если бы представился случай наедине поделиться своими опасениями с Всеволодом Юльевичем, я бы ничего ему не сказал, не желая заранее его расстраивать. А он был в самом благодушном настроении. Закинув нога на ногу, отведя от рта красивым жестом раскуренную скрутку махорки в мундштуке, и с удовольствием выдыхая дым, Всеволод Юльевич огорошил нас фразой: «А что говорят о пожаре»? Вопрос был задан в тоне салонного разговора и требовал ответа лишь в порядке светской вежливости. Фрейберг задал его безусловно без всякого умысла, но тем более он странно зазвучал в условиях концлагеря, всякое неосторожное слово могло привести к вызову на допрос в ИСЧ, а может быть и посадке в следизолятор. Мне очень не понравился вопрос Всеволода Юльевича, но я сдержался, уважая старшего друга, и подбирал ответ, чтоб отвести эту тему. Опередил меня Шапиро, который не менее меня трусил перед расплатой за пожар, как контролер электросетей, и прямо взорвался от слов Фрейберга. Шапиро в очень грубой форме сказал Всеволоду Юльевичу, чтоб он никогда подобных вопросов не задавал в нашей комнате и еще передразнил его «говорят». Я чувствовал, как Фрейберг ждет от меня защиты, приведения к порядку Шапиро, но я никак не мог заставить себя произнести что-либо в защиту своего друга. Я был на пределе физических и нравственных сил и совершенно не был способен на вмешательство в их ссору. Кроме того в душе я не мог одобрить поведение Всеволода Юльевича, его глупейший вопрос о пожаре. За острой перепалкой, Всеволод Юльевич, явно обиженный, даже больше на меня, чем на Шапиро, забрал свой чайник и кастрюльку, как делают малые дети, забирая свои игрушки при детской ссоре, и вышел с гордо поднятой головой. В этот злосчастный день недоставало еще потерять такого друга, всегда от души заботившегося обо мне!
Проспал я недолго. В одиннадцать вечера меня поднял дежурный электромонтер: «Вас к телефону». «ИСЧ», мелькнула у меня первая мысль. «Пожалуй не так плохо, - продолжал я соображать, подходя к телефону, - если вызывают по телефону, а не просто посадили в следственный изолятор, может быть и не расстреляют за пожар, а только добавят срок». Я назвал себя в трубку и услышал голос начальника Производственно-плановой части Соловецкого отделения (ППЧ) заключенного инженера Демченко. По официальному тону его приглашения немедленно явиться в ППЧ, я понял, что у него находится высшее чекистское начальство. Обычно офицер-сапер Русской армии обращался со мной душевно, без тени начальствующего тона. И все же его голос прозвучал для меня райской мелодией – это не был голос следователя ИСЧ.
В ППЧ я застал Демченко, его заместителя студента-строителя Филипповича, инженера-механика Русского флота Пестова и заведующего Электропредприятиями Гейфеля. Заключенный инженерный состав Соловков был в полном сборе и, склонившись над кальками, намечал расположение фундаментов под деревообрабатывающие станки и электромоторы. Чекистское начальство уже удалилось, дав принципиальную установку оборудовать Фабрику ширпотреба в девяти бараках, из которых состоял, так называемы, «Рабочий городок» и в которых помещались электрометаллрота, бывшая к тому времени, хотя и продолжавшая еще носить название, стройрота и сводная, объединившая в этих бараках рыболовецкие бригады и персонал Карбасной мастерской.
Соборы решили не восстанавливать, предоставив им без крыши разрушаться, а из бараков заключенных выселить в Кремль, уплотнив там в келиях до невозможности.
На кальках были нанесены планы бараков и, по мере разметки фундаментов под электромоторы, передавались мне. Моя задача состояла за остаток ночи представить проект, схемы и спецификацию на электрооборудование по энергоснабжению Фабрики ширпотреба в бараках. Чекистское начальство дало очень жесткие сроки пуска фабрики – три дня. Фабрика и так не выполняла плана и простой грозил еще большей катастрофой. С технической стороны срок был совершенно невыполнимым, но тем хуже было для политзаключенных. Демченко старался проектом зажать рот начальству, представив как можно скорее проект новой фабрики и тем самым умерить гнев начальства по поводу пожара.
Собравшись с духом, поскольку это была первая большая проектная работа в моей жизни, а надеяться на помощь кого-либо не приходилось, я начал подсчеты. Усталый и невыспавшийся, я напрягал всю волю, чтобы не допустить малейшего просчета, малейшей ошибки, которые могли стать в дальнейшем для меня роковыми. Недоставало мне только обвинения еще и по «вредительстве». Прикинув мощность силовой и осветительной энергии я пришел к выводу о необходимости прокладки от электростанции до Рабочего городка новой электромагистрали. Снабжавшая Рабочий городок осветительной энергией по голодной норме освещения бараков не годилась для производственной единицы. К тому же эта магистраль шла в обход кладбища и заменять на ней провода более толстыми по предстоящей нагрузке ее электромоторами было нерационально из-за добавочного падения напряжения возрастающего с увеличением расстояния от электростанции до потребителя. С целью определения трассы новой магистрали на месте около двух часов ночи я вышел из ППЧ к электростанции, а затем напрямик через кладбище к Рабочему городку, отмеряя шагами расстояние между опорами будущей магистрали и записывая количество необходимых опор.
При выходе с кладбища на дорогу к Рабочему городку, я встретил вереницу заключенных, перегоняемых, несмотря на столь ранний час (было три часа утра) из рот Рабочего городка на жительство в стенах Кремля. Многие из заключенных, прожившие в бараках по несколько лет, обзавелись примитивной мебелью – тумбочками из посылочных ящиков, самодельными вешалками, которые создавали некоторый комфорт и для которых в бараках с вагонной системой нар находилось место. Теперь заключенных перегоняли в Кремль на трехъярусные нары, где все это вообще некуда было приткнуть. Многие не знали этого и несли с собой, навьюченные как верблюды, не только свои личные вещи но и эту примитивную мебель. Ради производства с людьми не считались. Так было в лагере, так было и на воле. Сначала производство, а затем уже люди – таков был первый закон социализма и с ним я познакомился воочию в эту ночь.
Вернувшись в управление электросетей, я поднял Шапиро и Углова и засадил их тоже за работу. Углов хорошо чертил и я ему поручил копировку схем. Шапиро переписал спецификацию и объяснительную записку, когда я кончил проект и объяснительную записку. К девяти часам утра, следующего за пожаром дня, мой проект был готов в двух экземплярах и я его отнес в ППЧ. Демченко, Филиппович, Гейфель, Пестов с красными от бессонной ночи и утомления глазами заканчивали полный проект новой Фабрики ширпотреба. Особенно утомленным выглядел Пестов с чахоточным румянцем на щеках. У меня наверное были не менее красные глаза, хотя я естественно их и не видел. Мою спецификацию включили в общую заявку на материалы и тут же на материк полетела радиограмма.
За ночь произошло изменение начальства на Соловках. Начальника Соловецкого отделения, покровителя уголовников, Чалова сняли, начальником стал чекист, приехавший на пожар, Солодухин. Он не успел еще нацепить на петлицы второй ромб, но от этого распоряжался в ППЧ не менее властно, всех подгоняя чтобы запустить фабрику в нереальный технологически трехдневный срок. Спешка с проектом была ни к чему. Цемент в фундаментах под станки и электромоторы в бараках схватывался до нужной прочности в течение трех недель. Цемент не боялся чекистов, как заключенные, и поторопить процесс схватывания, обусловленный химическими процессами, чекисты не могли. Фабрика заработала только спустя месяц с лишним. Солодухин назначил Филипповича прорабом строительства фабрики ширпотреба, подписал радиограмму и удалился из ППЧ. Филиппович стал названивать в УРЧ, требуя себе заключенных для немедленной ломки нар и полов в бараках.
На меня напала такая слабость, как только сдал проект, что, сев за стол, тут же в ППЧ незаметно для себя уснул, забыв о всех неприятностях, о пожаре, об ИСЧ. Проспал я недолго, разбудил меня Тарвойн, доложив, что приступил с монтерами к снятию внутренней электропроводки и установочного электроматериала в бараках. Я одобрил его инициативу, предупредив только, чтобы он не нарушал электрических вводов, чтоб иметь возможность подать временное освещение в бараки, в которых работа по их переоборудованию будет вестись круглосуточно и освещение понадобиться, так как ночь все увеличивалась. После этого я ушел спать к себе все же не совсем уверенный в своей безопасности от вызова в ИСЧ. Успокаивало немного снятие с должности Чалова, можно было предполагать изменения направления гнева за пожар с политзаключенных на уголовников, распущенных Чаловым, хотя это и не подтвердилось в дальнейшем.
К вечеру меня снова разбудил дежурный электромонтер, сообщив о вызове меня к Демченко. Последний совсем осунулся, ему вряд ли удалось днем уснуть хоть немного. Он огорошил меня ответом на радиограмму из Кеми из Управления СЛАГа. Радиограмма предлагала мобилизовать внутренние ресурсы и на присылку материалов с материка не рассчитывать. Входил в силу второй закон социализма: «Делай всё из ничего». Эта чистейшей воды отписка вышестоящего начальства нижестоящему, ставила последнее в безвыходное положение. Она не снимала с него ответственности за невыполнение производственного плана, которое всегда висело Дамокловым мечом над головой каждого руководителя и была неприкрытым издевательством над всеми от мала до велика. Только самое высшее руководство – верхушка диктатуры большевиков, навязывающая эту отписку со ступеньки на ступеньки иерархической производственной системы страны сверху вниз, прекрасно понимала нереальность преподанных ею же самой темпов индустриализации не могущих быть нормально обеспеченных потребным количеством материалов. Но эта верхушка в порочности своих идей не перед кем не хотела сознаться. Острая нехватка материалов еще более усугубляется плановой системой, вносящей большую путаницу в распределении материалов. Это ощущалось не только в концлагере, но и на воле, и все возрастало с увеличением объема строительства от пятилетки к пятилетке. Необеспеченность строек материалами хищнически растрачивает людскую энергию, заставляет без толку перерабатывать рабочих и инженерно-технический персонал на местах. Все время приходится что-то снимать в одном месте, чтоб заканчивать строительный объект в другом месте, и так далее и так далее. В масштабе страны это приносит громадные потери. Сегодня обрезают полученные болты, потому что они слишком длины для предстоящей сборки машины, а коротких болтов нет, а завтра, при получении нужных вчера коротких болтов, их наваривают, так как как раз нужны уже длинные болты и так далее и тому подобное.
Я доложил Демченко о катастрофическом положении на Соловках с электроматериалами, которых не было даже для текущего ремонта электросетей. У меня сжалось сердце, как этот волевой русский офицер с отчаянием взглянул на меня и шепотом произнес: «Что же я буду делать»?! Взяв себя в руки, Демченко попросил меня к завтрашнему утру доложить где на Соловках без ущерба можно снять наружную электропроводку, чтобы обеспечить мой проект новой магистрали в Рабочий городок. Пол ночи я прикидывал разные варианты и наконец остановился на наименее безболезненном. Вдоль восточной стены Кремля проходила магистраль с сечением каждого провода 120 квадратных миллиметров. Эта магистраль питала не только осветительную сеть Кремля, но и Пошивочно-обмундировочную фабрику (ПОМОФ) до ее эвакуации в Кемь на лагпункт «Вегеракша». Затем к этой магистрали была присоединена силовая нагрузка организованной Фабрики ширпотреба. Теперь после пожара, когда в Кремле не стало силовой нагрузки, за исключением электромотора на Мельнице, питание которого осуществлялось по другой магистрали, вышеупомянутую магистраль можно было заменить другой с проводами менее мощного сечения, а провода в 120 кв.мм использовать для питания Рабочего городка. Для прокладки напрямик через кладбище и по длине этих проводов хватило бы.
Кажущееся затруднение в осуществлении моего проекта заключалось лишь в том, что взамен снимаемых проводов надо было ставить какие-то другие, более тонкие, но ведь и их не было. Я предложил расплести провод сечением 120 кв.мм на два: сечением 95 кв.мм и 25 кв.мм. Сечение первого укладывалось в нормативы дозволенного падения напряжения при коммуникации тока на расстоянии от электростанции до новой фабрики ширпотреба, а оставшийся после расплетения провод сечением в 25 кв.мм обеспечил бы почти нормальное освещение Кремля. Технологически проект был также прост: необходимо было отвязать оба полных провода (третий нолевой был малого сечения и для нас интереса не представлял) от изоляторов, спустить на землю по всей длине магистрали, расплести и полученный провод сечением в 25 кв.мм вновь поднять на опоры и прикрепить к изоляторам. При наличии того количества линейных электромонтеров, подключив на эту работу двух контролеров, Тарвойна и самого себя, я бы мог, работая от зари и до зари закончить всю работу за двое суток, оставив без электроэнергии Кремль только на одну ночь.
Однако последнее обстоятельство и оказалось камнем преткновения для начальника Соловецкого отделения концлагеря Солодухина, при утверждении моего проекта, представленного ему Демченко. Чекисты больше всего боялись остаться хотя бы на одну ночь без освещения, с глазу на глаз в темноте со своими рабами. И когда Демченко, ухватившийся за мой проект, как единственно разумный выход в мобилизации внутренних ресурсов, предложенных в ответной радиограмме, стал настаивать перед Солодухиным об утверждении проекта, и просил разрешения на отключение Кремля на одну ночь, начальник так перепугался, что приказал провода снимать так, чтоб и освещение было.
Техническая безграмотность Солодухина поставила нас, начиная с Демченко, в тяжелое положение. С одной стороны жестокие наказания обрушились бы на всех, если бы не была сделана электропроводка к новой фабрике ширпотреба, с другой, при добывании провода для этой проводки, если бы мы оставили Кремль без света хотя бы только на одну ночь, посыпались бы еще более жестокие наказания, так как в этом случае Солодухин боялся за свою жизнь, а своя рубашка ближе к телу, чем интересы производства и свой испуг он бы нам не простил.
«Указание» Солодухина очень осложняло осуществление проекта, растягивая его во времени, вызывая массу дополнительного, бессмысленного труда. Труд ценился начальством очень дешево, вернее совсем не ценился и не только в концлагере но и на воле, так как ни один руководитель не оплачивал рабочих из собственного кармана, даже если они и работали лично для него. Так я познакомился с третьим основным законом социализма, в интерпретации его большевиками. Труд рабочего, крестьянина, интеллигента за гроши на воле, совсем даровой в концлагере естественно ставился ни во что директорами и прорабами на воле, чекистами в концлагере и ради своей прихоти, ради своего удобства каждый начальник заставлял выполнять своих подчиненных огромный объем работы, совершенно нецелесообразной с точки зрения, не только общенародной, но и государственной – большевицкой диктатуры. Трудящиеся подвергались хищнической эксплуатации, к тому же не приносившей пользы никому, а потому бессмысленной.
Посоветовавшись с Тарвойном, я все же отдал распоряжение немедленно приступить к снятию проводов, вдоль Восточной стены Кремля. Работали все линейные монтеры, оба контролера, Тарвойн и я. Работали почти без перекуров, с кратким перерывом на обед, от зари и до зари. На полное расплетение проводов в первый же день у нас времени не хватило и, успев расплести лишь половину одного снятого провода, пришлось снова весь провод поднимать на столбы, вязать хоть через столб к изоляторам, чтоб поспеть к темноте на ночь дать свет в кремль. На другой день начали работу отвязыванием провода с изоляторов, выполняя двойную работу из-за трусости Солодухина. Все делалось без нормального ночного отдыха, второпях, на скудном лагерном пайке. Торопили нас и Гейфель и Демченко, а им покою не давал Солодухин, хотя никакой срочности в новой проводке не было, так как в бараках только клали фундаменты под электромоторы и станки, а цементу еще предстояло схватываться двадцать один денёк. И так, работая все светлое время дня, раз пять, подвешивая провода, чтоб дать свет на ночь в Кремль, а утром снова снимая провода со столбов, мы все же за пять дней расплели провода и получили материал для новой магистрали. Обидно было сколько времени ежедневно у нас уходило на снимание и подвеску проводов, драгоценного времени, которое мы могли использовать, не надрываясь для расплетки проводов. Закрепив в последний раз расплетенные провода на магистрали вдоль Восточной стены Кремля, с добытым материалом, мы все перешли на строительство магистрали на новую фабрику ширпотреба. Очень помог нам Демченко, прислав заключенных с общих работ на рытье ям под столбы и установку их на новой магистрали. Рассредоточив по всей магистрали линейных монтеров, каждого на два столба для инструктажа заключенных устанавливающих столбы мы в один день оказались обладателями всех установленных столбов и на другой день натянули новую магистраль полностью. При натяжке линии был использован ворот у сухого дока, которым подтягивали суда становившиеся на ремонт в док на среднюю линию. Предложение использовать ворот было внесено одним электромонтером бытовиком. Через несколько дней в лагерной газете «Перековка» появилась хвалебная по адресу этого электромонтера статья, в которой он назывался рационализатором, перековавшимся заключенным. Безусловно, если бы он был политзаключенным статья про него не появилась бы.
С проводкой магистрали Демченко, Гейфель и я вздохнули свободно. Никто теперь не мог обвинить нас во «вредительстве» по задержке пуска в эксплуатацию фабрики ширпотреба. Но наш подвиг не сдвинул пуск фабрики, так как надо было время и время, чтобы окрепли фундаменты. Внутреннюю проводку в переделанных под цеха бараках Тарвойн сделал не спеша и закончил задолго до установки электромоторов и станков.
Мое решение задачи из ничего сделать новую магистраль и выбранный мною вариант трассы для нее вызвал полное одобрение моего наставника, бывшего заведующего Соловецкими электропредприятиями заключенного инженера Боролина. В качестве главного механика СЛАГа он приехал на Соловки в инспекционную поездку по поводу оборудования фабрики ширпотреба. Мои знания и способности очень поднялись в глазах Боролина и, как раньше, он мне очень помог, вырвав несколько тысяч изолированного провода и порядочно установочного материала для внутренней электропроводки в цехах фабрики ширпотреба. Без этого снабжения мне бы не выйти из положения, потому что изолированного провода не откуда было снимать.
Так опасность стать послепожарной жертвой пронеслась мимо меня и персонала электросетей. Жертвами оказался весь состав Соловецкой пожарной команды – шесть заключенных донских и кубанских казаков. Эти десятилетники, все сидевшие по 58-й статье, оказались наиболее привлекательными для чекистов людьми, на которых надо было обрушить репрессии. Посаженные сразу же после пожара в следственный изолятор, все шестеро были обвинены в «бездействии» при ликвидации пожара и получили по статье 58-й пункт 14-й (саботаж) дополнительные сроки от десяти до пяти лет с содержанием на тяжелых физических работах, с отправкой на лесозаготовки на Соловках.
Все заключенные видели, кто действительно бездействовал на пожаре. Это было многочисленное соловецкое начальство, растерявшееся и беспомощное перед лицом грозной стихии и думавшее лишь о том как не выпустить из узды массы заключенных. Но на то начальство и было из чекистов, чтобы не быть подсудно, а свалить всю вину на политзаключенных. И действительные преступники, виновные в поджоге уголовники, тоже оказались безнаказанными. Чекисты не привлекли к ответственности своих «социально-близких» преступников из-за страха расписаться в полном провале продиктованной сверху системы перевоспитания уголовников. Отстранение от должности начальника Соловецкого отделения концлагеря, покровителя уголовников, чекиста Чалова и замена его другим чекистом Солодухиным не внесли никаких изменений в вошедший уже в систему разницы отношений лагерного начальства к политзаключенным и к уголовникам. Первые так и остались козлом отпущения за все.
Однако этот большой пожар, истинная причина которого была отлично известна чекистам, пожалуй, был последним толчком уже назревшей в умах лагерных чекистов необходимости в перемене отношений лагерного начальства к уголовникам. Наравне с воспитательными мерами, которые и впоследствии так и остались только на бумаге, применение дубинки и к уголовникам все больше внедрялось в сознание чекистов. Пока эта осознанная необходимость по многоступенчатому бюрократическому аппарату ОГПУ дошло до верхов прошло значительное время и изменение отношения к уголовникам продиктованное сверху, спустилось до лагерей тоже не сразу. Пожалуй, первым этапом в переломе отношений к уголовникам был приезд на Соловки в сентябре 1932 года, то есть через два месяца после пожара, следственной бригады из Москвы из ОГПУ, которая сразу посадила в следственный изолятор около сорока главарей-уголовников. Однако тогда, вследствие большой инфильтрации уголовников в административный и следственный аппараты концлагеря, из этой затеи ничего не вышло: заведенные дела следствием тянулись до бесконечности и, возможно, подследственных и выпустили бы из изолятора, как это делалось раньше, если бы не дальнейшие события развернувшиеся на Соловках в начале закрытия навигации зимовки 1932-33 годов и о которых я расскажу в следующей главе.
«КОЖА – СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ?»
«Кожа – секретный документ?», - такой вопрос возник в одну зимнюю, конца января 1933 года, ночь у дежурного по 3 отделу (информационно-следственному) Соловецкого лагеря в г. Кеми, когда, получив большое количество огромных пакетов секретной почты с Соловков, он вскрыл первый конверт. Дежурный уполномоченный только что сменил своего не менее уважаемого товарища, заключенного чекиста, тоже уполномоченного 3 отдела, которого с внезапным острым приступом аппендицита увезли в больницу. Вываливавшееся из открытого конверта, вместо секретных бумаг, великолепное черное шевро, несколько десятков шкурок, привело уполномоченного в крайнее изумление, перешедшее в испуг.
Постоянно навинчиваемые вышестоящими начальниками во всех формах о необходимости бдительности, чекисты могли увидеть в любом, непонятном для их узкого кругозора, явлении что-то весьма угрожающее самым основам революции, а, следовательно, и его собственному благополучию. Уполномоченный немедленно «установил» своим недалеким умом. «Что значит черная кожа?», - сам себя спрашивал несчастный дежурный и сам себе отвечал: «Это значит какой-то шифр, по неизвестному мне коду с Соловков 3-я часть сообщает секретно о какой-то катастрофе – массовый побег заключенных? Восстание заключенных»?! В ужасе уполномоченный разбудил по телефону начальника 3 отдела чекиста Мордвинова. Последний, спросонья, ничего не поняв из сбивчивых сообщений дежурного о какой-то коже с Соловков, сам немедленно прибежал в Управление СЛАГа и был не менее изумлен и напуган этим черным шевро. Мордвинов по телефону разбудил начальника управления СЛАГа, бывшего пограничника, чекиста Сенкевича, который в одном белье, накинув на плечи шинель, благо ему надо было перебежать только двором, немедленно ворвался в 3 отдел. Сенкевич тоже ничего не понял. Вдвоем с Мордвиновым они осмотрели пять сургучных печатей на конверте. Сомнений не было – печати были 3 части Соловецкого отделения. В секретной почте с Соловков была кожа и ни одной секретной бумажки. Лихорадочно оба чекиста стали вскрывать остальные пакеты, также тщательно опечатанные сургучными печатями 3 части, по пять штук на каждом конверте, - из них валилась кожа, только кожа. Груды прекрасного шевро, изготовляемого Соловецким кожевенным заводом, заполнили комнату дежурного 3 отдела. Обозленные, в поту, чекисты смотрели друг на друга и, снова не поняв ничего, тут же ночью радировали запрос на Соловки.
Еще меньше, чем запрашивающие, разобрался в радиограмме, тоже поднятый с постели, начальник Соловецкого отделения СЛАГа чекист Солодухин, который на запрос ответил радиограммой уже совершенно непонятной ни для кого. С рассветом сам Мордвинов вылетел на самолете на Соловки с Попова острова, который расположен в 12 километрах от г. Кеми и на котором находился гидродром и Кемский пересыльный пункт СЛАГа.
Соловецкие острова зимой практически отрезаны от внешнего мира почти на полгода, когда из-за льдов прекращается навигация. Установить судоходную связь по льду мешают движущиеся льды, так называемая шуга. Из-за подогрева Белого моря, заходящим в него ответвлением Гольфстрима, середина моря не замерзает и ледяной припой вдоль берегов ограничивается 15-18 километрами, за которым двигаются по направлению ветра массы ломаемого штормами льда.
Естественно, в таких условиях, связь по воздуху была единственной возможностью сообщаться с Соловками. Однако, вследствие малого количества летных дней, регулярного сообщения по воздуху не было и единственный гидросамолет УСЛАГа, менявший на зиму поплавки на лыжи, почти всегда стоял на приколе. К тому же из-за малой грузоподъемности (кроме летчика он мог брать только двух пассажиров или не более двухсот килограмм груза) для транспортировки даже одной почты он не был пригоден. Как правило гидросамолет использовался только в оперативных целях или для срочной поездки на Соловки высокого начальства или для пересылки весьма срочной служебной почты, главным образом смертных приговоров, вынесенных коллегией ОГПУ, находившимся на Соловках заключенным. Тут спешили, чтоб смертников не кормить лишний день. Заключенные так и называли гидросамолет «вестником смерти». Заслышав гул мотора, на душе становилось очень неприятно в ожидании новых расстрелов или в лучшем случае какой-нибудь жестокой массовой акции против всех заключенных на Соловецких островах.
Чтобы как-нибудь все же наладить, хотя и не регулярно, связь с материком зимой, лагерное начальство, еще когда управление концлагеря было на Соловках, организовало службу почтовых лодок, возложив на них доставку на материк и обратно служебной, в том числе и секретной, почты, газет и писем заключенных и заключенным от их родственников. Организованная таким образом связь была чрезвычайно нерегулярной, долгой и потому каждым рейсом отправлялось и привозилось тонны почты. Малая скорость рейса вызывалась чисто природными условиями Белого моря. Почтовые лодки с Соловков, на привязанных к ним полозьях, экипажи лодок тащили их на себе по льду. Когда они, пройдя 15-18 километров в сторону Карельского берега, доходили до кромки островного ледяного припоя, они спускали лодки на воду, если позволяла шуга, и с отливом на веслах старались выйти на середину водного пространства между Соловецкими островами и группой безымянных мелких скалистых островов на юго-западе от Большого Соловецкого острова. Достигнув середины водного пространства, используя начавшийся прилив, экипажи на лодках, старались с приливной волной быть вынесенными к кромке ледяного припоя скалистых островов, чтоб снова на себе тащить лодки с полозьями по этому ледяному припою в сторону Карельского берега. На краю ледяного припоя, обращенного к этому берегу, они ждали нового отлива, чтобы на веслах выйти на середину водного пространства уже между скалистыми островками и Карельским берегом, а там, дождавшись нового прилива, вынестись с ним на ледяной припой материка и по нему на полозьях дотащить лодки до Кемперпункта на Поповом острове. Из Кемперпункта бригадир почтарей вез почту по железной дороге до г. Кеми, где и передавал ее в управлении СЛАГа. Таким же маршрутом, после отдыха, почтовые лодки, или, как их называли, «почтарки» возвращались на Соловки.
Выжидание время отливов и приливов, продвижение на веслах между движущимися льдинами, очень затягивало время хождения почтарок и при самых благоприятных условиях на путь в 60 километров, отделяющих Попов остров от Большого Соловецкого острова, почтарки тратили около недели, а в худших условиях и до трех недель. При отсутствии радиосвязи с почтарками судьба их в течение перехода не была известна и, если в течение недели они не появлялись в конечном пункте, поднималась тревога. Тревога поднималась, главным образом, не из-за возможной гибели жителей почтарок, а из-за навязчивой идеи у чекистов о побеге заключенных почтарей. При летной погоде на поиски пропавших почтарок, которые всегда шли по три вместе, высылался самолет. Зачастую, зажатые льдами, почтарки с экипажами дрейфовали в открытом море по воле ветров или даже выносились юго-западным ветром к самому горлу Белого моря. Практической помощи почтаркам никто не оказывал и вызывает удивление тот факт, что за четыре зимовки, проведенные мною на Соловках, не было ни одной гибели почтового каравана. Обнаружив дрейфующие почтарки, самолет сбрасывал им продовольствие и горючее. С собой им выдавался паек на неделю и примусы с запасом керосина для обогревания и приготовления в пути горячей пищи.
Экипажи почтарок комплектовались на добровольных началах из заключенных, исключительно уголовников, отсидевших более половины положенного срока. Политзаключенные в экипажи почтарок не допускались. Лагерная администрация не только ненавидела политзаключенных, но и не доверяла им. Кроме того, в случае побега, а он всегда мерещился чекистам, за бежавшего уголовника следовало меньшее наказание, чем за побег политзаключенного. Несмотря на большой риск, уголовники на почтарки шли охотно. Привлекал сытный полярный паек с включением в него спирта, свобода передвижения и свобода от лагерного режима, а главное, как выяснилось впоследствии, прибыльные дела по продаже на материке краденного на Соловках, а на Соловках привозимой с материка водки.
Никто иной, как бригадир почтарок привез с Соловков те злосчастные конверты с сургучными печатями 3 части, содержащими кожу и сдал их в 3 отдел ночью, не зная о смене дежурных 3 отдела. Бригадира почтарок немедленно арестовали в г. Кеми, чтобы выяснить как попала кожа под печати, но он оказался матерым уголовником и, несмотря на все ухищрения следователя, отвечал одно: «Получил в 3 части, как секретную почту, вскрывать не мог, поэтому не знаю, что в них было».
Мордвинов еще менее успешно вел следствие на Соловках. Печать 3 части Соловецкого отделения оказалась не украденной и была предъявлена помощником начальника 3 части заключенным чекистом, которому сам начальник 3 части вольнонаемный чекист, передоверил, хотя первый имел высший срок в 10 лет за уголовные преступления, а факт попадания кожи, явно наворованной из кладовой Соловецкого кожевенного завода в конверты с печатями поставил Мордвинова в тупик. Он успокоился, что печать налицо, следовательно политического дела нет, а воровство кожи было для него, как самого начальника 3 отдела СЛАГа слишком мелким, чтоб самому им заниматься. Мордвинов немедленно вернулся в г. Кемь, бригадира почтарей велел выпустить и оставить в прежней должности, поскольку последний пакеты сдал в 3 отдел, а не реализовал кожу на рынке в Кеми.
Возможно, что этот случай так бы и остался не раскрытым, кожей воспользовался бы и сам Мордвинов и весь его многочисленный штат, если бы не произошло смены начальника СЛАГа. Как раз в эти дни прибыл новый начальник СЛАГа, чтоб заменить снятого Сенкевича. Последний был снят за неудачный, слишком откровенный, разговор с корреспонденткой английской газеты «Таймс», разговор раскрывший всему миру жестокий режим советских концлагерей.
Новый начальник СЛАГа, прибывший из Москвы с новыми веяниями о необходимости не только перевоспитывать уголовников, как «социально-близких», но и подтянуть расхлябанную ими лагерную дисциплину и пресечь лагерный бандитизм, подошел по иному к факту попадания ворованной кожи в секретную роту и вызвал бригаду следователей из ОГПУ из Москвы для проведения глубокой ревизии. В феврале 1933 года такая бригада прибыла в Кемь и на Соловки и началось …
Однако, чтобы понять как в концлагере, да еще Особого назначения, да еще в штрафном Соловецком его отделении из предприятия ОГПУ уголовники могли систематически красть кожу и, притом, безнаказанно, как конверты с ней, для безопасности доставки ее на рынок сбыта в Кемь по спекулятивным ценам, запечатывались печатью 3 части, этой ГПУ в концлагере ОГПУ, и, наконец, как в одной банде объединились заключенные рецидивисты-уголовники с заключенными чекистами, надо вернуться несколько назад.
До начала 1931 года дисциплина и в отношении уголовников была на высоте. Ротные командиры, лагерные старосты из заключенных офицеров Русской армии, сидевшие по 58 статье, держали уголовников в ежовых рукавицах, пресекая немедленно какие-либо попытки воровства в концлагере. Другие политзаключенные, занимавшие материально-ответственные должности честно берегли лагерное имущество. Но с введением в концлагерях в действие постановления совета народных комиссаров, изданного в 1930 году за подписью председателя Совнаркома Молотова, все пошло прахом. По этому постановлению, запрещавшему политзаключенным занимать административно-технические должности и материально-ответственные и приказывающему обратить все внимание на «перевоспитание социально-близких» уголовников, началась инфильтрация уголовниками административно-следственного аппарата концлагеря и материальных и продуктовых складов, со снятием на общие (физические) работы политзаключенных. Теперь административно-следственный аппарат концлагеря покровительствовал воровству личных вещей политзаключенных, заминал дела о лагерном бандитизме, кладовые и склады концлагеря расхищались безнаказанно уголовниками, занявшими материально-ответственные должности. Наивысшей точкой разгула лагерного бандитизма была осень 1932, зима 1932-1933 годов, когда участились случаи убийства политзаключенных с целью ограбления, и было обворовано несколько квартир вольнонаемных чекистов, в том числе и начальника Соловецкого отделения Солодухина.
Вольнонаемные чекисты, имевшие опорой инфильтрированные уголовниками 3 часть, администрацию и ВОХР, никакой действенной борьбы с лагерным бандитизмом вести не могли и для сохранения своей и своих семей жизни и своего имущества оставили свои коттеджи и сгрудились на жительство в здании Управления Соловецкого отделения под круглосуточной охраной усиленных нарядов дивизиона войск ОГПУ.
В предыдущих рассказах я уже приводил примеры, как служившие в охране следственного изолятора уголовники способствовали побегу из него задержанных бандитов, как следователи 3 части прекращали дела против «королей», как пойманные с поличным грабители, конвоируемые уголовниками-солдатами ВОХР совершали от них «побег» и потом грабителей никак «не могли» разыскать на территории острова, чтобы завести на них дела, как по продовольственным карточкам, отпечатанным в типографии, работавшими там уголовниками, были расхищены все запасы продовольствия. Перечень всех воровских махинация, грабежей и убийств, совершенных уголовниками в концлагере можно было бы продолжать до бесконечности.
Главным лицом, особо рьяно проводившим на Соловках постановление СНК в отношении уголовников был начальник Соловецкого отделения СЛАГа чекист Чалов, снятый с должности после большого соловецкого пожара. Еще будучи начальником КВЧ (культурно-воспитательной части) Соловецкого отделения, Чалов, беспринципный демагог, начал заигрывать с уголовниками, всеми силами стараясь, хотя бы у них стать популярной личностью. Последовательно бывшие до Чалова начальниками Соловецкого отделения чекисты Успенский и затем Мордвинов, первый больше, второй меньше, еще как-то сдерживали Чалова и покровительствуемый им преступный мир, но когда начальником Соловецкого отделения стал сам Чалов, уголовники распустились вовсю и заполнили административно-следственный аппарат концлагеря на Соловках.
Воспользовавшись вышедшим в конце 1931 года о создании из заключенных по производственному принципу трудколлективов, Чалов перевел всех уголовников, числившихся на общих работах и проживавших в общих рабочих ротах на тройных нарах, в отдельное, специально для этого очищенное от «контрреволюционной нечисти» помещение и создал в нем, как бы автономное государство из уголовников, назвав его трудколлективом. Проживавшие в этом трудколлективе уголовники подчинялись (и по воровскому закону беспрекословно) только выбранному ими же председателю трудколлектива – крупному бандиту, своему королю. Последний, почувствовав себя на равной ноге с начальником отделения, переоделся в гражданское платье из наворованного его подручными, и, с вальяжностью вершителя судеб заключенных, запросто ходил в кабинет к Чалову, где развалившись в кресле, дымя папиросами для вольнонаемных, поплевывая на всю остальную лагерную администрацию, либо обсуждал с Чаловым, для видимости планы культурно-воспитательных мероприятий в трудколлективе, либо, а это бывало чаще, диктуя Чалову все новые поблажки для уголовников.
По распоряжению Чалова все члены трудколлектива, независимо работали ли они или нет, получили новое лагерное обмундирование, включая и валенки, которые полагались только на тяжелых физических работах на открытом воздухе и которых не хватало даже на них. В помещение трудколлектива были поставлены топчаны, скамейки, столы, табуретки, тумбочки и, чего никто никогда из заключенных не получал, сенники, подушки, одеяла и постельное белье. На столы были выданы, специально завезенные на остров скатерти, на окна гардины. Для увеселения шпана получила патефоны с грампластинками. А самоотверженно работавшие политзаключенные продолжали ходить в рубищах, оставаться в прежних лагерных условиях, на тройных нарах, на общей кухне с голодным пайком. Всегда отлынивавшие от работы уголовники получили такие превосходные бытовые условия.
Для формального оправдания слова трудовой коллектив были созданы две бригады грузчиков для порта и между бригадами объявлено социалистическое соревнование. Одна бригада носила имя Сталина, другая Чалова. Чалов сиял, попав как бы на одну ступень со всесоюзным вождем.
Фактически был создан «образцовый» уголовный шалман, служивший штабом всех грабежей, воровства и лагерного бандитизма, куда сносилось все наворованное у политзаключенных, а впоследствии и у вольнонаемного начальства, и из лагерных складов. Доступ оперативников 3 части и солдатам ВОХРа в этот шалман был запрещен Чаловым, а солдаты дивизиона войск ОГПУ просто боялись туда заходить, чтобы не быть зарезанными, когда преследовали лагерных бандитов, всегда скрывавшихся в трудколлективе.
Членам этого «трудколлектива» жилось сытно на наворованных продуктах и весело. Патефоны гремели, с приводимыми почти открыто уголовницами из женбарака устраивались танцы, разврат процветал не хуже чем в шалманах на воле. Водка доставлялась контрабандой через команды судов во время навигации, через почтарей зимой в обмен на награбленные вещи. На последние также шла круглосуточная азартная картежная игра.
На Большом Соловецком острове в XVI веке Настоятелем Соловецкого монастыря Митрополитом Филиппом было разведено стадо оленей. Из этого стада я застал только одного оленя, почти ручного Мишку, жившего мирно в лесу. Мишка исчез, а его мясом бойко торговали на колхозном рынке в городе Кеми. Это был 1932 год, самый, пожалуй, голодный в стране, а потому понятно какие суммы выручали уголовники через своих контрагентов в Кеми за оленью тушу.
Особая бригада из заключенных занималась тюленьим промыслом. Шкурки сдавались на Кожевенный завод на Соловках, который изготавливал из тюленьей кожи великолепное шевро. План по выработке кожи завод даже перевыполнял, а на материк отгружались лишь крохи. Большая часть продукции Кожзавода исчезала бесследно из складов и за невыполнение плана поставки кожи начальник Соловецкого отделения получил не одну нахлобучку. Несмотря на предпринимаемые соловецким начальством через 3 часть энергичные меры по розыску воруемой кожи, последнюю на Соловках обнаружить не удавалось. Не могли и обнаружить и личные украденные вещи из квартир чекистского начальства и комсостава войск ОГПУ.
А и кожей и вещами, также как и олениной, бойко торговали из-под полы на том же колхозном рынке в г. Кеми. Начальство выходило из себя, но прекратить не только воровство, но и исчезновение краденного с Соловков было не в силах.
Мало что изменил в этом направлении первый приезд на Соловки в сентябре 1932 года бригады из ОГПУ, из Москвы, посадившей в следизолятор около сорока воровских королей и их ближайших приспешников-уголовников. Корень зла эти следователи не вскрыли, - инфильтрацию уголовниками административно-следственого-охранного аппарата, а потому заведенные ими дела, переданные ими 3-й части Соловецкого отделения, уголовниками-чекистами затормаживались и следствие тянулось до бесконечности.
Кожа, обнаруженная в пакетах, запечатанных сургучной печатью 3-й части Соловецкого отделения СЛАГа рассказала о многом прибывшей новой бригаде следователей ОГПУ из Москвы. Раскрылась поразительная спайка заключенного уголовного мира с уголовниками заключенными чекистами. Этой спайкой объясняется живучесть лагерного бандитизма, самого ужасного бандитизма на свете, так как основным объектом его были, и без того совершенно бесправные, политзаключенные.
Следствием было установлено участие в сбыте с Соловков в г. Кемь, и далее на рынок наворованного добра, заместителя начальника 3-й части Соловецкого отделения чекиста-уголовника и оперуполномоченного 3-го отдела СЛАГа в г. Кеми, тоже заключенного чекиста-уголовника. Как они признались на следствии, первый, которому была доверена печать 3-й части начальником 3-й части вольнонаемным чекистом, опечатывал ею конверты с краденой кожей, чтобы гарантировать этим конвертам с кожей, как секретной почте, неприкосновенность при осмотре вывозимой на материк почты. Второй, на своих дежурствах по 3-у отделу в Кеми получал эти конверты и реализовывал содержащуюся в них краденую кожу через кемских уголовников и спекулянтов на рынке. И фельдъегерь из уголовников, ездивший на пароходе с почтой и бригадир почтарей передавали пакеты с кожей только в дежурство оперуполномоченного 3-го отдела, о котором я говорил выше. Выручку от продажи ворованной кожи делили все участники – уголовники чекисты и не чекисты.
Итак если бы этот оперуполномоченный внезапно не заболел аппендицитом на своем дежурстве в ночь доставки пакетов с кожей почтарями, и не был заменен другим, не состоявшим в банде, возможно еще долго и те и другие уголовники продолжали бы расхищать государственное и частное имущество и лагбандитизм все более усиливался бы.
Установлено было также провоз почтарями на лодках и командами судов - уголовниками с Соловков на материк и всего другого наворованного на острове.
Лагерным бандитам, чекистам-уголовниками и чекистам покровителям уголовников пришел конец. Бригада московских следователей с помощью солдат войск ОГПУ произвела многочисленные аресты, как на Соловках, так и в Кемских лагерях, заключенных уголовников непосредственно воровавших, воровских королей и уголовников, служивших в ВОХРе, охране следственных изоляторов, 3-й части Соловецкого отделения, 3-м отделе СЛАГа. За разложение лагерной дисциплины, потворству лагерному бандитизму были также арестованы вольнонаемные чекисты, бывшие начальники Соловецкого отделения Чалов и Мордвинов (последний в 1932 -33 годах уже был начальником 3 отдела СЛАГа) и, также вольнонаемный чекист, начальник 3-й части Соловецкого отделения. Он еще обвинялся и в передоверии печати своему помощнику. Всех чекистов вольнонаемных и заключенных переправили на самолете на Соловки и держали под арестом на гауптвахте дивизиона войск ОГПУ, сняв с них все ромбы и шпалы. Остальных уголовников посадили в следизоляторы.
Шквал пронесшийся над заключенным уголовным миром, для политзаключенных был большим облегчением, свежим ветром немного провентилировавшем затхлую концлагерную атмосферу добавочного террора со стороны уголовников. Несмотря на все усиливавшийся голод зимовки 1932-33 годов жить в концлагере стало как-то легче.
В один из морозных, начала марта 1933 года, дней мы, вдвоем с моим другом и контролером электросетей Н., просмотрели, передвигаясь на лыжах, состояние электромагистрали на Пушхоз. Оставшись удовлетворенными полной исправностью магистрали, мы под влиянием солнца, тишины девственного леса, белизны нетронутого снежного покрова, почувствовали какое-то умиротворение, и мы даже забыли где мы находимся и какие «права» у нас на жизнь. Проходя мимо Кирпичного завода, расположенного в километрах трех от кремля, на возвратном пути, Н. соблазнил меня съехать на лыжах с крутой горки, стоявшей поодаль от трассы магистрали. Отклониться от трассы само по себе уже было неосторожностью, так как, налетев в лесу на патруль войск ОГПУ, иногда и зимой прочесывавших лес, нам бы не помогли и наши служебные пропуска на право круглосуточного передвижения по лагерю. Нас забрали бы и неизвестно чем бы это могло кончиться, так как и объяснить, что мы делали вдали от трассы нам было бы нечего. Гора оказалась более крутой, чем мы ожидали, скорость на лыжах оказалась такова, что впору было только смотреть, как бы не наскочить на деревья, и, вдруг, я заметил, что несемся прямо на поляну, где на лыжах стоят чекисты в комсоставских шинелях с солдатами войск ОГПУ. Так в облаках снежной пыли, мы с Н., врезались в эту группу, приготовившись к самому худшему.
Группа состояла из арестованных Чалова, Мордвинова и бывшего начальника 3-й части Соловецкого отделения, с шинелей которых не были спороты кроваво-красные петлицы ОГПУ и лишь менее выцветшие места на петлицах указывали на количество ромбов и шпал носимых ими в блеске уже прошедшей славы. Их сопровождали четыре солдата войск ОГПУ, тоже на лыжах, с винтовками за плечами. Бывшее начальство было выведено с гауптвахты на прогулку.
В положении арестантов бывшее начальство утратило, всегда присущую им, важность и между нами завязался непринужденный разговор, как между хорошими знакомыми. И Чалов и бывший начальник 3-е части знали нас с Н. в лицо, знали наши должности. Поговорили о погоде, о прелестях лыжного спорта. О своем положении упомянул только Чалов. Совсем некстати он вдруг сказал, хотя ни я, ни Н. и намека не давали: «Мне не страшно, буду работать, я ведь токарь по металлу». «Токарь по черепам», - подумал я. На этом мы и расстались, продолжив беспрепятственно наш путь к Кремлю. Больше я их не встречал, о чем, собственно, и не сожалею.
В марте 1933 года следствие было закончено и поступил приговор Коллегии ОГПУ. Смертные приговоры были срочно доставлены на Соловки самолетом, остальное мы узнали позже из зачитанного приказа по СЛАГу.
В солнечный, морозный, мартовский 1933 года, день с утра концлагерь на Соловках был объявлен на чрезвычайном положении. Всех заключенных заперли по ротам, мы с Н. и дежурными электромонтерами оказались блокированными в домике управления электросетей. Из окна мансарды, нашей комнаты с контролером, была хорошо видна дорога ведущая от Кремля в Савватьево на Секирную гору, по которой ходили патрули войск ОГПУ, чтоб ни один заключенный не проскользнул вблизи. Также хорошо был виден выход из следственного изолятора, помещавшегося в первом этаже управления концлагеря Соловков. Около полудня к следизолятору подъехало десять одноконных саней сельхоза, на которых возчики были заменены солдатами войск ОГПУ. Из следизолятора стали выводить по двое связанными между собой заключенных уголовников. Несмотря на большое расстояние от нас, мы ясно видели, как плохо они держатся на ногах. Смертников специально напоили спиртом, чтобы меньше было с ними возни при расстреле. В каждые сани посадили по четверо приговоренных, связав их друг с другом. Так были заполнены все десять саней и кортеж под усиленным конвоем войск ОГПУ двинулся по дороге в Савватьево.
От свежего воздуха, от лучистого синего неба, от сияющего белизной на солнце снега, от выпитого хмельного настроение осужденных поднялось. Смертный приговор им не объявили и прожженные бандиты были в полной уверенности об отправке их в штрафной изолятор на Секирную гору. Эти уголовники так много раз за свои преступления приговаривались к расстрелу, который им неизменно, как «социально-близким», заменялся очередными десятью годами заключения в концлагере, что им и в голову не могло придти о начале их последнего земного пути. А любой «довесок» к сроку, то есть новый срок в десять лет не был для них страшен, поскольку в концлагере, особенно крупным уголовникам, жилось припеваючи. И вот высокий голос с одних саней затянул: «Эх Дуня, Дуня, Дуня, я»! Все связанные преступники подхватили припев: «Соловчаночка моя»! Припев был вариантом известной народной песни в соловецкой переделке. Эта песня была очень популярна среди уголовников на Соловках, с ней они выступали, как самодеятельные артисты, в Соловецком театре. Через две рамы эта песня становилась все более слышной для нас по мере приближения процессии к нашему домику, от которого дорога на Секирку проходила в метрах тридцати. Залихватская песня в устах смертников, которые в ближайшие часы должны были стать трупами, потрясла нас. Несмотря на ненависть питаемую нами к уголовникам, это самоотпевание существ в человеческом образе легло неимоверной тяжестью на наши сердца, и, пожалуй, на всю жизнь, умножив и без того мрачные воспоминания о Соловках. Прячась за косяки окна, чтобы нас не увидел конвой, мы вглядывались в лица везомых на смерть и узнали среди них, также поющего, нашего бывшего электромонтера короля Лифантова. Он также через несколько часов свалился в вырытый ров на Секирной горе с двумя пулями в затылке.
Спустя некоторое время мимо нашего домика по дороге на Секирку, вздымая снежные вихри, промчались двое пароконных экипажей. В первом сидели Солодухин с новым начальником 3-го отдела СЛАГа. На козлах, рядом с «придворным» кучером Солодухина, сидел комвзвод войск ОГПУ. Во вторых санях, также развалившись, сидели командир дивизиона войск ОГПУ и новый начальник 3-й части Соловецкого отделения концлагеря. У них на козлах, рядом с кучером сидел Вася, заключенный китаец, оперативник 3-й части и палач Соловецкого острова. После снятия с должности начальника Соловецкого отделения чекиста Успенского, который собственноручно производил все расстрелы, палачом и стал китаец Вася. Начальство торопилось на Секирку, на лобное место, чтобы привести смертные приговоры в исполнение.
По этому же делу бывший начальник Соловецкого отделения и начальник 3-го отдела СЛАГа чекист Мордвинов получил десять лет заключения. Такой же срок получил начальник 3-й части Соловецкого отделения. Чекист Чалов отделался пятью годами заключения. Заключенные уголовники чекисты и не чекисты привлекавшиеся к ответственности по этому делу, получили от десяти до пяти лет дополнительного срока заключения. Бывшие вольнонаемные чекисты и чекисты-заключенные были вывезены в другие концлагеря, где получили назначения на работу по чекистской специальности, начальниками отделений и лагпунктов, оперуполномоченными и следователями 3-х отделов и 3-х частей. В их положении почти ничего не изменилось.
К этому можно только добавить, что, как правило, все начальники Соловецкого отделения концлагеря заканчивали свою карьеру на Соловках, получая срок заключения в концлагерь. Зарин и Мордвинов получили по 10 лет, Успенский и Чалов по 5 лет. Возможно исключение составил Солодухин, о котором я не имею сведений, так как был увезен с Соловков, когда он еще был там начальником. Аналогично я ничего не знаю о судьбе начальников Соловецкого отделения, бывших до моего заключения на Соловки.
ПАЕК, ОБМУНДИРОВАНИЕ, ЖИЛЬЕ…
Паек, обмундирование, жилье были теми тремя китами, на которых зиждилась жизнь заключенного в концлагере. От размера и качества первого в особенности зависело здоровье и продление жизни заключенного, которая, правда, могла оборваться не только от истощения, но и в силу стечений каких-либо других неблагоприятных обстоятельств, а последних было более чем достаточно, или просто по произволу чекистского начальства. Ввиду явной недостаточности пайка в даже сытые годы нашей страны, вокруг первого кита были сосредоточены все помыслы заключенного, вокруг продуктов питания только и велись разговоры, отодвигая на задний план все духовные запросы. Голодающие заключенные теряли разум, честь, волю, чтобы только набить пустой желудок, за чечевичную похлебку подчас продавали и душу.
Если для государства себестоимость содержания одного заключенного в день обходилась по смете в восемь рублей, то на питание заключенного из этой суммы было предусмотрено 5-6%, то есть меньше 50 копеек в день. Остальная сумма, более чем в семь с половиной рублей, поглощалась административно-хозяйственными расходами, в которых более 90% падало на содержание аппарата подавления заключенного, администрации концлагеря, войск ОГПУ, стороживших заключенных и устройство «оградительных сооружений», то есть стоимости колючей проволоки ограды концлагерей и материалов сигнализации.
Паек состоял из довольно разнообразного набора продуктов, но их качество и количество делали паек голодным. В набор входили мясо, рыба, макаронные изделия, крупа, картофель, овощи, жиры, сахар, соль, черный хлеб. Однако мясо – была соленая конина, рыба – соленая треска или вобла, иногда селедка, овощи – квашеная капуста и морская капуста (водоросли), зачастую вместо картофеля давали репу. Крупа – только пшено. Мне остались неизвестными точные нормы продовольственного пайка в Соловецком отделении концлагеря особого назначения по всем видам полагавшимся продуктов, поскольку они были для массы заключенных засекречены, но нормы, по некоторым видам продуктов, которые мне стали известны, явно указывали на преднамеренное постепенное физическое уничтожение заключенных недоеданием при непосильных физических работах. Так ежедневная порция черного хлеба (белого хлеба и других хлебобулочных изделий не полагалось) составляла в 1929 году 500 грамм и постепенно снизилась в 1932-33 годах до 350 грамм хлеба-суррогата. Неработающие получали 200 грамм хлеба. Сахар выдавался 50 грамм на месяц. Истинный размер остального дневного пайка, так называемого «приварка», полагающегося заключенному я узнал только в 1933 году, когда я стал получать паек «сухим», то есть непосредственно весь паек на руки в сыром виде, вместо питания на лагерной кухне. На неделю я получал: 35 грамм соленой конины, 90 грамм воблы, 1050 грамм квашеной капусты (с рассолом), 280 грамм картофеля, 14 грамм растительного масла, соль. Крупа и макаронные изделия без замены чем-либо еще в 1931 году были изъяты из пайка заключенного, их и на воле в то время получали только партийная знать, аппарат ОГПУ и его войска, да иностранные специалисты в закрытых магазинах. Для советских граждан крупа и макаронные изделия были только в магазинах «Торгсина» (торговля с иностранцами), где отпускались в обмен на золото, серебро и драгоценные камни.
Следовательно в пересчете на день паек заключенного состоял: хлеба 500 грамм (с 1932 года 350 грамм), сахара менее 2 грамм, жиров 2 грамма, мяса два раза в неделю 18 грамм, рыбы пять раз в неделю по 18 грамм, картофеля 40 грамм, капусты 150 грамм. Часто картофеля не было и его заменяли репой, а квашеную капусту – морской капустой.
Из продуктов такого пайка в концлагере на Соловках было установлено двухразовое питание заключенных, завтрак из одного блюда до развода на работу и обед из двух блюд в обеденный перерыв или после окончания рабочего дня. Ужина не полагалось совсем. Как можно было растянуть вышеприведенную дневную норму продуктов на завтрак и обед? Завтрак состоял из жидкой горячей похлебки с пшеном, а после упразднения крупяного пайка, из рыбьих голов. Такая же похлебка была и на первое на обед с добавлением картофеля или репы. На второе давалось тушеная на воде капуста с кусочком рыбы соленой. Если на первое были щи, на второе давалась ложка соуса из картофеля или репы с кусочком соленой рыбы. В мясные дни в супе рыбьи головы заменяла соленая конина, но мяса видно не было.
Положение заключенного ухудшалось тем, что бесчисленный штат лагерной кухни из самих же заключенных, всякие продовольственные каптеры и их прихлебатели урывали для себя куски из общего котла и до рядового заключенного не доходил и этот голодный паек в полном объеме. Раздатчики на общей кухне по блату наливали погуще комсоставу, своим знакомым, тем из заключенных, которые оказывали какие-нибудь услуги им (парикмахеры, портные, сапожники и т.п.). Блат, как зло, сопутствующее всегда эпохе материальных недостатков, процветал и в концлагере в сфере обслуживания заключенных. Пробраться к продуктам питания, на кухню или в каптерку было заветной мечтой каждого рядового заключенного, при осуществлении которой появлялась надежда как-то выжить в концлагере. И голодных людей за это нельзя было осуждать.
На таком голодном пайке невозможно было протянуть даже небольшой срок заключения в концлагере и кто не имел возможности честным или нечестным способом добавлять к пайку что-либо быстро погибали от истощения.
Усугубляли голод в концлагере еще и низкое качество продуктов, граничащее с полной их непригодностью для потребления. Вызывает удивление тот факт, что за четыре года моего пребывания на Соловках, с 1929 по 1933 год, имело место только одно массовое отравление заключенных недоброкачественной рыбой, из которой были приготовлены на второе рыбные шарики под названием котлет. Очевидно рыба была настолько разложившаяся, что в обычном виде вареной ее нельзя было выдавать. Смертельных случаев было мало, но отравившиеся этими «котлетами» были в настолько тяжелом состоянии, что они были освобождены от работ и даже не на один день.
С моим другом А. мы только чудом не пострадали, съевши не только свои порции шариков, но и разделив пополам порцию нашего друга М., который почему-то отказался их есть. После обеда, пользуясь неугасаемым летним днем, мы все трое украдкой отправились в лес насобирать грибов. На риск попасть в лапы патруля гнал нас тот же голод. В лесу мы задержались и вернулись в общежитие электропредприятий за полночь, где остальные заключенные считали нас уже покойниками. В общежитии уже знали о массовом отравлении заключенных, электрообмотчик и механик, жившие в общежитии, корчились в судорогах от этих котлет, и остальные решили, что на нас яд подействовал в лесу и мы там без всякой помощи скончались. Безусловно медицинской помощи всем отравившимся физически невозможно было оказать и многие выжили благодаря уходу своих друзей и выносливости, еще не растраченной с воли.
Одним из парадоксов лагерной действительности было всемогущество денег, наличие которых у заключенного спасало его от голодной смерти. Казалось бы, что в концлагере ОГПУ, который представлял собой часть страны строившей социализм, деньги, которые являются преимуществом в буржуазном обществе, должны были бы быть отрицательной величиной. В действительности ничего подобного не было. Имея на личном счету в финотделе концлагеря деньги, привезенные с собой или присылаемые родственниками, заключенный в пределах тридцати рублей в месяц мог приобретать до 1931 года в специальной лавочке для заключенных продукты питания: сливочное масло, сахар, белый хлеб, крупу, макаронные изделия, кофе, чай и какао. Иногда бывала и колбаса. Молока и молочных изделий заключенным не продавали. Кроме того в счет тех же тридцати рублей в месяц, заключенный до 1930 года мог питаться в платной столовой, где за умеренную цену, по которой снабжалась продуктами система ОГПУ, можно было сытно пообедать мясными блюдами, приготовленными не из соленой конины. В связи с начавшимся и на воле голодом в годы коллективизации платную столовую для заключенных закрыли в начале 1930 года, а отпуск продуктов из лавочки прекратили с начала 1931 года. Собственно лавочку не закрыли, но в ней исчезли все продукты за исключением чая и кофе-суррогата.
При ценах НЭПа на тридцать рублей можно было вполне сытно прожить месяц, даже не пользуясь питанием на общей лагерной кухне. Затруднением для подавляющего большинства заключенных с деньгами было отсутствие в их распоряжении очагов для приготовления пищи. В этом отношении явное преимущество было на стороне комсостава, обслуги рот, начальства из заключенных, словом всех тех, которые жили в отдельных коморках или имели касательство к последним. Эти коморки, а также канцелярии рот, как правило имели для обогревания печки с плитами, на которых и производилось приготовление каш, макарон и тому подобное. Зачастую безденежная обслуга рот – писаря, дневальные организовывали коммуны по питанию из заключенных с деньгами, не имевших доступа к очагам, и готовя пищу, преимущественно ужины для коммуны, члены которой покупали продукты в лавке, сами питались вместе с ними за их счет.
Поддерживали уровень питания и продовольственные посылки от родственников заключенных в течение навигации. С закрытием навигации заключенные лишались на полгода этой существенной поддержки родственников. Эти посылки приобрели особо важное значение с 1931 года, стали единственной легальной возможностью спасения заключенного от голодной смерти. Я подчеркиваю легальной возможностью, так как, имея деньги в концлагере, и в голод можно было, хотя и с опаской, покупать по спекулятивным ценам продукты питания, наворованные уголовниками из продовольственных складов.
Иностранцам, крестьянам, хозяйства которых были разорены в кампании «ликвидации кулачества», а семьи высланы на поселение на Дальний север, одиноким людям и отцам семейств, оставивших на воле детей на заработке их жен, ни денежной, ни посылочной помощи ожидать не приходилось и они составляли наибольший процент заключенных умиравших в концлагерях от истощения.
Итак, обрисовав значение зажиточности заключенных в концлагерях, все же надо вернуться к парадоксу режима концлагерей ОГПУ. Казалось бы что строй, установленный социалистической революцией, имеющий задачу улучшения материального благополучия бедняков за счет буржуазии, к которой большевики-чекисты причисляли всю интеллигенцию, должен был осуществить этот же принцип на практике и в концлагерях ОГПУ, этого наиболее яркого проявления диктатуры пролетариата над имущими классами. Казалось, что где, где, а в концлагерях должна была проводиться политика не дающая никаких привилегий представителям имущих классов, какими считались политзаключенные, никаких привилегий орудия могущества имущих классов – деньгам. В действительности ничего подобного не было. Заключенные с деньгами выживали, без денег погибали. И недаром довольно популярной песенкой в концлагерях была:
«Деньги, деньги, всюду деньги
Деньги правят, господа!
Ведь без денег расстреляют,
А за деньги – никогда!»
Процесс обратимости лозунгов октябрьской революции в их противоположность, на какой процесс указывали еще в двадцатых годах многочисленные оппозиционные группы идейных большевиков, начался и нашел наиболее яркое выражение уже в двадцатых годах в системе ОГПУ, учреждении порожденному диктатурой пролетариата, учреждении, в котором наиболее отчетливо выявилась сущность диктатуры большевиков народом.
Постепенное изменение точки зрения в отношении заключенных со стороны верхов большевицкой диктатуры, привело к рассматриванию каждого заключенного не только как лица неугодного диктатуре, а потому и подлежащего физическому уничтожению, но и как даровую рабочую силу для осуществления индустриализации страны, силу, которую надо использовать до конца, прежде чем физически уничтожить бесчеловечным лагерным режимом. Выдвинутый Френкелем план включения заключенных в производственные силы страны, все больше охватывал все стороны жизни концлагерей. От заключенных требовали не только работать, но и работать как можно больше и продуктивнее, чтоб заключенный не только покрывал ежедневно те 8 рублей, которые он стоил стране, находясь в концлагере, чтоб он не только обрабатывал своих тюремщиков, но еще и приносил государству доход. В сочетании с кнутом все большую роль стал играть пряник. Одним из этих пряников был приказ по ОГПУ о введении с конца 1931 года в концлагерях систему премиальной оплаты труда заключенных с выдачей им производственных карточек на приобретение дополнительно к пайку продуктов питания на премиальные деньги.
Политически приказ выглядел как распространение на концлагеря принципа социализма: от каждого по способностям, каждому по труду. Практически он дал большевицкой верхушке значительный прирост производительности подневольного труда, прироста, которого нельзя было получить только палочной системой. Заключенным этот приказ только до некоторой степени облегчил их материальное положение, главным образом безденежных одиноких заключенных, которые стали получать на руки хоть какие-то небольшие деньги. В целом, однако выиграло государство, так как количество полагавшихся по карточкам продуктов питания далеко не компенсировало затрачиваемые заключенным силы на перевыполнение и без того огромных норм, что только и давало право на получение премиальных. Погоня за перевыполнение норм приводило к скорейшему срабатыванию заключенного, ослабляло его организм, делая более легкой добычей болезней, приближая если не смерть, то инвалидность. Кроме того на Соловках ввиду отсутствия продуктов карточки не отоваривались. По ним можно было купить и то очень редко какую-либо свежую морскую рыбу, вроде глубоководных рыб, белух и даже тюленины, словом того что нельзя было из улова отправить в госторговлю за пределы лагеря или дать на стол вольнонаемным. Причем все это поступало в лавочку в таких ничтожных количествах, что доставалось лишь незначительному меньшинству, успевшему занять очередь раньше других заключенных.
Из этих трех видов даров моря самой съедобной была белуха из породы китовых. Глубоководная рыба имела очень толстый слой несъедобного медузообразного слоя, защищавшего рыбу от колоссального давления водяного столба на тех глубинах, где она водилась. Таким образом съедобного по весу вещества в этих рыбах вряд ли было более 10-15%. Мясо тюленя, в особенности осеннего, когда он запасается жиром на зиму, поглощая неимоверное количество сельди, до того воняет ворванью, что практически совершенно несъедобно без долгой и специальной обработки, которая несколько снижает отвратительный запах ворвани. Наиболее легко поддается обработке печень тюленя, которая и по величине не уступает печени теленка. Ее достаточно только два раза прокипятить с большим количеством лаврового листа, сливая каждый раз воду и тогда она почти полностью теряет свой специфический запах. Само мясо тюленя и после такой обработки очень пахнет ворванью и его есть можно только очень голодным. Жир тюленя надо мариновать с большим количеством специй и только тогда можно проглотить лишь небольшой кусочек. Многие его есть так и не могли.
Благодаря самоотверженности моей матери я не умер с голоду в концлагере на Соловках и даже не возобновился у меня туберкулезный процесс, залеченный перед арестом. Матери тоже нелегко было на воле. На скудную зарплату, получая продукты только по карточкам, гонимая властями и за меня и за покойного моего отца, моя мать, в безграничной любви ко мне, отрывала от себя последний кусок и посылала мне продовольственные посылки и деньги, реализуя оставшуюся мебель и книги, обменивая в Торгсине на продукты для меня, уцелевшие на пальцах кольца и столовое серебро. Продуктовые посылки я получал во время навигации каждый месяц, цензорам ИСЧ, которые вскрывали и тщательно осматривали посылки при выдаче, мое лицо очень примелькалось и я чувствовал зависть ко мне этих чекистов-заключенных, имевших власть надо мной и в тоже время менее сытых, как им казалось, чем я, хотя, получая паек вольнонаемных чекистов, голода им испытывать не приходилось. Перед закрытием навигации каждый год моя мать особенно старалась снабдить меня продуктами на долгую зимовку. Я помню, как на зимовку 1932-33 годов, в числе других продуктов, она прислала мне три литровых банки торгсиновского топленого масла. Это было по 400 грамм на месяц, по 13 грамм на день. Какое это было великое подспорье в ту, особенно голодную, зимовку.
С открытием навигации 1933 года я получил сразу две посылки. Я нес оба ящика в мешке на плече и какая вереница заключенных тянулась за мной, выпрашивая хоть один сухарик. Они еле двигали ногами, я тоже был очень голоден, но я не мог им отказать и пока я дошел до нашего домика одной посылки с сухарями почти полностью не стало. Делиться содержимым приходилось всегда, в особенности с моими друзьями, положение которых было хуже моего, хотя и они получали посылки, но значительно реже и менее калорийные. Возможно это происходило потому, что их родители, хотя по всем признакам и были лучше обеспечены моей матери, не уясняли себе в полной мере размеров голода испытываемого их детьми в концлагере с одной стороны, с другой их заботы распылялись на всех своих детей. У моей же матери я был единственный сын, кроме меня у нее никого не осталось из ближайших родственников, о ком она должна была бы еще заботиться.
Особенно печально было положение моего друга и контролера электросети Н., который не получал никакой помощи извне. В особо голодную зимовку 1932-33 годов мне приходилось делиться с ним всем. Он стеснялся, отказывался и стараясь, хоть как-нибудь внести лепту в наше общее питание, иногда притаскивал перловую крупу из продовольственного склада, куда ходил под видом проверки состояния электропроводки. Перловая каша с несколькими граммами топленого масла, присланного мне на зиму матерью, не так уж плохо поддерживала нас на ногах.
Таким же одиноким, без помощи извне, был и Зиберт, но он от меня, как от своего подчиненного, никогда ничего не брал, как ни старался я его угощать. Правда, во времена нашей совместной работы голод в концлагере не был еще таким обостренным.
Привезенный на Соловки, после шестимесячного тюремного заключения под следствием, во время которого я находился исключительно на тюремном пайке, вследствие нахождения под запретом каких-либо передач от матери, я был очень истощен. А пробыв около месяца на лагерном пайке, еще значительно меньшим, чем тюремный, я совсем еле ноги таскал. И когда, как я уже рассказывал, за 30 рублей мне через Гейбеля удалось получить право пользоваться своими деньгами, я стал пользоваться платной столовой, которая весьма восстановила мои силы. Далее с переходом в общежитие электропредприятий, имея под руками плиту, и, подружившись с М. и А., вместе с ними я всегда был с ужином, из продуктов присылаемых нам в посылках и покупаемых в лавочке для заключенных. В дальнейшие годы моего пребывания на Соловках в дополнение к посылкам, в особенности во время зимовок, приходилось покупать и краденые продукты по спекулятивным ценам. Летом занимался добыванием даров природы, в виде грибов и ягод в лесу и моллюсков в море.
Покупать краденые продукты было опасно и однажды мой друг Н. и я чуть крупно не влипли с покупкой тюленьего жира в мае 1933 года. Это был конец зимовки, когда пришли к концу не только посылочные запасы, но и запасы продовольствия в лагерных складах, откуда кое-как Н. добывал перловую крупу. И хотя к тому времени мы оба получали «сухой паек» и, следовательно, «не делились» им с многочисленной обслугой общей кухни, тем не менее мы очень голодали, так как размеры пайка, о чем я говорил выше, были ничтожны. Голод мы не могли утолить, добавляя к этому пайку молодую крапиву в таком объеме, что все наши «блюда» были совершенно зелеными. Крапива в это время года была единственным даром природы.
Н. купил у почтарей тюленьего жира, который из-за своего отвратительного запаха в нормальных условиях был совершенно несъедобным. Поморы употребляли его лишь как технический жир для смазки сапог под названием ворвань. Для нас же эта ворвань была вкуснее любого деликатеса, мы ею поужинали и впервые за долгие месяцы уснули с чувством сытости. Чтобы ворвань не испортилась, Н. вынес ее на ночь на чердак, где она лучше сохранилась на холоде, так как в мае было еще ниже нуля. За сохранность на чердаке ценной для нас покупки мы не беспокоились, так как на Соловках уже давно были съедены все крысы, а вороватые чайки перестали гнездиться на стенах Кремля во избежание полного истребления на пищу голодающими заключенными.
Сытыми мы блаженно проспали ночь, не подозревая, какой опасности мы подвергались из-за этой ворвани. Всю ночь весь концлагерь повергся повальному обыску, для которого был мобилизован весь состав дивизиона войск ОГПУ и ВОХРа. Искали остатки тюленьей туши, чтоб допросить и покарать штрафизолятором тех заключенных, у которых обнаружат или будут найдены признаки купленной и съеденной тюленины. Оказалось, что почтари убили в море тюленя и допустили крайнюю неосторожность, бросив снятую с него шкуру прямо на берегу, а тушу распродали голодающим заключенным с большой прибылью для себя. Патруль, делавший обход берега, нашел злосчастную шкуру и начальство было вне себя, так как каждый убитый тюлень должен был сдаваться на Кожевенный завод, где, выполняя государственный план, из тюленьих шкур выделывали превосходное шевро.
Многие заключенные, у которых во время ночного обыска были обнаружены остатки тюленя или даже только пропахшая тюленем посуда, получили штрафизолятор и на допросах выдали почтарей, у которых купили тюленину. Почтари получили еще более длительные сроки содержания на штрафных работах.
Мы с Н. вышли сухими из воды – у нас обыска не было. Только тогда мы поняли на каком высоком счету мы находились у чекистского начальства, у которого мы были вне подозрения и в отношении покупки краденых продуктов. Пожалуй такая репутация о нас сложилась потому, что ни Н., ни я не только ни разу не сидели в 11 штрафной роте за столь долгое пребывание в концлагере, но и ни разу не были замечены даже в каком-нибудь пустяковом нарушении лагерной дисциплины. Такое наше поведение сыграло немалую роль в оказании нам самим начальником Соловецкого отделения концлагеря чекистом Солодухиным величайшей милости – разрешения на получение нам двоим сухого пайка и всего только за месяц до происшествия с этой злосчастной для других заключенных ворванью.
В апреле 1933 года Солодухин в сопровождении высшего соловецкого начальства внезапно предпринял обход всех помещений концлагеря. К этому времени нас переселили из домика ДСБ поближе к электростанции в небольшой старый барак, какое-то подсобное помещение того же Дорстройбюро. С помощью электромонтеров, из которых один оказался хорошим плотником, здание было приведено в надлежащий вид, даже побелено внутри. Пол у нас всегда был чисто вымыт, инструмент лежал в порядке на полках, деревянные диваны, на которых мы спали, были аккуратно застланы одеялами. На нагрянувшего к нам внезапно Солодухина все это произвело благоприятное впечатление и он даже похвалил меня, как администратора, за образцовую чистоту и порядок. Уловив благодушное настроение Солодухина, я тут же подал ему, написанные наскоро мною и Н. ходатайства о переводе нас с общей кухни на сухой паек. Ходатайство было тут же удовлетворено росчерком пера высокого посетителя.
Сухой паек в концлагере получали единицы, только те заключенные, которые по роду выполняемой работы, и особой благонадежности разрешалось жить вдали от Кремля мелкими группами или в одиночку (лесничие, маячные сторожа, рыбаки). Вследствие дальности расстояния от их местожительства до Кремля, они не могли питаться на общей кухне и им выдавались продукты сухим пайком. Заключенные заведующие предприятиями могли получать сухой паек, как привилегию за ответственную работу. Сухой паек имел то большое достоинство, что получавший его заключенный полностью съедал все положенные в пайке продукты, не «делясь» с многочисленной обслугой общей кухни и их прихлебателями. Но сухой паек имел и отрицательную сторону, так как сам голодающий заключенный должен был распределить на неделю полученные продукты приварка, а хлеб на три дня. Ну как тут было не съесть лишний кусочек хлеба или вообще при получении за один присест не съесть весь килограмм 50 грамм хлеба? Как мы с Н. ни крепились, а хлеба у нас никогда не хватало на третий день и последние сутки перед очередным получением хлеба мы всегда были без него. Надо было обладать железной волей, чтобы не съесть больше того, что полагалось на день.
В первые годы моего пребывания на Соловках в 1929-30 годах добывать дары природы – ягоды и грибы можно было с большой опаской, так как лагерным режимом строжайше было запрещено углубляться в лес, приравнивая нахождение заключенного в лесу побегу из концлагеря. Патрули солдат дивизиона войск ОГПУ и ВОХРа все время рыскали по лесу и захваченных в лесу заключенных отправляли в 11 штрафную роту, штрафизолятор на Секирную гору, а некоторым добавляли срок заключения в концлагере. 1931 год, с усилением голода, принес ощутимые перемены в части доступности леса для заключенных. Толпы голодных наводнили лес в поисках добавочного питания, никакие патрули не могли справиться с этим мощным массовым движением и начальству пришлось отступить, почти полностью упразднив патрули в лесах. Грибы и ягоды хотя и не давали питания, но все же имитировали некоторую сытость, почему в течение короткого лета все же было сытнее и для заключенных не имевших помощи посылками.
После появления первых грибов, созревала морошка, затем голубика и черника, а там брусника, клюква и в августе после первых заморозков собиралась рябина. Организм заключенного запасался витаминами на зимовку.
В охоту на моллюсков меня вовлекла группа китайцев, работавших на электростанции. Моллюск представлял собой двустворчатую черную снаружи раковину, примерно 8-12 см в длину, содержащую съедобную часть только в объеме наперстка, завернутого в бесконечную мантию, заполняющую весь остальной объем раковины. Это были не трепанги или другие более съедобные, даже для китайцев, моллюски, но все же есть что-то надо было и, несмотря на некоторый риск быть замеченными береговыми постами, весной 1933 года я несколько раз ходил с китайцами за мидиями и несколько раз мы ели превосходный раковый суп, жирный и питательный. Правда на литр супа надо было набрать не менее сотни раковин.
Во время отлива мидия зарывается в песчаное дно, оставляя для дыхания едва заметное отверстие в песке. Искусство, которому меня обучили китайцы, заключалось в том, чтобы бредя вслед за отливом по дну моря, заметить такое отверстие и детским совком изъять из песка раковину. Охотились на очень отлогом берегу, чтобы отлив оставлял нам побольше площади для розыска мидий. Такой берег, к которому вплотную подходил перелесок, отделявший Рабочий городок от берега был на южной оконечности Соловецкого острова.
На нашу беду бухточка, дно которой обнажалось при отливе и на дне которой мы производили поиск, хорошо просматривалась с двух постов войск ОГПУ выдвинутых на мысы, образовывающие бухточку. Подход к берегу был строго воспрещен заключенным, как попытка к побегу и в отношении берега начальство не делало никаких скидок за все время существования концлагеря. В один из вечеров в конце мая, когда стояли белые ночи, мы очень увлеклись охотой за мидиями, забыв придерживаться больших валунов, и нас заметили с постов, открыв по нашей группе ружейный огонь, как по беглецам. Перебежками от валуна к валуну мы устремились к берегу, чтобы как можно скорее добраться до леса и скрыться в нем, опередив высланные на перехват с постов патрули. Мы благополучно проскочили и нас не поймали, но я убедился насколько ненадежной защитой от пуль являются природные камни, потому что при попадании в них пули веером разлетаются мелкие осколки. Можно было подумать, что по нас стреляют разрывными пулями. Чудом никто из нас не оказался ранен этими осколками.
После этого случая на охоту за мидиями я больше не ходил. Открылась навигация, я получил посылки, а затем меня вызволили с Соловков в более сытный концлагерь на материке, в г. Кемь, где был колхозный базар, которым я мог пользоваться, имея хождение по городу без конвоя.
Обмундирование, выдаваемое заключенному состояло из нательного белья: рубашка и кальсоны для мужчин, сорочка для женщин, из бельевой ткани с завязками вместо пуговиц, гимнастерка и брюки на пуговицах с завязками внизу штанины из защитного цвета легкой ткани и короткого бушлата из серого солдатского сукна. По желанию заключенный мог получить еще матерчатый ремешок для подпоясывания. Головной убор виде черного треуха из легкой материи с не менее легкой подкладкой выдавался не имевшим собственной теплой шапки и служил головной убор круглый год. Кожаные ботинки на кожаной подошве с легкими портянками выдавались только тем рядовым заключенным, которые истрепали свою собственную обувь до такой степени, что в лагерных мастерских ее уже нельзя было подчинить. Необходимость выдачи треуха и ботинок определялось командиром роты или каптенармусом, что давало повод для распространения блата.
Заключенным работавшим на открытом воздухе на зиму дополнительно выдавались стеганые ватные телогрейка и брюки и валенки. Последние были очень дефицитны и их получали немногие заключенные находившиеся зимой на работах на открытом воздухе и тоже только по блату.
Никакого постельного белья, одеял, сенников, подушек не полагалось, так же как и носков.
Все выданное обмундирование заносилось в формуляр, хранившийся в канцелярии роты. На руках заключенный не имел никакого документа о полученном обмундировании, что служило источником постоянных недоразумений о количестве выданных заключенному предметов обмундирования и вызывало приписки в формуляры заключенных в их отсутствие каптенармусами, особенно уголовниками, с целью хищения обмундирования. При смене обмундирования каптенармусы делали отметки в формуляре. При отправке на этап формуляр передавался из канцелярии роты в УРЧ для запечатывания в личное дело заключенного, которое следовало за ним в новое местопребывание заключенного. При освобождении из концлагеря заключенный должен был сдать все числящееся за ним обмундирование, согласно записи в формуляре, и переодеться в свое собственное гражданское платье. Обычно у долгосидевших и шпаны собственной одежды не было и тогда, с разрешения начальника отделения концлагеря такие заключенные взамен сдаваемого обмундирования, получали лагерную одежду третьего срока носки, то есть сильно изношенную в заплатах. В таком виде их и выпускали на волю.
По виду выполняемых работ, некоторые заключенные дополнительно получали, как спецодежду брезентовые куртки, брюки и рукавицы. На электропредприятиях такую одежду получали кочегары, машинисты и масленщики. Лесорубы, строители получали только брезентовые рукавицы.
Иначе обмундировывались заключенные из комсостава, которым шили из солдатского сукна бушлаты подлиннее, как полупальто, до колен с черными воротниками и отворотами обшлагов на рукавах. На рукав слева нашивались знаки различия – черные полоски – три для командира роты, две для его помощников и одна для комвзвода. Особенности бушлатов комсостава состояли еще и в том, что они имели четыре наружных кармана, два расположенных, как обычно, и два с вертикальными разрезами на животе для рук. Это было до некоторой степени символом указывающим на непричастность комсостава к физическим работам, на которые руками была обречена вся масса заключенных. Неработающие руки комсостава могли покоиться в специальных карманах.
Комсоставу также выдавались сапоги, портянки, валенки, стеганые ватные телогрейки и брюки. В привилегированном положении получения валенок, сапог, стеганного ватного обмундирования были и заключенные работники ИСЧ, УРЧ, начальники частей отделения концлагеря, работники снабжения. Пользуясь услугами ремонтно-обмундировочных мастерских, все эти, так называемые «придурки» (умный при дураке начальнике), подгоняли обмундирование по своему росту и фигуре и имели щеголеватый вид. К тому же по потребности, а не по нормам, часто меняя обмундирование на новое, все эти привилегированные заключенные, по сравнению с остальной массой, оказывались в несравненно более выгодном положении и в области одежды.
Гимнастерки и брюки выдавались заключенному для бессменной носки на год, после чего, опять таки по усмотрению комроты или каптенармуса, обмундирование могло быть заменено на другое, но редко новое, так как последнее выдавалось по блату. Обычно сменяли рваное обмундирование на второй срок годности, то есть уже ношенное, или третьего срока годности то есть в заплатах. Наиболее аккуратные заключенные обычно сами ремонтировали свое обмундирование, чтобы не ходить с дырками.
Нательное белье заключенным меняли в бане при помывке на чистое. Тут не соблюдались ни размеры, ни качество белья. Можно было получить и с заплатами и совершенно новое, но во всяком случае стиранное. С гимнастерками и брюками в этом отношении дело обстояло очень плохо. Стирка их была предусмотрена только после сдачи, а потому до смены обмундирования год и более заключенные ходили в одних и тех же гимнастерках и брюках, которые были естественно загрязнены, почему все заключенные имели неряшливый вид. Самим заключенным, помещавшимся в ротах, стирать обмундирование было негде. Элита концлагеря имела возможность отдавать в стирку свое обмундирование частным порядком за плату или даже даром, преимущественно тем же прачкам-китайцам, которые работали в лагерной прачечной.
По уставу концлагеря заключенным запрещалось под страхом наказания носить свою гражданскую верхнюю одежду. Под верхней одеждой заключенные могли носить собственное белье, включая и теплое, до этого начальству не было дела. Большинство заключенных зимой, в нарушение устава, если не получало ватных брюк, носило собственные, если они уцелели от долгих лет заключения в концлагере. И это не вызывало противодействия со стороны лагерной администрации. За четыре года, с 1929 по 1933, которые я пробыл на Соловках у меня сложилось впечатление, что заключенные соблюдали устав об обязательном ношении лагерного обмундирования только из желания сохранить собственную одежду, в которой они были арестованы. Каждый все же надеялся на выход живым из концлагеря. Однако один раз мы почувствовали тяжелую лапу лагерных чекистов и в этой области.
В конце 1930 года кто-то из начальства вспомнил о параграфе устава, запрещающее ношение заключенными гражданской одежды и в один прекрасный день патрули в концлагере стали проверять не только «сведения» у встречных заключенных, но и забирать в комендатуру шедших в гражданских брюках или пальто, или в собственных шапках. Первые из забранных попали в 11 штрафную роту на несколько суток. Поскольку она быстро была набита до отказа, последующие забранные патрулями заключенные в гражданской одежде отделались разносом дежурного коменданта и разведены по ротам, где помещались, без всякого взысканий.
С течением времени в обмундировании заключенных происходили перемены. Так например, я одним из последних привезенных в 1929 году на Соловки успел получить бушлат из солдатского сукна без подкладки, который прослужил мне весь срок моего заключения и на Соловках и на материке. Эти бушлаты были сшиты из дореволюционных запасов Русской армии, которые к концу 20-х годов иссякли. Привозимые в концлагеря заключенные уже с конца 1929 года таких бушлатов не получали. Взамен их выдавались стеганные ватные куртки, служившие пальто и зимой и летом. С их выдачей прекратилось получение заключенными работавшими на открытом воздухе стеганных ватных телогреек. Также иссякли и кожаные ботинки. А потребность заключенных в обуви все росла, так как шли годы их заключения и собственная обувь приходила в полную негодность.
В начале тридцатых годов, когда и во всей стране отсутствовала кожаная обувь, заключенным стали выдавать так называемые «шанхайки». Эту обувь нельзя иначе назвать, как чудовищным сооружением для человеческих ног. Шанхайки представляли собой «ботинки» на сплошной деревянной подошве, толщиной около дюйма, без каблука. К этой деревянной пластине, лишь отдаленно повторяющей изгибы человеческой ступни, гвоздями снаружи была прибита выкройка верха ботинка из брезента. Помимо того что такая обувь была очень холодная и быстро промокала, носить ее было весьма тяжело, и не только из-за веса подошвы, но главное, вследствие отсутствия сгиба ее. Бежать в такой обуви в прямом и переносном смысле этого слова заключенный никак не мог, а в переносном смысле это и устраивало чекистское начальство.
Хождения в шанхайках я лично избежал, имея две пары сапог и галоши, которые я носил бессменно, когда я износил на сапогах подошвы до ноля. Выручило меня и то обстоятельство, что, когда я попал в элиту лагеря, начальник части снабжения дал разрешение сапожной мастерской истратить одну пару кожаных подметок на ремонт моих собственных сапог. Как и все, я носил лагерное обмундирование, заменяя только на зиму легкие лагерные брюки на суконное галифе, в котором я был арестован. Когда же оно износилось, я очень мерз в легких лагерных брюках. Несмотря на мою принадлежность к элите концлагеря, ватных брюк я так и не мог добиться. Соловецкое отделение концлагеря к этому времени почти совсем утратило свое производственное значение, превращаясь все более в штрафное и кроме обмундирования третьего срока – рваного и в заплатах – Соловки ничего не имели. «Не советую и брать, - сокрушенно разводя руками, отвечал на мою просьбу начальник части снабжения, - чтоб не иметь Вам неприятностей в энских местах». Возможно, он был и прав, так как с наплывом на Соловки уголовников, ведших развратную жизнь, количество венерических больных все увеличивалось и неизвестно после кого я надел бы эти ватные брюки.
От ношения черного треуха я тоже оказался избавлен. Кепка летом, меховая шапка зимой спасали меня от холода. В день вспышки соблюдения параграфа устава о ношении лагерного обмундирования в собственной меховой шапке в лапы патруля я не попал. На другой день, напялив черный треух, я пошел к начальнику Кремлевского лагпункта, сослался на перенесенную мною болезнь костей черепа, требующую постоянного сохранения головы в тепле, и милостиво получил разрешение носить собственную меховую шапку. На неграмотного начальника, по-видимому, подействовало мудреное медицинское название перенесенной мною болезни. Кстати сказать, разрешение в виде резолюции на моем заявлении так мне и не понадобилось, потому что вспышка проверки параграфа устава на другой же день угасла и ни один патруль ни разу не поинтересовался почему у меня на голове собственная меховая шапка. Однако заявление с резолюцией зимой я носил всегда при себе.
Жилище для заключенных на Соловках не представляло какой-либо заботы для чекистского начальства. Захваченный Соловецкий монастырь имел достаточно благоустроенного жилья для 500 монахов и более 1000 трудней, временно живших и работавших по обету в Святой обители. При открытии концлагеря в 1921 году оставшихся монахов стеснили в трехэтажном, так называемом, Сельдяном корпусе, а заключенных поместили в монашеских кельях, закрытых соборах, деревянных двухэтажных домах за Кремлем, где частично жили трудни. Двухэтажные деревянные здания гостиниц для богомольцев за Кремлем были отведены под женскую роту и дивизион войск ОГПУ. В кельях, рассчитанных на проживание одного-двух монахов были поселены по пять-шесть заключенных на топчанах, в соборах, разделенных перегородками по несущим колоннам на камеры, были поселены по 250 заключенных в каждой. В этих отгороженных камерах были сделаны трехъярусные нары. В домах трудней и в женроте были сделаны двухъярусные нары. Хотя кубатуры воздуха не хватало, в кельях и домах воздух был спертым, но стены не пропускали холода, над головами заключенных была крыша с самого начала их заключения в концлагере.
Такие жилищные условия на Соловках выгодно отличались от условий других отделений Соловецкого лагеря Особого назначения ОГПУ, расположенные на материке, где заключенные пригонялись на территории девственного леса и сами должны были строить себе жилье, находясь сначала просто под открытым небом, в лучше случае в палатках, в любую погоду, в любое время года почти у полярного круга. Дело осложнялось еще тем, что жилье для себя заключенные строили в последнюю очередь, потому что последовательность работ по созданию концлагеря была такова: вырубка леса, корчевка пней, обнесение колючей проволокой территории концлагеря, постройка вышек для часовых, постройка жилого барака для своих тюремщиков, затем общей кухни, бани, складов, производственных зданий и только после всего этого бараков для жилья заключенных с двойными сплошными нарами. Строительство жилых бараков затягивалось еще и по той причине, что основная масса заключенных, пригнанных на территорию концлагеря направлялась на выполнение производственного плана (рытье канала, лесозаготовки, добыча камня, руды, строительство дороги) и только незначительная часть выделялась на строительство жилья.
Такой путь до жилья проходили заключенные при организации и всех остальных концлагерей, опутавших в тридцатых годах густой паутиной все необъятные просторы нашей страны.
Мой друг М., вывезенный с Соловков на строительство Беломорско-Балтийского канала в записке, нелегально переданной мне через командировочного заключенного, писал «Старайся, чтоб тебя не вывезли с Соловков, здесь со своим слабым здоровьем сразу погибнешь. Только благодаря тому, что я работаю электромехаником гаража, я сплю в палатке, а не под открытым небом, как другие. И то каждое утро я поднимаюсь с заложенной носоглоткой и совершенно разбитый, так как сон в холоде не дает отдыха организму». А М. был очень крепкого здоровья и зима только начиналась.
Сколько заключенных до вселения в бараки погибало от непогоды, сколько убито конвоирами при «попытке к бегству» при отсутствии видимой границы концлагеря до установки проволоки, - никто сказать не может. Поселение заключенных на пустом месте очень увеличивало число смертей рабов ОГПУ.
С усилением террора во второй половине двадцатых годов, количество заключенных на Соловках стало расти и было приступлено к возведению бараков южнее Кремля, так называемого «рабочего городка». Построено было восемь бараков, в которых были помещены только те заключенные-краткосрочники, которые, по мнению чекистов были менее склонны к побегу и работали рабочими, техниками на предприятиях и стройработах.
В каждом бараке помещалось не более 100 заключенных и жилищные условия в них были сноснее, поскольку нар не было, спали на топчанах и проходы между топчанами были нормальные.
Катастрофа с жильем для заключенных произошла на Соловках в октябре-ноябре 1929 года, когда было арестовано очень много людей по всей стране, других концлагерей еще не было и на Соловки, к трем тысячам бывших заключенных, добавили еще 18 тысяч. Все кельи, соборы, бараки были до отказа забиты заключенными, но мест не хватало. Стали помещать в конюшни, заставляли рыть землянки. Привоз такой массы заключенных в столь короткий срок не дал возможности, если бы даже чекистское начальство хотело, построить нужное количество бараков с двойными нарами. Кстати, ни одного нового барака так и не было построено. Жилищный кризис отчасти разрешился тотчас же вспыхнувшей эпидемией сыпного тифа, молниеносно распространившейся в такой скученности на 16 тысяч заключенных. За несколько месяцев эпидемия унесла в могилу восемь тысяч. Оставшиеся тринадцать тысяч заключенных уменьшились еще к весне 1930 года от заболевания цингой. Частично, главным образом краткосрочников, из оставшихся в живых, с открытием навигации отправили на материк во вновь создаваемые отделения Соловецкого концлагеря. И все же заключенных на Соловках осталось больше в два раза, чем было до осени 1929 года и жилищные условия весьма ухудшились по сравнению с летом 1929 года и предыдущими годами. Кельи уплотнили еще больше, в бараках взамен топчанов поставили двухъярусные нары.
Дальнейший вывоз больших этапов заключенных на строительство Беломорско-Балтийского канала в 1930-1931 годах, не улучшил жилищных условий, так как на Соловецких островах со вновь привезенными все же оказалось около трех тысяч заключенных, а жилплощадь уменьшилась вследствие изъятия соборов под фабрику ширпотреба. Проживавшими в соборах заключенными снова уплотнили кельи и бараки.
Большой соловецкий пожар 1932 года еще более сократил жилую площадь для заключенных. Бараки Рабочего городка были заняты фабрикой ширпотреба, а проживавшими в бараках снова уплотнили кельи и бараки сельхоза. Соборы так и не восстановили и новых бараков под жилье не построили. Проживание заключенных, вследствие большой скученности, стало на Соловках хуже, чем даже на материке в бараках.
Благодаря отеческим заботам обо мне моих старших друзей, я всего лишь около полугода, в начале моего пребывания на Соловках, испытал сам жилищные условия рядового заключенного – месяц в 13 роте на трехъярусных нарах, два месяца в до отказа набитой келье, где топчаны стояли так плотно, что протиснуться можно было только боком и два с лишним месяца в деревянном бараке, где топчаны стояли несколько просторнее. А многие миллионы и миллионы заключенных так и жили свой долгий срок без просвета, без надежды на улучшение невыносимых жилищных условий в концлагерях.
Голодные и холодные, обутые в шанхайки, тяжело ступая по глубоким снегам Крайнего севера, десятки миллионов заключенных, подгоняемые полуночными демонами, шеренга за шеренгой всходили на Голгофу ХХ века, на вершине которой не светился яркий блеск спасения, а лишь мерцало неверным красным пламенем, маня и обманывая, боясь малейшего дуновения, учение нового еврейского мессии – Маркса.
РАССЕКАЯ ЖИЗНИ МРАК…
Рассекая жизни мрак,
Соловецкий женбарак
Словно лампочка во тьме
Взоры тянет все к себе.
Так начиналось стихотворение написанное политзаключенным поэтом Ярославским и поданное им мне для помещения в стенгазету Электропредприятий, которую я редактировал. Далее в стихотворении следовали строфы о средствах применяемых тюремщиками для пресечения столь «преступного» направления взглядов заключенных:
«Изолятор сиф иль штраф
Охлаждают пылкий нрав».
(женбарак – сокращенно женский барак, то есть женская рота; сиф – сифилитический, официально венерический изолятор; шраф – штрафной изолятор).
Соловецкий женбарак, как в просторечии называлась бывшая монастырская гостиница недалеко от южного берега бухты Благословения, служил местожительством заключенных женщин – женской роты. Двухэтажное строение коридорной системы имело в первом этаже четыре громадных камеры, в которых на нарах содержались 30-40 заключенных женщин в каждой. На втором этаже помещалась канцелярия роты, при которой жили командирша роты, две ее помощницы и несколько командирш взводов, все из заключенных. Там же были камеры поменьше, очевидно бывшие семейные номера, в которых на топчанах, имея даже тумбочки на несколько человек, жили по четыре-пять, тоже заключенные женщины.
К чести командирш они уважали политзаключенных женщин за их дисциплинированность, хотя сами сидели по бытовым и даже уголовным статьям, и размещали в этих камерах политзаключенных, как бы несколько отделяя их от массы уголовниц, которые были аморальнее, чем даже уголовники-мужчины. В первом этаже в общих камерах уголовницы вели себя настолько отвратительно, устраивали такие скандалы и между собой и в отношении командирш, что последних можно было только пожалеть. Чекистское начальство весьма ценило командиршу женской роты, в должности которой она пробыла бессменно несколько лет, поскольку она была бандершей и умела усмирять проституток. В изощренности самой нецензурной ругани уголовницы значительно превосходили мужчин-уголовников.
Здание женбарака было обнесено высоким забором с колючей проволокой наверху и проходной будкой у ворот, в которой круглосуточно дежурил солдат войск ОГПУ и дежурный по лагерному старостату заключенный комвзвод мужчина. Выход женщин из женбарака производился только строем под конвоем дежурных комвзводов мужчин. Так женщин водили на работу, в баню, в театр. Лишь единицы из женщин-заключенных, преимущественно работницы управления концлагеря (секретари-машинистки, телефонистки, медицинская сестра) имели индивидуальные «сведения» и ходили на работу без конвоя, но у них тщательно проверялись по «сведениям» отметки времени об уходе их из женбарака, и с работы и приход их обратно. Вход мужчин в женбарак мог быть только по служебным делам, работникам ИСЧ по личным удостоверениям, прочим по разовым пропускам выдаваемым лагстаростой по заявке начальника соответствующей службы. Вольнонаемное и заключенное чекистское начальство имели право беспрепятственного входа в женбарак. Контролеры электросети для осмотра электропроводки и учета расходованной электроэнергии входили по своим служебным удостоверениям, а дежурных электромонтеров по вызову для исправления электропроводки через проходную будку проводила дежурная по женбараку комвзвода.
Предпочитая вести монашеский образ жизни, мы, контролеры электросети, ходили в женбарак только в силу большой необходимости осмотра электропроводки, предпочитая из месяца в месяц проставлять в ведомости одну и ту же мощность установленных там электролампочек, чтобы не ощущать той атмосферы распущенности, не слышать разнузданной ругани, которыми отличались уголовницы, нарочно еще при приходе мужчин демонстрировавшие глубины своего нравственного падения. Лично я был в женбараке всего один раз и насмотрелся и наслушался таких вещей, что совестно было рассказывать даже мужчинам.
Каждого входящего на территорию женбарака мужчину встречали колокольным звоном. Дежурная комвзодша била в колокол, перекочевавший с монастырской колокольни, тем самым предупреждая женщин находившихся в здании о приходе мужчины, чтобы женщины могли бы одеться и привести себя в порядок, чтобы все обстояло прилично. Мне кажется, что на этот сигнал мало кто обращал внимание или даже нарочно раздевался, потому что и меня встретили колокольным звоном, но когда комвзводша меня водила по камерам, уголовницы какие только ни принимали позы в натуральном виде, подкрепляя руганью и жестами – шабаш ведьм вероятно был бы ничто по сравнению с тем, что вытворяли эти падшие существа.
Взаимоотношение в концлагере заключенных разного пола были очень просто регламентированы на бумаге. Устав концлагеря велел вести себя заключенным обоих полов так, как будто лиц другого пола одновременно на территории концлагеря не существовало. Так запрещалось всякое общение заключенных разных полов – встречи в помещениях, совместные прогулки, разговоры, приветствия. Такой запрет распространялся и на мужа и жену, сидевшем в одном концлагере, лагпункте. Если лица, поступавшие в монастырь, добровольно давали обет, все же совместных монастырей не было, дабы убежденных в безбрачии людей не подвергать искушению. Чекисты же налагая такой обет принудительно устроили совместные концлагеря! И только значительно позже, в конце тридцатых годов, когда массовые репрессии обрушились и на женскую часть населения страны и появились многочисленные политзаключенные – «жены врагов народа», чья вина была только в том, что они были женами своих мужей, чекисты открыли особые концлагеря для заключенных женщин, изъяв их из мужских концлагерей, тем самым кардинально разрешив вопрос разделений полов в концлагерях. В двадцатых же и до середины тридцатых годов политзаключенных женщин было очень мало, да и процент заключенных женщин уголовниц ко всему количеству заключенных мужчин был также мал.
На Соловках и в других отделениях концлагеря, находившихся на материке, чекисты сами нарушали устав, запрещающий общение заключенных женщин и мужчин между собой, посылая и тех и других на совместные работы, где и завязывались знакомства, перераставшие в мимолетные или более прочные связи. На Соловках женщины работали на общих работах, в продовольственных складах, на штатных должностях швей в Пошивочно-обмундировочной фабрике. На работу и с работы их водили под конвоем, но на рабочих местах не мог же мастер заключенный-мужчина не давать указания заключенным женщинам, или такой же кладовщик, работавшим на складе женщинам как перебирать картофель, лук и тому подобное, работавших по одной в канцеляриях заполненных заключенными мужчинами и о телефонистках, находившихся на работе в окружении механиков и дежурных электромонтеров?
Оторванные на многие годы от своих жен, малоустойчивые в строгих правилах семейного благочестия, многие мужчины-заключенные, в этих условиях льнули к заключенным женщинам, а те – уголовницы с отсутствием какого-либо понятия о женской чести, к тому же еще в подавляющем большинстве профессиональные проститутки, легко сходились и расходились с любителями женского пола, к тому же и в погоне за соответствующим гонораром. Крылатая поговорка, ходившая по концлагерю: «Один для удовольствия, другой для продовольствия», - довольно метко отражала психологию и поведение заключенных уголовниц, нелегально поддерживающих одновременно и мимолетные связи с приглянувшимся им заключенным уголовником и с случайным партнером по работе за денежки или продукты.
Кавалерами «для продовольствия» были главным образом те заключенные, которые, благодаря своей близости к пищевым продуктам – кладовщики, обслуга кухни – могли накормить голодающих женщин. Доходными кавалерами считались также заключенные начальнички из сферы обслуживания – заведующие и мастера пошивочно-обмундировочной и сапожной мастерских, комсостав и работники УРЧ и ИСЧ, имевшие власть, а последние еще и повышенный продовольственный и денежный паек. Были не безгрешны и отдельные заведующие производствами, а также и заключенные получавшие поддержку от семьи. Не брезговали женским обществом и солдаты дивизиона войск ОГПУ и ВОХРа. Перечисленные выше категории кавалеров, на уголовном жаргоне «хахали» в большинстве проживали в одиночку вне рот, либо в отдельных коморках при предприятиях, мастерских, складах, либо, как работники УРЧ и ИСЧ в привилегированных общежитиях по два человека в комнате. Это давало им возможность с комфортом принимать у себя прибегавших к ним заключенных женщин, когда последним удавалось обмануть бдительность конвоя и забежать по дороге на работу или с работы или исчезнуть на ночь из женбарака.
Чекистская администрация концлагеря вела упорную борьбу с развратом путем постоянных ночных и дневных набегов патрулей войск ОГПУ и ВОХРа на коморки заключенных-одиночек и ловлей теми же патрулями встретившихся парочек и прочесыванием лесов. Большую помощь патрулям в обнаруживании парочек оказывали сами заключенные обоего пола, донося из ревности, зависти на своих же товарищей и подруг. Кроме того усиленная слежка за парами начиналась и по рапортам комсостава, которые наблюдали за заключенными в театре в антрактах, кто из них переглядывались между собой. Из лап патруля заключенные попадали в штрафную роту, мужчины в 11, а женщины на Заяцкие острова, расположенные в полутора километрах от южного берега Большого Соловецкого острова. Количество суток содержания в штрафных ротах колебалось в зависимости от обстоятельств задержания парочки. При задержании в коморке или в лесу следовало наибольшее количество суток с последующим либо переводом ее в другой лагпункт, а его снятия с ответственной работы, либо разгон обоих по разным лагпунктам. Захваченные при разговоре на открытом месте или следования в одном направлении, даже на расстоянии друг от друга, получали только по несколько суток шрафных рот. В последнем случае попадали в штрафные роды совершенно невиновные, не представлявшие собой пары и даже совершенно не знавшие друг друга. При повторном задержании, даже только за разговор или следование в одном направлении парочки разъединялись и рассылались на разные лагпункты. С введением с конца 1931 года системы премиальной оплаты труда попадание в штрафную било заключенных и материально, так как их на месяц лишали продовольственной карточки на дополнительные к пайку продукты и премиальных денег. Работники ИСЧ, УРЧ, КВЧ и тершиеся около ИСЧ заключенные были «не подсудны» и с женщинами «не попадались», разве только отыгрывались на женщине, отправляя ее в другой лагпункт. Администрация из заключенных чекистов даже не скрываясь имели связь с женщинами-заключенными.
И все же, как ни свирепствовало начальство, как ни были бдительны патрули разврат процветал и в 1930 году на Соловках вблизи женбарака пришлось построить барак для новорожденных заключенных. Взвод мамок, как официально стали называться кормившие грудью своих детей заключенные женщины, был поселен в этом бараке. Мамки получали дополнительный паек, были освобождены от принудительного труда и быстро досрочно освобождались из концлагеря. Безусловно это были все уголовницы, потому что политзаключенных досрочно не освобождали бы, даже по такому поводу, но с политзаключенными женщинами таких вещей не бывало.
Очевидно только из желания упорядочить взаимоотношение полов в концлагере, пресечь процветающий разврат, перевести его на более демократическую основу, отняв привилегию на него у заключенных мужчин поставленных в более благоприятные в концлагере условия, бухгалтер Кирпичного завода заключенный Котов-Зотов подал в зимовку 1931-32 годов свой проект. Он был скромный, даже застенчивый пожилой десятилетник, проведший в концлагере уже много лет по какой-то бытовой статье. О его проекте мы узнали из лагерной газеты-листка «Перековка», где его смешали с грязью, прикрепив ленинский эпитет «хлюпающего интеллигента», выжившего из ума старого развратника и тому подобное, сделав Котова-Зотова известной личностью на все Соловки. Обиднее всего было то, что расписали его далеко не ангелы, работники КВЧ, сами снимавшие сливки с женского контингента заключенных и обозлившиеся на новоявленного прожектера, за его попытку проектом отобрать у них привилегию на разврат и создание несчастным бухгалтером документа, изобличающего действительное положение вещей в концлагере, тщательно лакируемое писаками газеты. Из этой же статьи мы и узнали о сути проекта Котова-Зотова. Предложил он не более и не менее, как устроить ночной дом свиданий для парочек с чистыми койками (гигиена), в отдельных комнатах (благопристойность). Для регулирования свиданий и доступности их на равных правах для всех заключенных проект предлагал выделить особый талон продовольственной премиальной карточки, дающий право на одно свидание в месяц, как поощрение за ударную работу. Парочки должны были выбирать друг друга только по обоюдному согласию и допускались на свидание по предъявлению вышеупомянутого талона и мужчины и женщины (равноправие полов). Не вдаваясь в разбор нравственности данного проекта, следует отметить наиболее яркое отражение в нем направления мышления довольно большого количества заключенных мужчин старшего поколения, особенного у проведших в концлагерях долгие годы, с притупившимися чувствами общечеловеческой морали господствовавшей на воле. Характерно было еще и другое направление мышления заключенных, все более констатировавшее антидемократичность развития внутрилагерных порядков – горстке заключенных имеющих власть – все, массе ничего. И в вопросе об отношении к женщинам заключенная молодежь из политзаключенных выгодно отличалась от старшего поколения политзаключенных и бытовиков. Молодежь более страдала от разобщения полов, ее угнетала почти полное отсутствие объектов для настоящей любви, но не шла ни на какие грязные связи.
В атмосфере разврата и развратных побуждений представителей сильного пола пребывание в заключении в концлагере для политзаключенных женщин было во сто крат тяжелее чем для политзаключенных мужчин. Весь устав концлагеря был направлен на повседневное угнетение личности заключенного, его достоинства и чести, словом, всего того из чего складывается высокое понятие – человек. В психологии чекистов политзаключенный был прежде всего враг, которому надо было причинить как можно более зла. К политзаключенным относились не только враждебно, но и с презрением, как к последнему сорту людей, которые, по мнению чекистов, давно потеряли стыд, совесть, честь и вообще всякую мораль. Так же смотрели чекисты вольнонаемные и заключенные, их подпевалы-бытовики и на политзаключенных женщин, вполне уверенные в отсутствии у них, как у преступниц, какой-либо морали, женской чести, приравнивая их к аморальным уголовницам. А отсюда, политзаключенные женщины находились под постоянным нажимом со стороны заключенных чекистов и не чекистов, занимавших всякие командные должности, с целью склонить на сожительство или просто воспользоваться наравне с проститутками. Женщинам-политзаключенным необходимо было иметь высокие моральные качества, полное презрение к материальным благам, железную волю, чтобы противостоять этому массированному натиску сильного пола и не запятнать свою женскую или девичью честь. С другой стороны на политзаключенных женщин действовала, как бы подталкивая на уступку, разлагающая обстановка подавляющего по численности контингента уголовниц в женбараке. Некоторые не выдерживали этих двойных встречных сил, раздавливавших их волю, уступали и катились по наклонной, переходя от одного начальника к другому, может быть даже по любви, может быть даже создавая себе какой-то мираж семейных отношений, и, в то же время, только давая распространению мнения о своей доступности.
Я уже вскользь рассказывал о судьбе моей «одноделки», о жене Данилова. Причины побудившие последнюю вступить в связь со следователем ИСО остались непонятными, но имели возможно прямое отношение к трагическому массовому расстрелу политзаключенных на Соловках в 1929 году. Одна молодая вдова, сошлась на Соловках с товарищем своего мужа расстрелянного по делу лицеистов в 1924 году. Связь быстро закончилась трагически. Несчастливый соперник, из заключенных работников ИСО, быстро разделался со счастливым соперником, подведя его под расстрел в 1929 года. После гибели этого соловецкого мужа молодая вдова сошлась с одним заключенным морским офицером, который вскоре освободился и из-за нее остался работать вольнонаемным капитаном буксира флотилии концлагеря. В один из первых рейсов капитан погиб в море вместе с буксиром. За вдовой установилась слава роковой женщины.
Надо сказать, к чести наших «одноделок», что за исключением одной, они держались великолепно, постоянно отбивая все атаки любителей женского пола на всем протяжении пребывания их в концлагере на Соловках. О них никто не мог сказать плохого слова. Думаю, что и после вывоза их на материк и в других отделениях концлагеря они так же высоко держали знамя своей чести.
Совершенно особую карьеру в концлагере сделала самая юная из политзаключенных девушек, Наташа, посаженная ОГПУ в концлагерь в шестнадцатилетнем возрасте за принадлежность к молодежной организации партии анархистов. Была ли такая организация, принадлежала ли она к ней или она совсем ничего не знала об этой организации, а ее причислили к ней – я никогда не говорил с Наташей на эту тему – это осталось на совести следователя Черниговского ГПУ, но факт привоза шестнадцатилетней девочки в вертеп разврата на Соловки по 58 статье на десять лет все же остается фактом. Почти ребенок, с миловидным круглым личиком, Наташа сразу оказалась в центре внимания заключенных сотрудников ИСЧ, УРЧ, КВЧ и особенно близко стоявших к ней по работе работников общей части, куда ее сразу назначили для подшивки бумаг, а затем продвинули и в машинистки. Вероятно много пришлось пережить девчонке от напора любителей сорвать этот бутон, но долгое время, очевидно под руководством наших «одноделок», Наташе удавалось отбивать все атаки многочисленных поклонников. И при всем этом она никогда не теряла жизнерадостности, улыбки, так и светилась своей чистотой. Я ее видел, когда приходил в общую часть печатать на машинке материал для стенгазеты электропредприятий, которую я редактировал. Печатали мне заметки под диктовку и мои «одноделки» и Наташа. КВЧ отпускала мне на оформление стенгазеты три рубля в месяц, которые я и передавал и своим «одноделкам» и Наташе за печатание, от души желая улучшить их материальное положение.
Из оброненных впоследствии Даниловым в разное время нескольких фраз можно воссоздать картину трагедии происшедшей с Наташей, трагедии, которая определили всю ее дальнейшую судьбу, сложившуюся счастливо или несчастливо для нее – ей только одной это знать.
Каким-то образом Наташа приняла приглашение от мужской компании заключенных участвовать в нелегальной вечеринке. Само по себе такое собрание нескольких заключенных уже было тягчайшим нарушением лагерного устава, а с присутствием девицы еще более усугубляло проступок. Правда компания состояла из административно-следственной элиты концлагеря, которой все дозволялось, но все же они шли на некоторый риск, однако желание овладеть невинной девушкой притупило чувство осторожности и вечеринка была организована в коморке заведующего Карбасной мастерской с его участием и участием Данилова, который тогда уже работал в УРЧ и открыто считался «своим» у чекистов, а жена его уже была освобождена и покинула концлагерь.
В разгар вечеринки, когда у развратников уже текли слюнки на столь лакомый кусочек, как «хозяйка» вечеринки, роль которой предоставили Наташе, внезапно явился сам начальник Соловецкого отделения вольнонаемный чекист Успенский. Пришел он один, без патруля и, к удивлению всех застывших перед ним на вытяжку, любезно пригласил продолжать и его самого принять в компанию, поставив на стол принесенную с собой бутылку водки. Это было совершенно неслыханное по размерам нарушение устава концлагеря, в том числе и сухого закона, самим начальником отделения, к тому же таким свирепым начальником, каким был Успенский, снискавший себе печальную славу и патологической ненавистью к политзаключенным и исполнением лично самим всех расстрелов заключенных. Будучи сыном священника, он собственноручно расстрелял своего отца, когда тот заключенным попал на Соловки. Успенский всегда так спешил с расстрелом, что однажды, по ошибке, расстрелял, вместо приговоренного, его однофамильца, а потом, спохватившись, расстрелял и приговоренного. За эту ошибку Успенский получил пятилетний срок заключения в концлагере, но отсидел не более года, работая начальником отделения концлагеря на строительстве Беломорско-Балтйского канала. Со сдачей канала в эксплуатацию, Успенский был досрочно освобожден с возвращением ему чекистского стажа, награждением орденом Ленина и назначением начальником Белбалтлага и заместителем начальника Беломорско-Балтйского комбината. Успенский был холост, ему уже было около сорока лет.
Исполняя приказ начальника, участники вечеринки сели на свои места. Успенский был мил и ухаживал за Наташей, чего уже не посмели остальные, представляя собой стадо кроликов в одной клетке с удавом. Надо было быть полнейшим идиотом, чтобы не понять создавшуюся ситуацию и устроители вечеринки, наружно улыбаясь, один за другим исчезли, оставив Наташу наедине с Успенским.
О последствиях вечеринки для Наташи говорить не стоит, но на этом связь ее с начальником не кончилась и, как будто, Наташа даже нашла свое счастье. По своей молодости, она даже афишировала свою связь с Успенским, чем порой ставила его в неловкое положение, хотя он и был абсолютным монархом на Соловках и мог ничего не опасаться.
Однажды, выходя из дверей управления Соловецкого отделения, я был ошеломлен выходкой Наташи. Она вскочила в поданную к выходу пролетку и приказала: «Гони, я жена начальника»! Седовласый угрюмый уссурийский казак, заключенный в концлагерь за контрабанду и исполнявший обязанности кучера Успенского, разинул с перепугу рот и, обернувшись с козел, умоляюще пробормотал: «Барышня, слезайте, начальнику срочно ехать надо». «Тридцать суток ареста», - услышал я голос за своей спиной. Я остановился и с ужасом втянул голову в плечи, приняв на свой счет. Я вытянулся в струнку перед обгонявшим меня Успенским, но он даже не заметил меня, всецело поглощенный Наташей. Всегда свирепый взгляд начальника, несмотря на строгие нотки в голосе, был такой нежный, до того влюбленный, всегда суровое лицо излучало такую мягкость, что Успенского нельзя было узнать. «Тридцать, так тридцать» весело ответила Наташа, выпрыгнула из пролетки и, повернув голову в сторону Успенского, смерила его таким же влюбленным взглядом. Спокойно, держа задорно голову вполоборота, Наташа пошла по направлению к женбараку. Будучи заключенным Успенский вытребовал Наташу в свое отделение на Беломорканал, а освободившись из концлагеря добился и ее досрочного освобождения. Она просидела в концлагере меньше половины срока, что для 58-й статьи было неслыханно. После освобождения Наташи Успенский вступил с ней в законный брак.
Когда в октябре 1934 года я был переброшен на работу в управление Белбалткомбината на Медвежьей горе, я случайно встретился с Наташей на улице поселка. Она был также проста, приветлива, как и несколько лет назад заключенной на Соловках. В Наташе не было и в помине гонора генеральши (с введением вскоре званий и для чекистов, Успенский получил звание генерал-лейтенанта). Я не спрашивал Наташу о ее семейной жизни, она сама мне сказала, что у нее сын Генрих, названный так в честь наркома внутренних дел Генриха Ягоды. Наташа с участием интересовалась все ли я еще в заключении (на мне была гражданская одежда), но я, конечно, не просил о каком-либо ходатайстве перед ее высокопоставленным мужем. Она сама предложила похлопотать о переводе меня на лучшую должность заключенного. Я искренно ее поблагодарил, но отклонил ее предложение. Если бы даже меня и не устраивало что-нибудь, я бы и то не согласился подвергать ее какой-либо неприятности. В конце разговора Наташа пригласила меня к себе (она сказала «к нам») в гости. С прискорбием я и это отклонил, не желая ее подводить: «Заключенный в гостях у начальника лагеря? – сказал я, - как на это другие чекисты посмотрят»? И тут немного приоткрылась завеса ее семейной жизни: «Понимаешь (и она назвала меня по имени, очевидно она обрадовалась, что есть с кем поделиться) все сотрудники (она имела в виду кадровых чекистов) не могут простить Дмитрию (так звали Успенского), что он женился на мне каэрке (сокращенно от контрреволюционерки, термин обозначавший политзаключенных) и никто к нам не ходит и никто нас к себе не приглашает. Мы ни с кем не общаемся, нам достаточно друг друга и нашего сына». Да, из-за Наташи, чекисты подвергли Успенского остракизму, хотя это не помешало его продвижению по службе. У меня были сведения о продолжении его службы в концлагерях и в конце сороковых годов, когда он был начальником одного из Восточносибирских лагерей.
Женитьба на политзаключенной не умерила лютой ненависти Успенского к заключенным по 58 статье. Он по-хамски обращался даже к бывшим политзаключенным, оставшимся работать в Белбалткомбинате по вольному найму. Об этом я от многих слышал, но особенно возмутился таким отношением вольнонаемный инженер-москвич Мантейфель, случайно встретившийся со мной в коридоре управления Белбалткомбината и сгоряча рассказавши все. Мантейфеля использовали, главным образом, через оставшиеся у него связи в Москве, как толкача по поставке оборудования на строительство и монтаж заполярной Туломской гидроэлектростанции, строившиеся заключенными Белбалтлага. Мантейфель редко бывал на Медвежьей горе и Успенский не знал его в лицо. Когда начальник Белбалткомбината чекист Раппопорт был в отпуске, Мантейфелю пришлось впервые делать доклад Успенскому, как заместителю Раппопорта. Первый вопрос Успенского, когда вошел в кабинет Мантейфель был: «Вы из кадровых (то есть чекист) или из бывших заключенных»? Мантейфель ответил: «Из окончивших срок». Этого было достаточно, чтобы Успенский не предложил ему сесть, Мантейфель делал доклад стоя, а Успенский все время выражал ему свою неприязнь. Успенский полностью продолжал исповедовать, возможно только в более агрессивной форме, большевицкое, в том числе и чекистское мнение о людях, имевших несчастье попасть в концлагерь по 58 статье. Большевики считали, что приговор распространяется не только на срок заключения, но и на всю жизнь человека, который остается их врагом и после освобождения из концлагеря. Излишне добавлять, что Успенский от заключенных все доклады принимал, тоже никогда не предложив сесть.
Любящим мужем и отцом неожиданно предстал передо мной Успенский в рассказах моих друзей радистов с центральной радиостанции Беломорско-Балтийского концлагеря. Во время болезни своего ребенка, в конце 1934, начале 1935 годов, Успенский объезжал отделения концлагеря, лично проверяя расстрелы и террор против ни в чем неповинных заключенных в убийстве Кирова. По несколько радиограмм в день с запросом о состоянии здоровья сына радисты передавали Наташе от Успенского и тотчас же она слала ответную радиограмму. В Кемском отделении концлагеря Успенский задерживался, руководя отправкой на Соловки Зиновьева и Каменева, которую никак не удавалось осуществить из-за закрытия навигации и нелетной погоды. В это время ребенок умер. В ответной радиограмме Наташе Успенский выказал столько любви, нежности и горя, что радисты были потрясены.
Генрих умер вовремя. Через два с небольшим года его всесильный тезка Ягода был снят с поста народного комиссара внутренних дел, объявлен врагом народа и в 1938 году вместе с почти всей коллегией ОГПУ расстрелян. Успенским пришлось бы переименовывать сына, подхалимство оказалось недальновидным.
Лично я, молодой человек, не успевший до ареста обзавестись семьей или хотя бы связать себя словом с какой-либо девушкой, как-то имел более моральных прав, чем семейные старшего поколения, завязать роман в концлагере. Однако воспитанный в строгой морали семейного благочестия, привыкший глубоко уважать каждую представительницу прекрасного пола, я органически был не способен на мимолетные связи, на всю грязь, которой не чуждались другие. Для меня возможна была только безграничная любовь к встретившейся на моем жизненном пути особе с последующим устройством нашей семейной жизни. Последнее осуществить в условиях концлагеря было невозможно, а потому я даже радовался отсутствию на моем пути объектов, в которые я мог бы влюбиться. Я превосходно сознавал какие дополнительные страдания в концлагере принесла бы мне моя чистая любовь. Еще большая опасность была бы уделом моей возлюбленной. Неизбежно мы бы испытали многие сутки ареста с лишением премиальных денег и продуктов, снятие с привилегированных должностей, разлуку навсегда, разосланы на разные лагпункты. Но самое страшное непосредственно для моей возлюбленной и косвенно для меня, было бы потеря ею ее доброго имени, а, следовательно, и невозможность в дальнейшем сопротивляться ей вовлечению в разгульную жизнь. Все это я прекрасно сознавал и стремился как можно дальше быть от наших «одноделок», хотя никто из них моих чувств не возбуждал, чему я только радовался.
И все же через три года заключения нежданно-негаданно возникла во мне большая, чистая любовь, которой я не мог сопротивляться, которую я принял, как путеводную звезду, которая оказала влияние на многие мои поступки в концлагере, превратила меня из бессловесного раба, старавшегося как бы только выжить, в человека предъявившего свои права на любовь, на счастье, добивающегося осуществления прав свыше всех лагерных возможностей.
После открытия навигации 1932 года иногда по утрам я стал встречать у Восточных ворот Кремля очень интеллигентную даму, одетую в гражданское платье, на вид лет около 35. Я принял ее за вольнонаемного врача и почему-то сразу сопоставил ее с собой, с грустью вспомнил о своем положении заключенного. Я не старался специально встречаться с ней, однако все больше и больше думал о ней и к своему ужасу понял, что влюбился в нее. Сдерживаемое столько времени чувство должно было когда-нибудь вырваться наружу, ведь мне было 26 лет! Несмотря на пожиравшее меня чувство, я продолжал твердо держаться правила – не поддаваться увлечению: лучше временно страдать, созерцая на расстоянии, чем дать себя увлечь и дополнительно страдать от концлагерного режима. Я не искал знакомства с этой дамой и, возможно, так бы все во мне и погасло, если бы случай не столкнул с ней меня.
Заведующий электропредприятиями заключенный инженер Гейфель, на основании заявки от лаборатории сельхоза, поручил мне, как электротехнику, проверить работу термостата и исправить его. Лаборатория помещалась внутри кремля рядом с амбулаторией, частично делая и медицинские анализы. Когда я, постучавшись, вошел в лабораторию, у меня подкосились ноги. В белом халате за микроскопом сидела Она. Кто-то еще был в комнате, но я потерял способность замечать, соображать и потерял дар речи, еле выдавив из себя что-то о цели моего прихода. Она встала со своего места, объяснила неисправность термостата и снова села за микроскоп. Надо сказать, что тон ее краткого разговора со мной меня разочаровал, это был тон человека считающего себя стоящим неизмеримо высоко по сравнению с простым ремонтным рабочим, которому Она и отдала распоряжение о ремонте термостата. Кое-как собрав свои мысли воедино, покопавшись, я исправил термостат и доложил Ей. Заказчица оказалась придирчивая, тщательно проверила действие исправленного мною регулятора температуры и сухо поблагодарила меня, заняв место за своим столом. Сказав «до свидания», я ушел.
Казалось бы такое надменное отношение должно было разочаровать меня в даме и умом я дал довольно низкую оценку Ей, но сердце мое еще больше воспылало к Ней. Я потерял покой и как назло перестал встречать ее у ворот по утрам, что происходило от случая к случаю ранее. Я не знал об организации на Соловках Зональной научной станции Академии наук с целью продолжения исследования флоры и фауны Севера и проведения опытов по высокоширотному земледелию. Такая станция существовала и раньше на Соловках, но был закрыта в конце XIX столетия. Теперь в тех же двух домиках известных у монахов под именем «Биосада», в трех километрах от Кремля на лесной дороге, ведшей в Пушхоз, вновь разместилось научное учреждение. В научных кадрах недостатка не было и за всю историю своего существования Биосад не имел такого высококвалифицированного состава научных работников-политзаключенных. Фамилию профессора возглавлявшего Зональную станцию я не помню, но доцентов биологических наук Вадул-Заде Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы] и Семичановского я знал хорошо. Выпускник Петровско-Разумовской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии монгол Сампилон выделялся своей образованностью, учтивостью и … громадным ростом. Кроме того были еще четыре научных сотрудницы с высшим образованием, в том числе и Она, микробиолог. Ее перевели из Кремля с сельхозлабораторией, почему я и перестал встречать Ее по утрам.
И снова через месяц я вошел в соприкосновение с Ней из-за того же термостата. Ничего не зная о Ее переводе в Биосад, я с легким сердцем отправился в Биосад по новой заявке о неудовлетворительной работе термостата, на этот раз исходящей от заведующего Зональной станцией. С взятым с собой инструментом я шел довольно быстро по дороге. Был превосходный солнечный теплый день, какие редко бывают в короткое лето на Соловках.
Птицы в лесу щебетали и на меня нашло такое спокойствие, которого, кажется, в заключении я еще ни разу не испытывал. Я свернул с дороги по просеке на которой проходила электромагистраль на Биосад и Пушхоз с целью попутно осмотреть ее состояние. Таким образом я вышел снова на дорогу недалеко от Биосада и из-за кустов неожиданно налетел на Нее, одиноко идущую в Кремль. Встреча с Ней в лесу, да еще наедине, да еще без договоренности по лагерным масштабам была верх удачи, но она меня привела в состояние полной растерянности, и я даже не поздоровался. Она меня узнала и, спросив не по поводу ли я термостата иду, повернула со мной обратно в Биосад. Шли мы минуты три, но они показались мне вечностью, потому что я трепетал в Ее присутствии, боялся появления патруля и совершенно не мог поддержать разговора, который Она пыталась со мной завести. Неудивительно если бы по моему неуклюжему поведению Она бы приняла меня за неотесанного малокультурного электромонтера, что как раз противоречило моим желаниям. Тем не менее Она представила меня профессору Зональной станции, причем, что меня удивило, Ей была известна должность электрика направленного для ремонта термостата, то есть моя должность. Впоследствии Она мне рассказала о предшествующем меня командированию в Биосад разговоре по телефону с заведующим электропредприятиями, который и сообщил кого он пошлет по их заявке. По телефону говорили профессор и Она с Гейфелем.
Весь персонал Зональной станции, включая кухарку и дворника, все политзаключенные, жили в двух домиках Биосада, в тех же лабораториях, где и работали, размещаясь на ночлег на деревянных диванах, поставленных по одному в каждой комнате-лаборатории, за занавесками. Пункт устава концлагерей о разделении полов в Биосаде был неприменим и все же чекисты сделали правильно положившись на порядочность работавших и проживавших здесь политзаключенных, ничем гласно не скомпрометировавших себя за все время существования Зональной станции на Соловках.
В этот мой первый приход в Биосад разговор с профессором был далеко не из приятных. Его дружно поддержали и остальные научные работники, все любезно мне представившиеся, но далеко нелюбезно высказывавшие свои претензии по энергоснабжению Биосада. Безусловно они были правы. Сечение проводов электрической магистрали на таком протяжении было безусловно недостаточно чтобы хотя несколько сгладить то большое падение напряжения, которое возникало в сети, вследствие чего в Биосаде электролампочки на 220 вольт светились в полнакала, когда Пушхоз брал полностью электроэнергию, а лампочки на 127 вольт перегорали, когда Пушхоз сбавлял потребление электроэнергии. Вследствие этого ученым приходилось работать по ночам, чтоб пользоваться удовлетворительным освещением в то время, когда Пушхоз брал меньше электроэнергии. Все это я знал, сочувствовал, но что я мог сделать, чем я мог помочь?! Я был бессилен, никакой моей вины в плохом энергоснабжении не было, но от этого неприятный осадок от первого знакомства с ученым миром, да еще в Ее присутствии, не становился лучше. Порекомендовав профессору добиться установки в Биосаде автономной миниатюрной электростанции, я хотел удалиться, но профессор, поддержанный хором ученых, ловко переложил на меня мое же предложение и все стали спрашивать меня, когда это я выполню. Из тупика спасла меня Она, властно заявив профессору, что я пришел к Ней (более сладостных слов для меня не могло быть) и Ей термостат нужен сейчас, а не тогда, когда будет построена электростанция. Воспользовавшись демаршем моей возлюбленной, я оторвался от ученого совета и поспешил за Ней в Ее лабораторию-комнату.
За три с половиной года пребывания в тюрьмах и концлагере нормальная домашняя обстановка утратила уже для меня реальность, в воспоминаниях выступая как дивный сон. И вот сон снова становился реальностью, когда осматриваясь в лаборатории, приятно было отдохнуть глазу на скромной, опрятно убранной постели на деревянном диване, наполовину закрытым слегка отодвинутой занавеской, на скромной тумбочке, покрытой вышитой салфеткой под маленьким зеркальцем, флаконом духов, гребешком и баночкой ланолина, на сером дамском летнем пальто, повешенном на плечиках на лабораторный шкаф рядом с вешалкой, на котором угадывалось зимнее пальто закрытое простыней. На письменном столе стопы бумаги, книги, чернильный прибор, и резная шкатулка с женским рукоделием как-то смягчала официальность, ученость стола. Все эти детали, бросившиеся мне в глаза, как бы создали мне образ хозяйки комнаты, мелочи, которые были самыми обыденными в нормальных семейных условиях, казались такими нежными, манящими и просто неожиданными в суровой концлагерной обстановке. Во всем чувствовалась женская рука, в нормальной жизни самая обыкновенная, а здесь, в концлагере, казавшаяся чудом изящества и вкуса. Впечатление домашнего уюта не могло исказить большое количество лабораторной посуды, расставленной в порядке на полках, столах, в стеклянных шкафах, занимавших едва ли не в десять раз больше площади, чем домашние вещи.
Зачарованный хозяйкой и уютом лаборатории я совсем забыл о цели моего прихода в Биосад, как бы растворившись в той дивной домашней атмосфере, по которой за долгие годы заключения я так истосковался, от которой я так долго был далек. Она пригласила меня сесть, сама села напротив меня и вернула меня к действительности очень просто, вполне технически грамотно, изложив что требуется от меня. Как и ученые, так и Она были вполне правы. С таким колебанием напряжения электросети, какое было в Биосаде и термостат не мог работать нормально, а, следовательно и вся научная работа по выращиванию почвенных бактерий у них останавливалась. Возможно, если бы я столкнулся с таким фактом в другом учреждении, где не было Ее, я бы и сам сразу мог принять правильное решение по установлению нормального питания электроэнергией термостата через дополнительное буферное сопротивление, но, поглощенный своим счастьем созерцать Ее в такой близости от себя, я потерял всю сообразительность и ничем конкретно не мог проявить свое желание помочь научному учреждению. Отсутствие реакции с моей стороны на ее предложение вывело Ее из себя и Она, подчеркнув, довольно язвительно, факт дачи Ею, не электротехником, совершенно правильных электротехнических рекомендаций электротехнику, который оказался не на высоте, предложила мне осуществить ее проект. Добавив: «Прошу не задерживать установку», - Она встала, давая понять мне, что «аудиенция» закончена. Мне больше ничего не оставалось как встать и откланяться. Как мне не хотелось уходить! Подчиняясь рассудку ноги влекли меня от Биосада, а душа оставалась в нем, счастье переполняло меня через край, его было столько, что переварить его, в сотый раз вспомнить те или иные минуты моего краткого пребывания, мне хватило бы на месяцы.
Для монтажа дополнительного устройства по включению термостата у меня не хватало размеров контактов теплового реле термостата, которые я забыл замерить, плавая под небесами от счастья, а идти снова в Биосад у меня не хватало духа, я боялся как бы меня не заподозрили, что я пришел к Ней, а не по делу. Так раздираемый противоречиями в душе, умом сознавая глупость своего промедления, фактически малодушествуя перед возможными сплетнями, я протянул около месяца и дождался нахлобучки от своего прямого начальника заключенного инженера Гейфеля, заведующего электропредприятиями. Отметив мою обычную исполнительность, Гейфель с горечью, ничего не подозревая об истинных причинах моей инертности в исполнении заказа, говорил как я его подвел и просил заняться немедленно установкой термостата, показав напоследок грозную резолюцию начальника Соловецкого отделения на докладной заведующего Зональной станцией, в которой он жаловался на невыполнение заказа.
Если бы только знал мой милый Гейфель каким бальзамом на мою истосковавшуюся по Ней душу текли слова его выговора, приказывавшего мне явиться к Ней, каким нужным был мне этот толчок, чтоб побороть мою застенчивость и ринуться в направлении указанном моим сердцем. И все же в тот день в Биосад я не пошел, представив себе всю глупость своего положения, если я явлюсь с пустыми руками. Я наскоро собрал схему для включения термостата в сеть, поставив на глазок расстояние контактов теплового реле, и на следующий день, надев под лагерную гимнастерку гражданскую рубашку с галстухом, явился в Биосад.
Мне было безразлично как меня встретят ученые, меня страшил Ее гнев за задержку с термостатом. Ученые встретили меня как старого хорошего знакомого, а Она была верх любезности, так что я сразу о себе возомнил. Если на первых я мог подействовать надетым галстухом (по одежке встречают), то Она действительно без меня соскучилась, так как почувствовав мое больше чем расположение к Ней, Она была разочарована моим долгим отсутствием и любезным отношением ко мне, очевидно, хотела проверить свои догадки в отношении моих чувств к Ней. С таким приемом я уже не чувствовал себя ремонтным рабочим, я был признанным полноправным членом касты лагерной элиты. Контакты к реле не подошли, термостат включить я не мог и все же никто не высказал своего неудовольствия, а Она только деликатно спросила когда я снова приду. Я окончательно потерял голову, не зная чему приписать такое Ее поведение и последние Ее слова. Как истолковать – все только в разрезе необходимости пуска злосчастного термостата или независимо от него из-за проявившегося у Нее интереса к моей особе, о чем я и не мог мечтать? И все же, как Она мне потом сказала, женским чутьем Она поняла еще в первое мое посещение Биосада о моих чувствах к Ней (у меня был страшно-дурацкий вид в момент обращения к Ней), чем и была очень удивлена.
Подогнав контакты реле по мерке, на другой день я примчался снова в Биосад, в Ее комнату, все установил и термостат заработал. В этот день у меня был хороший предлог подольше задержаться у Нее. Ведь надо было проверить включение термостата по заданной температуре, времени, главное времени, которое позволило мне растянуть мою работу у Нее в комнате почти на целый день. Время от включения до выключения термостата было у меня совершенно свободным и я мог поддерживать разговор с Ней. Она все спрашивала обо мне и к концу дня уже все знала обо мне, а я о Ней ничего. Спрашивать самому о Ее биографии было неудобно, а сама она не рассказывала. И все же я так чудно провел этот день, впервые пробыв столько времени с ней. На прощание, со словами благодарности за проделанную работу, я удостоился подачи мне Ею руки (это было в первый раз), которую я все же не осмелился поцеловать, хотя бы под предлогом вежливости. Возвращаясь домой не чувствовал от восторга ног под собой.
Два дня я переваривал впечатления от посещения Биосада, а на третий день не вытерпел и после рабочего дня, под вечер помчался к Ней, под предлогом проверить работу термостата при вечерней нагрузке электросетей. Ее я застал за работой и опять растерялся, так как не заметил удивления при моем появлении, точно Она поджидала меня, хотя подобное предположение как несбыточное для меня, я постарался отвергнуть в душе. Разговаривали мы сидя в наиболее возможном по удалению друг от друга местах комнаты, чтобы не вызвать подозрение, не столь у ученых, сколько у патруля, вторжение которого можно было всегда ожидать, хотя нравственность и дисциплинированность проживавших в Биосаде политзаключенных не вызывала сомнений у чекистского начальства. Осведомившись о работе термостата, я получил от Нее похвалу, а затем разговор как-то не клеился и я, разочарованный, вскоре ушел, опять только пожав протянутую мне на прощание руку. Досаднее всего было отсутствие приглашения приходить.
Должность заведующего электросетями была идеальна для отлучек. Я всегда мог отговориться нахождением на отдаленных участках электромагистралей для их контроля и никто не мог проверить, где я в действительности находился. На магистрали я и раньше часто отлучался, таким образом мои отлучки для посещения Биосада не могли вызвать подозрений со стороны моих подчиненных или заведующего электропредприятиями, а на скромность ученых я мог вполне полагаться, тем более, что с заключенными, проживавшими в Кремле они почти не общались. Взвесив, таким образом, степень риска и для Нее и для меня моих посещений Биосада, я все же недельки через две возобновил «проверку работы термостата». Встретила Она меня очень радушно, кое-что рассказала о себе. Просидел у Нее долго и, хотя и не получил приглашения, зачастил к Ней почти регулярно раз в пятидневку, а то и чаще, когда выпадало свободное время. Ученых я подкупал ремонтом всяких штативов и аппаратуры, Ее своим обожанием. Отношения стали вполне дружескими и постепенно Она рассказала все о себе.
Она была самой младшей из двенадцати детей от двух браков известного русского очень крупного оптового торговца и промышленника. Два брата ее тоже были промышленниками и депутатами Государственной Думы. Довольно молодой Она вышла замуж за младшего брата одного из основателей и бессменного руководителя Московского Художественного театра. Муж ее был врач патологоанатом, Она микробиолог. У Нее была почти взрослая дочь и сын поменьше, оставшиеся на воспитании дяди, руководителя МХАТа. Арестована была ОГПУ в 1931 году вместе с мужем и старшей сестрой-врачом, по-видимому за происхождение из «буржуйской» семьи и деятельность старших братьев в эмиграции. Муж не вынес допросов и умер в тюрьме, а обеих сестер Коллегия ОГПУ посадила в концлагерь на 10 лет каждую по статье 58-й пункту 6-у (шпионаж). Такова была вкратце печальная судьба объекта моей безудержной любви, много пережившей, но не сломленной, тосковавшей по мужу, а еще более от разлуки с детьми, весьма обеспокоенная отрывом дочери от матери в такие переходные для первой годы.
В свете всего узнанного мною, какая надежда могла еще сохраниться у меня на взаимность, тем более, что и по возрасту Она оказалась старше чем выглядела – между нами разница оказалась в 18 лет?! Ее благожелательность ко мне была естественным желанием иметь верного друга, порядочного человека вблизи, около себя, чтобы легче переносить невзгоды концлагерной жизни, иметь человека, с которым без вреда для себя можно было всем поделиться. Если с объяснением в любви я все мямлил, совершенно неуверенный во взаимности, не решаясь действиями не наверняка испортить все возможности любования Ею хотя бы на расстоянии, то теперь, все узнав о Ней мне и надеется на что-либо не приходилось. И все же чувство мое к Ней было настолько сильно, что я не мог преодолеть тяги к Ней и продолжал знакомство с Ней, становившееся все теснее и теснее. Отношения возникшие между нами, с точки зрения заключенного обывателя, были самыми невыгодными, подвергая нас риску наказания за несовершенные деяния, в то же время не давая, с их точки зрения, ничего реального. Но я был и так счастлив, даже платя долей риска за право, хотя и не ежедневно, видеть Ее, обмениваться с Ней мыслями.
А риск действительно был. Однажды у Нее в комнате меня застал начальник Культурно-воспитательной части чекист Михайлов, ввалившийся без стука в Ее лабораторию-комнату (обычно когда кто-нибудь посещал Биосад, я успевал оказаться в коридоре, а летом выпрыгивал в окно). Я замазывал стекла на вторых рамах и начальник не обратил на меня никакого внимания. На Нее было страшно смотреть, как она испугалась. Наружно Она и вида не подала, но я уже слишком хорошо Ее знал, чтоб не понять, как она переживает за сохранение своего незапятнанного имени. Бегло осмотрев лабораторию, чекист ушел. Она, бледнее смерти, села на стул и только могла прошептать: «Уходите скорее».
Другой раз в окно выходящее в лес и тоже днем, снаружи заглянул солдат ВОХРа и, бегло осмотрев лабораторию, не обратил никакого внимания на меня, занятого у термостата. Опять Ее испуг был безграничен и снова я дал себе слово не ходить больше к Ней, чтобы Ее не нервировать, и снова не мог удержаться от соблазна, да и Она все более ко мне привязывалась.
Пожалуй самой серьезной опасности мы с Ней подвергались еще в начале нашего знакомства, когда я пришел в Биосад вдвоем с контролером электросетей Шапиро по действительно служебной надобности. Мы осмотрели внутреннюю и наружную электропроводку, измерили сопротивление изоляции и на обратном пути оказались попутчиками Ее и еще одной сотрудницы Зональной станции, лет 30-и, Александры Сергеевны А. Я представил им Шапиро и мы, забыв где мы находимся и что мы собой представляем, по джентельменски, пошли вместе дальше лесной дорогой в Кремль. А.С. пошла с Шапиро побыстрее, а я с Ней стали отставать, мило болтая о том, о сем. Когда мы парами оказались уже на расстоянии 120-150 метров друг от друга, к своему ужасу, я увидел, как Шапиро с А.С. были задержаны патрулем, вынырнувшим из-за кустов. Оба они доказывали что-то, показывая свои документы, патруль их не отпускал, явно поджидая нас. Бежать нам в лес было глупо, потому что все равно нас бы поймали и было бы еще хуже. Я с Ней, не прибавляя шагу, двигались по дороге, навстречу неизбежному, внешне сохраняя спокойствие и делая вид, что не заметили патруля. Но что было у нас на душе! Впереди мог быть только позор для Нее, разлука для нас обоих. Когда мы подошли к патрулю, мы тоже показали наши документы и я предложил патрулю немедленно отпустить контролера электросетей Шапиро, угрожая пожаловаться начальнику отделения на срыв работы по проверке электросетей. Ни мой документ, ни мое требование не произвели никакого действия, нас четверых повели под конвоем в Кремль. Мы с Шапиро шли вдвоем рядом, сзади парой Она и А.С. На ходу я продолжал спорить с солдатами, которые ничего не понимали, зная только «тащить» и «не пущать» и продолжали гнать нас по дороге в Кремль односложно отвечая: «В комендатуре разберутся». По мере приближения к Кремлю все новые и новые патрули выводили из лесу на дорогу задержанных заключенных группами и в одиночку. К выходу из леса нас задержанных оказалось более двадцати, в том числе и несколько женщин. Аналогичную группу, тоже по направлению к Кремлю вели из леса по узкоколейке с Кирпичного завода. Украдкой глядя на Нее, смешавшуюся с другими женщинами, я видел, как Она стала меньше волноваться. Я тоже понял, что наши дела еще не так плохи, так как вели нас не парами, а толпой и мы могли отпираться от обвинений в знакомстве и совместной прогулке. Весь вопрос состоял в том, как доложит патруль. Если он не упомянет о задержании нас парами все сойдет благополучно, то есть отделаемся содержанием в несколько суток в штрафной роте за хождение по лесу, а не за свидание, что было крайне опасно.
Нас привели к дежурному коменданту. Шапиро и я первыми вбежали к коменданту и предъявили свои служебные удостоверения. Дежурный, отделком войск ОГПУ, оказался капитаном волейбольной команды дивизиона. Я был капитаном волейбольной команды заключенных и мне с ним приходилось встречаться не только на спортивных соревнованиях, но и в КВЧ. Отделком немедленно освободил меня и по моей просьбе Шапиро и мы выскользнули из комендатуры, мельком взглянув на наших дам. Покидал я комендатуру с легким сердцем, зная, что теперь в обвинении Ее не свяжут со мной, Она это понимала, я уловил это в Ее повеселевшем взгляде. Из управления электросетей я немедленно позвонил по телефону начальнику Производственно-плановой части политзаключенному офицеру-саперу Русской армии Демченко, сказав ему, что Она (я назвал ее фамилию, потому что Демченко Ее знал, а ко мне хорошо относился) просила его освободить Ее из комендатуры, где я Ее «случайно» видел. Не знаю, догадался ли о чем-нибудь Демченко, но он минут через двадцать позвонил мне, сообщив мне, что Она (он назвал Ее по имени отчеству) освобождена без последствий и ушла по своим делам. Как я потом выяснил, мы попали в массовую облаву, которые иногда чекисты устраивали на голодных заключенных, для поднятия лагерной дисциплины. Заключенным запрещалось ходить в лес, прогулка по которому приравнивалась к побегу из концлагеря и строго наказывалась, вплоть до добавления срока заключения по ст. 84. Так как количество задержанных в этой облаве превзошло все ожидания и штрафные роты не могли вместить всех задержанных заключенных, большинство отделалось лишь свирепым разносом со стороны дежурного коменданта за «шляние» по лесу, куда заключенные ходили не от избытка сил, не с целью побега, а за ягодами и грибами, чтоб чем-нибудь утолить постоянный голод от недостаточного лагерного пайка.
Когда испуг от злосчастной прогулки по лесной дороге несколько рассеялся, приблизительно через месяц после нашего задержания патрулем, я все же Ее уговорил предпринять со мной совместную поездку в Пушхоз под предлогом служебных дел. В Пушхозе работала Ее родная сестра врачом не для людей, а для … черно-бурых лисиц, которых чекисты расценивали значительно выше рабов-заключенных. В случае смерти лисицы для государства пропадало N-е количество валюты, а если умирал заключенный, его заменяли другим. Я знал, что Она часто ходила и ездила в Пушхоз повидаться с сестрой под предлогом служебных дел. К этому времени наша дружба с ней была довольно уже тесной и в назначенный день, вооружившись кое-какой измерительной электроаппаратурой для проверки состояния электропроводки в Пушхозе, часа за два до прихода моторной лодки, я уже поджидал Ее на пристани на берегу Глубокой губы, на островах которой был расположен Пушхоз. Она не заставила себя ждать, придя тоже пораньше на пристань и мы более часа дивно провели время, греясь на солнышке, но сидя из предосторожности, поодаль друг от друга. Но в моторной лодке мы сидели тесно прижавшись друг к другу на корме, любуясь зелеными многочисленными островами, изумрудными протоками между ними. Августовский день выдался наредко теплым и солнечным по этому времени года в высоких широтах. Все умиротворяло душу, а рядом с Ней можно было и совсем забыть о своем положении заключенного. Она с интересом слушала мой рассказ о тюленях, которые время от времени, то там, то сям, высовывали из воды маленькие головы, так похожие на мокрые кошачьи и с любопытством смотрели нам вслед, привлеченные шумом винта лодки. В Пушхозе я был сразу представлен Ее сестре и втроем мы позавтракали у сестры в ее врачебном кабинете, служившем ей одновременно и комнатой, в которой она жила. Затем втроем мы осмотрели весь Пушхоз. Я сделал кое-какие замеры в электросети и уже в полной темноте нас вдвоем моторная лодка отвезла обратно. В темноте Она не протестовала против моих проводов Ее до самого Биосада. В пути, как бы помогая в трудных местах, я даже осмеливался брать Ее ненадолго под руку. В общем день я провел очень счастливо, целый день в общении с Ней.
И еще один раз мне удалось провести почти целый день с Ней, что по лагерным условиям было совершенно невероятно. В этом 1932 году была пятнадцатилетняя годовщина советской власти, по случаю чего, чекисты распорядились устроить в театре выставку развития производства Соловецкого концлагеря за предыдущие пять лет. Обычно в дни празднования революционных праздников заключенных лишали и той минимальной свободы передвижения по лагерной территории, которую они имели в рабочие дни. Заключенных по ротам запирали на замок на все дни праздников. В эту годовщину было сделано исключение для посещения выставки заключенными строем под командой комвзводов. На выставке заключенным экскурсантам давали объяснения по отделам выделенные из числа заключенных специалистов. По энергетике объяснения давал я, по агрохимии Она. Мы с Ней договорились дежурить на выставке в один день, что нам и удалось, и в свободное от экскурсий время мы могли быть вместе, а после окончания дежурства Она осмелилась принять мои проводы Ее до Биосада. Правда на открытом месте дороги мы шил с Ней на расстоянии друг от друга. Несмотря на это на другой день Гейфель ласково мне заметил: «Поухаживали за старушкой»! Тайное становилось явным, а последнее в условиях концлагеря становилось, по меньшей мере, нежелательным.
Однако в желательности с Ее стороны моих посещений Биосада я убедился лишь спустя пять месяцев с тех пор, как впервые Ее увидел. Я был приглашен Ею обязательно прийти к Ней в день Ее имянин во второй половине ноября. День Ее имянин совпал с общелагерным выходным днем, который, как и другие выходные дни для нас, работников электросетей, был не только рабочим, но и особенно уплотненным. Чтобы не срывать выполнения производственных планов предприятиями концлагеря, не разрешалось лишать их электроэнергии в рабочие дни. Вследствие этого почти все ремонтные работы на электромагистралях возможно было производить только в выходные дни и только за один день, когда на светлое время суток можно было нам обесточить линии электропередач. И в день Ее имянин электромонтеры под моим и Тарвойна руководством, обесточив восточную электромагистраль, приступили к ее перетяжке на участке Кремлевской стены. Объем работ был большой и грозил затянуться до полной темноты, которая на широте Соловков в этом месяце наступает уже около трех часов дня. Эта магистраль снабжала электроэнергией Биосад и Пушхоз, что привело к ее отсутствию в этих точках в течение всего дня и сумерек. Получался неплохой «подарочек» возлюбленной от меня – оставил в день Ее имянин без электроэнергии, но предотвратить этот плановый ремонт я все же не решился и день провел как на иголках. Закончили работы в полной темноте, подключили магистрали под напряжение, я переоделся и, захватив кусочек колбасы и немного конфет из посылки, пошел в Биосад «проверить подачу электроэнергии после ремонта в Пушхоз», как я сказал дежурному электромонтеру.
Снегу выпало много и на лыжах я быстро добежал до Биосада, где весь персонал Зональной станции, сначала разбежавшийся по своим лабораториям-комнатам при моем стуке в запертую наружную дверь, потом собрался в комнате имянинницы при моем появлении. Я впервые в концлагере участвовал в вечеринке заключенных, да еще с женщинами, да еще со спиртными напитками, словом впервые нарушил устав концлагеря по трем пунктам. Однако на случай появления патруля была продумана конспирация. Два лабораторных стола были составлены так, что каждый сидящий за столом, при стуке в наружную дверь, тарелку с едой, чашку с чаем мог спрятать в пустой ящик стола. Разведенный спирт, выдаваемый для лабораторных работ, пили из пробирок, которые держали в маленьком наружном карманчике пиджака. Окна были плотно завешаны, чтоб снаружи никто не мог подглядеть. За «праздничный стол», собранный по концлагерным масштабам весьма шикарным из посылок, полученных обеими сестрами, сели три ученых мужа с тремя своими ассистентками, имянинница, ее сестра – врач Пушхоза и, кроме меня, еще один посторонний, начальник сельхозчасти, помещик и дворянин, заключенный на 10 лет, Лесли. Это был единственный дворянин, сидевший в концлагере не за свое происхождение и не по 58-й статье, а за непреднамеренное убийство человека на охоте. Поскольку Лесли не был политзаключенным, он мог себе позволить многое совершенно безнаказанно для себя. Имянинницу Лесли знал по Москве, когда они все еще не были заключенными и посчитал своим долгом, как делал это на воле, прийти поздравить Ее в день имянин, невзирая на то, что Она политзаключенная. Она его не приглашала, приглашенным посторонним Биосаду был только один я. Меня встретили радушно и с облегчением, поскольку Она не начинала празднование без меня. «Когда зажегся свет, - сказала Она, - я знала, что и Вы скоро придете». По-видимому, Она вспомнила меня лишний раз, когда зажегся свет. Не знавшему меня Лесли я был представлен Вадулом Заде: «Заведующий электросетями, молодой, способный и очень блатной (то есть имеющий в концлагере «блат» - протекцию)». Я был посажен между двумя сестрами и со стороны имянинницы я пользовался таким вниманием, как будто я превратился в чеховского генерала на свадьбе.
В непринужденной обстановке просидели часов пять. Лесли приятным баритоном пел арии из опер и романсы. Аккомпанемента не было, но и так выходило прекрасно. Общий разговор за столом все более касался возможных перемен в судьбе сотрудников Биосада. С переездом СЛОНа с Соловков в г. Кемь все более выявлялась тенденция к созданию в Кемском отделении концлагеря таких же производственных предприятий, какие были захвачены у Монастыря, параллельно работающих с Соловецкими или оборудованными за счет закрытия аналогичных на Соловках. Так уже были переведены на материк ПОМОФ (Пошивочно-обмундировочная фабрика), ходили слухи о строительстве Кожевенного завода, за счет изъятия части станков с Соловецкого судоремонтного завода, в Кеми работали механические мастерские. Во второй половине 1932 года была организована в г. Кеми Карельская Зональная станция Академии наук, укомплектовать которую заключенными и вести работы взялся УСЛОН. Задачи Кемской Зональной станции были значительно обширнее по освоению земледелия в тундре и составления почвенной карты Карелии и Кольского полуострова. Немедленно после открытия Кемской станции на нее был переправлен с Соловков Сампилон, а несколько позже один профессор-заключенный, недолго пробывший на Соловецкой Зональной станции. Потому как настойчиво то один, то другой из присутствующих на имянинах возвращались к вопросу работы Соловецкой и Кемской станций видно было насколько вопрос дальнейшей личной судьбы тревожил каждого. С одной стороны пример Сампилона и профессора-почвоведа вселяли надежду в оставшихся на Соловках сотрудниках постепенно перебраться на материк, вырвавшись таким образом с Соловков. Однако такой оптимизм мог быть и не оправдан в отношении всех политзаключенных, которых, в особенности десятилеников могла 3-я часть или 3-й отдел не пропустить на материк. В то же время открытие Кемской Зональной станции могло повлечь закрытие Соловецкой станции и тогда не выпущенные с Соловков ученые должны были быть переведены на физические работы вплоть до лесозаготовок. Действительно положение было неопределенное и для всех шаткое и все присутствующие, не выдавая явно страха за свою будущую судьбу, прикрываясь заботами о пользе науки, судили и рядили о существовании обеих станций. Она уже давно поделилась со мной своими надеждами и опасениями по этому поводу и мне отлично была видна подоплека разговоров. Ее материк привлекал главным образом потому, что там Она имела бы свидание с детьми хотя бы один раз в год. Заключенным находившимся на Соловках с 1930 года свидания с родными были запрещены. Слушая разговоры, в тот вечер я не знал какой решающий поворот в моей лагерной жизни произойдет в связи с открытием Зональной станции в Кеми и как предпринятыми в связи с этим моими энергичными действиями, я возможно, обезопасил себя от многого рокового в концлагере и благополучно выжил и вторую половину срока заключения в концлагере.
А пока, сидя рядом с Ней, купаясь в волнах Ее исключительного внимания ко мне, находясь в высокоинтеллигентом обществе, до которого мне и на воле было далеко, я так блаженствовал, впервые в концлагере ощутив радость жизни. Однако одновременно я делал наблюдения и выводы несколько удивившие меня. По тому как кто с кем сидел, как кто к кому обращался можно было с уверенностью сказать, что командует учреждением довольно пожилая, невзрачная, типа чопорной классной дамы, политзаключенная, держащая под каблуком профессора, числящегося заведующим Зональной станцией. Похоже было и на то, что профессор был ее фактическим мужем. Семичановский сидел с Александрой Сергеевной, как муж с женой, а Вадул Заде Оглы явно ухаживал за средних лет очень красивой блондинкой Л., политзаключенной на 10 лет. Л. Была чрезвычайно верующая и, как мне казалось, скрытой монахиней. В следующем году Л. изменила Христу, тайно в концлагере приняла мусульманство, чтоб стать законной женой Вадула Заде. У последнего на воле осталась законная жена, но мусульманство допускает многоженство и мулла в концлагере их тайно обвенчал. Впоследствии мне стало известно, что до Л. Вадул Заде пытался ухаживать за моей возлюбленной как только ее перевели в Биосад. Получив решающий отпор он и переключился на Л. Может быть поэтому Вадул Заде на имянинах дал мне такую странно-восторженную характеристику, которая меня сразу удивила, а потому не была воспринята как вполне искренняя.
Возвращались с имянин мы с Лесли вдвоем на лыжах. Вначале он рассказывал мне о своей учебе в Петровско-Разумовской (теперь Тимирязевской) сельхозакадемии, когда его очень соблазняло пение и даже может быть карьера оперного артиста. Затем он стал выспрашивать меня о моем происхождении, родителях и обстоятельствах моего знакомства с Ней. Я сразу насторожился и чтобы отделаться от него, сказал что я замерз, идя тихо на лыжах, и, попрощавшись, катнул напрямик через лес в управление электросетями. Интересно, что, как потом Она мне рассказала, Лесли вернулся обратно в Биосад, под предлогом оставшейся рукавицы, которой не оказалось. Вероятно Лесли, хотел проверить и меня и Ее, не вернулся ли я к Ней? В мыслях Лесли оказался нечистоплотным, что как-то оттолкнуло меня от него в дальнейшем, когда мне приходилось с ним встречаться. Лесли с усмешкой всегда осведомлялся у Нее обо мне, называя меня с явной издевкой «Ваш инженер».
Трудно сказать как бы развивались мои с Ней отношения – пошли бы они на убыль или были бы прерваны самым грубым образом ссылкой в разные места вглубь острова или на разные острова, если бы не внезапная отправка Ее на материк в последних числах декабря 1932 года, спустя немного больше месяца после Ее имянин. Телефонный звонок из женбарака, которым Она предупредила меня уже поздно вечером буквально потряс меня. Она приняла мое предложение как-нибудь встретиться с Ней до Ее отправки и разрешила мне выйти на дорогу идущую в Биосад, куда Она должна была идти собирать вещи, чтобы утром отбыть с этапом, в который Она была включена, в последний этап в эту навигацию.
Быстро выйдя на дорогу в Биосад, и, пройдя постройки Сельхоза, я засел в кусты, чтобы убедиться заранее в отсутствии патруля, который мог быть выслан для нашей поимки, если наш телефонный разговор был кем-либо подслушан и передан каким-либо стукачом в 3-ю часть. На небе был плотный слой облаков, но снежный покров создавал хорошую видимость и я мог издали заметить приближавшуюся опасность. Прошло немного времени и я увидел одинокую фигуру, которая была никем иным как только Она. Останавливаясь и осторожно оглядываясь, чтобы вовремя заметить возможную за Ней слежку, Она шла в Биосад. Уже то, что Ее отпустили из женбарака в Биосад за вещами без конвоя была большая удача, да еще какая! Я вышел из кустов Ей навстречу, подошел к Ней и решил идти напролом. Мне не хотелось расстаться с ней не высказав Ей своих чувств. Если бы я был Ею отвергнут, я все равно ничего не терял, так как и так мы с Ней расставались и, вероятнее всего, навсегда. Персональный вызов, который Она получила на материк для работы в Кемской Зональной станции был для заключенной выигрышем в сто тысяч в лотерею. Как же можно было бы предположить, что такой же «счастливый билет» достанется и мне, а если и достанется, то сколько лет пройдет до него в разлуке и какая вероятность, что меня вызовут именно в тот лагпункт, где будет находиться Она? Хорошо изучив лагерную действительность сомнений в том, что я вижу Ее в последний раз у меня не было, почему я и решил идти напролом.
В своем объяснении пылом молодости я взял приступом накопленный Ею летами жизненный опыт. Наши уста сомкнулись в долгий, долгий, ненасытный поцелуй.
При таких обстоятельствах астрономическое время ничего не значит и трудно даже приблизительно сказать сколько минут мы простояли так на безлюдной дороге в страшном концлагере на острове пыток и смерти. Опомнившись мы сразу, по выработанной привычке, оглянулись по сторонам. Она меня назвала на «ты» и просила, чтобы я пошел по дороге в Биосад впереди Нее на большом расстоянии. Это была необходимая предосторожность, чтобы нас не забрал случайный патруль, что повлекло бы срыв Ее отправки на материк, которой Она так добивалась. Я снова встретил Ее на опушке леса и остальную дорогу до Биосада довел Ее в своих объятиях, целуя Ее еще и еще.
В Биосаде Ее ждала сестра. Стали собирать вещи. Наружно мы и вида не подали сестре, хотя сестра почему-то нисколько не удивилась моему появлению в столь поздний час. Ко мне привыкла не только Ее сестра, но и персонал Биосада. А я переходил от отчаяния, сознавая близкую разлуку, к восторгу, ощутив, что я любим. Стрелки часов неуклонно двигались, а так хотелось чтоб время остановилось. Было уже двенадцать часов ночи, могли прислать за Ней, если и не солдата, то какую-нибудь посыльную из женбарака и мое присутствие могло только осложнить Ее положение. Пришлось вспомнить, что мы с Ней рабы, которым счастье не разрешено. При сестре я Ей поцеловал руку, но как мне не хотелось уходить! Она нагнала меня в коридоре, где мы крепко обнялись и поцеловались на прощание.
Идя из Биосада я еле волочил ноги и от счастья и от горя разлуки. И снова передо мною встала горькая истина – неизбежность разлуки с любимым человеком и навсегда. Ее прощальные слова – обещание с открытием навигации приехать на Соловки в командировку были лишь слабым утешением для меня, в реальность которого ни я, ни Она сама не верила. Как Она могла сама распоряжаться своими командировками!?
Придя в Управление электросетей мне оставалось только лечь спать и забыться сном. Но уснуть я никак не мог. Мысленно я все снова переживал, и счастье неожиданно обретенное мною и горечь разлуки, остроту которой не могли смягчить даже слезы хлынувшие ночью. Гудок отходившего утром в темноте парохода, на котором Ее увозили в этапе еще больше напомнил мне об Ее утрате после порога счастья, на котором я побывал. Я сел на диване, так и не уснув за всю ночь.
«Что же делать? – неотступно вертелось у меня в голове, - что же мне предпринять, чтобы все же снова и снова видеть Ее»?
КОМАНДИРОВКА
«Командировка, да, командировка на материк, - как молния прорезала мысль мой разгоряченный мозг, - вот что мне нужно, это единственный выход повидать Ее, выход из создавшегося положения. Командировка чтобы снова увидеть Ее, чтобы хоть несколько часов пробыть с Ней, с горячо любимым человеком»! И тут же трезвый голос во мне: «Безумец, ты же забыл, что ты заключенный по 58-й статье, к тому же не отсидевший и половины десятилетнего срока, кто же выпустит тебе с Соловков? Хоть ты и заведующий электросетью, но это не такая важная должность в строго-иерархической лестнице концлагеря, чтобы тебя послали в командировку». Я похолодел, на меня снова напало отчаяние. Встряска накануне вечером от неожиданного сообщения об Ее отъезде, напряжение счастливых часов, горечь разлуки, бессонная ночь подействовали на истощенный организм и, снова растянувшись на своем деревянном диване, я незаметно уснул.
Сон был недолгим; я проснулся неожиданно, почти физически ощутив просверлившую снова мозг мысль: «командировка». Вскочив, как подброшенный неведомой силой, я сел на диване и уставился в темноту. Сон подкрепил меня и я готов был действовать. Логически поездка в командировку казалось совершенно не реальной, но к этой мысли я все же чаще и чаще возвращался. Пассивность просто не выдерживали нервы, надо было что-то делать, преодолевать. Я не могу сказать что все дальнейшие действия я предпринимал находясь в трансе под действием навязчивой идеи командировки. Нет, убедившись окончательно в необходимости выехать на свидание с Ней, я хладнокровно разработал образ своего поведения, чтобы добиться командировки. Не было еще и семи часов утра и идти в столь ранний час к заведующему Электропредприятиями заключенному инженеру-механику Русского флота Василию Ивановичу Пестову было просто дико, а мне так хотелось сейчас же взять первое, хотя и самое легкое препятствие, убедить в ходатайстве с его стороны о необходимости послать меня в командировку. Как медленно тянулось время и как хотелось мне действовать! Только большим усилием воли мне удавалось сохранять внешнее спокойствие, чтоб не вызвать никаких подозрений у контролера и дежурных электромонтеров.
С приходом в восемь часов утра линейных электромонтеров я еще протянул время разнарядкой их на работы, но когда последний электромонтер ушел с заданием, я больше не мог вытерпеть и, схватив папку с бумагами для доклада, кинулся на электростанцию. По дороге я несколько раз ловил себя на том, что с быстрой ходьбы срываюсь на бег. Отлично сознавая что такими темпами я дойду до электростанции задолго до девяти часов, когда начинала работать контора, я обошел Кремль вокруг, чтобы удлинить путь, и все же оказался на электростанции слишком рано. Потолкавшись в машинном зале, электромеханической мастерской, ровно в девять я зашел с докладом в комнату-кабинет Пестова.
Доложив безразличным тоном имевшиеся у меня бумажки и подсказав заведующему резолюции по ним, я начал действовать по разработанному плану. Мимоходом я снова обратил внимание, как это делал и раньше, на катастрофическое положение с электроматериалами для текущего и капитального ремонта электросетей и отсутствие запаса электроламп на зимовку. Пестов отлично это знал, очень боялся такого положения и даже по своей просьбе был послан незадолго до этого в командировку в Кемь в УСЛАГ начальником Соловецкого отделения чекистом Солодухиным. Пестов ездил с конвоиром, что являлось для меня страшным прецедентом. Сопровождаемый конвоиром я бы не смог Ее разыскать и повидать. Пестов вернулся ни с чем – все материалы шли на стройки ведомые СЛАГом на материке, а Соловки, как умирающе-производственное отделение, было заброшено. Неудача командировки Пестова осложняло выполнение моего плана – ходатайства Пестова о моем командировании, так как всякий средний человек не пошлет своего подчиненного на преодоление того барьера, на котором сам оскандалился, чтоб не показать его большие способности в случае удачи, выставить его более способным, чем он сам. Но не таков был добрейший Василий Иванович и я пошел ва-банк. Я предложил Пестову послать меня за материалами в СЛАГ, сославшись на былое расположение ко мне персонально бывшего заведующего соловецкими электропредприятиями заключенного инженера Боролина, занимавшего в Управлении СЛАГа должность главного механика и на Зиберта, работавшего теперь там же, а ранее заведовавшего соловецкими электросетями, нужды которых он великолепно знал и под началом которого я работал много лет.
К моей несказанной радости, смешанной с удивлением, Пестов с радостью поддержал мою идею и тут же написал рапорт Солодухину с ходатайством о моей командировке на материк, изложив положение создавшееся на острове с электролампами и электроматериалами, сгустив краски под мою диктовку. Пестов ушел к Солодухину, а я поплелся в управление сетей, по-прежнему раздираемый надеждой и сомнениями в осуществлении задуманного мною.
После соглашения Пестова, его неудача оборачивалась в мою пользу, так как отсутствие электроламп (по технической безграмотности на отсутствие электроматериалов для поддержания бесперебойного энергоснабжения концлагеря Солодухину было наплевать) заставит чекистов кого-то послать за ними, так как остаться с заключенными в темноте тюремщики больше всего боялись, и логично, казалось, что с командированием меня Солодухин согласится. Хотя я и преодолел первый барьер на тернистом пути моих хлопот, но по-прежнему у меня не было ни малейшего шанса, чтобы 3-я часть санкционировала командировку политзаключенного-десятилетника не отсидевшего на острове и половину срока. Настроение еще более омрачилось сознанием того, что если даже меня и пошлют, то вряд ли без конвоя, а тогда и вся затея бесполезна, потому что я не смогу повидать Ее. Командировка могла обернуться и против меня, если я съезжу с такими же результатами, как и Пестов. Кто знает во что мог вылиться гнев чекистского начальства оставшегося на зимовку без нормального освещения.
Бальзамом на мою истерзанную за полусуток душу был телефонный звонок Пестова, которым он предложил мне немедленно составить заявку на нужные электроматериалы, которую подпишет Солодухин, отдавший приказ о моей командировке. Вопрос о конвое оставался невыясненным и о нем я мог узнать только перед посадкой на пароход при получении документов. С конвоиром или без – от этого зависело все для чего я затеял свое командирование. Оставалось ждать очередного рейса парохода «СЛОН», который должен был прибыть с материка. На этот раз он долго в порту не простоял, так как навигация должна была вот-вот закрыться. После трех с половиной лет пребывания на острове передо мной открылась возможность вступить на материк, хотя бы на несколько дней.
Вспомнил о Ее сестре и посчитал своим долгом побывать в Пушхозе, чтобы сообщить о моей поездке и что надо устно передать Ей. На следующий день, под предлогом проверки электроснабжения Пушхоза, я отправился с утра в Пушхоз. Принят сестрой Ее был очень радушно, но от передачи Ей записки отказался, боясь обыска при посадке на пароход. Мне не хотелось рисковать после всего того что я проделал и достиг. А за обнаруженную самую безобидную записку, я бы угодил в следизолятор вместо материка.
Через день пришел «СЛОН» и меня вызвали в общий отдел управления Соловецкого отделения, где секретарь вручил мне заявку на материалы подписанную Солодухиным и командировочное удостоверение сроком на пять суток. Я взглянул на крупный шрифт последней строчки текста и от радости у меня подкосились ноги: жирной чертой чернилами были подчеркнуты слова «без конвоя». Итак я достиг всего вопреки всякой логики.
Ночь я почти не спал предвкушая радость свидания с любимой, и к семи часам утра уже был на пристани. Заканчивалась погрузка, у трапа на пароход стали оперативник 3-й части и солдат войск ОГПУ. Первый раз удостоверение мне пришлось предъявить в калитке порта при проходе на пристань, у трапа я предъявил вторично. В руках у меня была только папка с заявкой на материалы, в карманах тулупа мыло и полотенце. Ехал я во всем гражданском и только в командировочном удостоверении перед моей фамилией стояли две буквы «з/к», что значило заключенный. Оперативник внимательно прочитал удостоверение, вернул его мне, не обратил внимания на папку и без обыска велел проходить по трапу на пароход, на тот самый пароход, на котором в этапе меня, бесправного заключенного, под усиленным конвоем три с половиной года назад привезли на Соловки. Только тогда он назывался «Глеб Бокий». А теперь в обратном направлении я ехал как бы вольным человеком. Таким свой отъезд с Соловков я никогда себе не представлял, да и, вообще, не думал что когда-нибудь ступлю на материк.
Заключенный, посланный в командировку без конвоя, оказывался почти на положении вольнонаемного. Я имел право ехать не в трюме, как везли меня на Соловки, и я прошел в кают-компанию, сев в углу на мягкий диван. Постепенно каюта наполнилась чекистами, которые не обратили на меня ни малейшего внимания. Так, наверное, относились знатные римские патриции к своим рабам. На материк ехали Солодухин, начальник 3-й части с двумя следователями, командир дивизиона войск ОГПУ с несколькими командирами. Ехал еще и заведующий Пушхозом, вольнонаемный специалист, бывший политзаключенный, финн Туомайнен.
На Соловецких островах существовал «сухой закон». Пить спиртное по уставу концлагерей запрещалось и заключенным и вольнонаемным, в том числе и чекистам. Может быть высшее начальство скрытно и потягивало понемножку, но официально спиртное в Соловецкий концлагерь привозить запрещалось. Я был поражен насколько едущее со мной начальство изголодалось по выпивке. Едва за бортом послышалось журчание воды, свидетельствовавшее об отплытии парохода, а, следовательно экстерриториальности кают-компании от Соловков, услужливый заключенный буфетчик (на кораблях буфетчиком называется заведующий питанием команды и пассажиров) подал на стол батарею спиртоводочных изделий и началась пьянка. Поспешность, с которой буфетчик принес столь большое количество алкоголя, указывало на глубоко вошедшую в быт вольнонаемных чекистов традицию пьянки на корабле во время перехода с Соловков в Кемь.
Пройдя извилистый фарватер бухты Благословения, пароход вышел в открытое море и началась килевая и бортовая качка. Пьющие хватали бутылки и стаканы, проделывавшие в такт со столом замысловатые фигуры относительно горизонта, расплескивали «драгоценную» жидкость по столу и полу. Постепенно выпитый хмель, все усиливающаяся качка все больше выводили из строя тюремных вояк сползавших под стол и катавшихся по полу в ритме качки. Овладевшая ими морская болезнь, помноженная на выпитое, опустошала их желудки рвотой, которую они размазывали собственными бесчувственными телами.
От запаха рвотной массы, алкоголя, мне стало невмоготу сидеть в кают-компании, тем более, что от одного вида испачканных валявшихся по полу чекистов могло вытошнить и более крепкого человека, чем я, хотя морской болезни я и не был подвержен. Выйдя в коридорчик я сразу почувствовал облегчение, хотя при такой качке никак не мог устоять на месте. Меня стремительно увлекало то к одной стенке то к другой, то я мчался вдоль коридора, возвращаясь столь же стремительно назад в зависимости от того куда кренило пароход, куда был наклон пола. Вероятно так я долго не выдержал бы и вернулся бы в кают-компанию, если бы не увлек меня за собой очень ловко пробежавший по коридору вольнонаемный старший помощник капитана парохода, Александр Александрович Капков. Он был офицером торгового флота и никогда заключенным не был. Знакомство у меня с ним возникло через моего бывшего начальника заключенного офицера Русского военно-морского флота Зиберта. Капков окликнул меня по имени отчеству и предложил пойти с ним «проветриться» на капитанский мостик. Выйти из коридорчика на почти вертикальный трап и взбежать по нему вверх для моряка Капкова было делом привычным, но я этот путь преодолел с трудом. Носовой и бортовой крен то прижимал меня к стене, то замедлял мое движение вперед, то ускорял его до опасной скорости. Особенно оказалось трудно забраться по трапу, хотя я и крепко цеплялся за оба поручня. Трап со мной становился не только вертикально, но и запрокидывался надо мной, когда я окончательно замирал на месте, чтоб не упасть с него навзничь.
Вскарабкавшись на мостик, я осмотрелся. Капитан Иван Иванович Каулин, здоровенный финн, плававший на этом пароходе, когда последний принадлежал Соловецкому монастырю и перевозил богомольцев, а не заключенных, одетый в меховое пальто с поднятым воротником и в ушанке туго завязанной под подбородком лишь на секунды высовывался над бортами мостика, чтобы знакомиться с обстановкой.
Для предохранения от сильного ветра борта мостика в высоту были увеличены туго натянутым плотным брезентом выгибавшимся и вгибавшимся от порывов налетавшего шквального ветра. Северо-западный ветер силой в шесть баллов, дувший на пароход со стороны носа и правого борта вздымал громадные волны. Поднимаясь на них носом, пароход верхушками мачт почти доставал до низко нависших и гонимых ветром серых разорванных облаков, выше переходящих в сплошной низкий свинцовый небосклон, казавшийся еще темнее в рассвете короткого полярного дня. Высунувшись на секунду поверх брезентового борта, я похолодел, и не только от свинцового леденящего, буквально обжигавшего мое лицо сильного ветра. Все море было покрыто льдинами, несшимися на круто поднимавшихся волнах, в какой-то дикой пляске, навстречу пароходу. Шторм разломал прибрежный припой льда, уже успевший образоваться в ноябрьские и декабрьские морозы, доведшие его до значительной толщины. Пенящиеся гребни валов еще более увеличивали свою белизну, благодаря поднимаемы ими на себя льдинами, тем самым оттеняя свинцово-черную воду, наводившую ужас при мысли о возможности очутиться в ней. Пароход тяжело вылезал из межволновой впадины, взбираясь на очередной вал, задирая форштевень почти вертикально, и тут же скользил в пучину навстречу новой волне, зарываясь в нее так, что вода перекатывалась через бак, обдавая шканцы дождем брызг и уходя потом через шлюзы в фальшборте.
Опасность плавания я понял уже из факта ведения парохода самим Каулиным, но истинная величина опасности пойти на дно мне представилась только тогда, когда зарывшись в огромный вал, пароход выпрямляясь, подцепил на бак огромную льдину и под ее тяжестью потерял остойчивость, как-то бессильно склонившись на нос и на один борт, скрипя и вздрагивая от работавших за кормой по воздуху винтов. Капков запустил секундомер, так как каждая лишняя секунда грозила потоплению парохода, если ему не удастся выпрямиться. Надо было во время дать команду о спуске шлюпок для спасения команды, хотя вряд ли кто-нибудь мог спастись на шлюпке в такой шторм да еще при наличии несущихся льдин. В душе я пожалел, что ввязался сам в эту авантюру – поездку в такое время года в командировку. Передо мной встал, как живой, мой чудесный заведующий Пестов, напутствовавший меня: «Смотрите, не застряньте в Кеми на зимовку, ведь я здесь один остаюсь»! И от этого воспоминания у меня еще больше защемило сердце.
«Рупельдин, рупельдин», - неистово закричал в мегафон Каулин, почти полностью высунувшись за брезентовый борт и стараясь перекричать вой ветра в снастях. Капитан сохранил финский акцент в довольно сильной форме и мне стала понятна его команда только тогда, когда несколько заключенных матросов, привязанных канатом, чтоб их не смыло волной за борт парохода, до тех пор спасавшиеся от ветра на палубе, выскочили на бак и стали неистово рубить льдину, застрявшую на нем. По мере того как кирки и топоры отбивали куски льдины, которые баграми спихивали за борт, пароход постепенно обретал свою остойчивость и нос легче поднимался на очередную волну. Эта команда «руби льдину» раздавалась довольно часто, каждый раз когда пароход давал опасный крен на нос или на борт, рискуя захлебнуться в очередной волне и пойти на дно вместе с нами.
Продрогши на мостике и отупев от страха, я не выдержал и спустился в кают-компанию. Начальство изнемогши от выпитого и от морской болезни в самых разнообразных позах валялось на диванах и на полу. Я сел в угол и так прокоротал остальные часы морского путешествия.
Часов через шесть после отплытия с Соловков, качка заметно ослабла, мы зашли под прикрытие Карельского берега и вскоре, около трех часов дня, в полной темноте пароход застопорил машины и ошвартовался у пристани Попова острова, на котором был Кемперпункт концлагеря. В иллюминаторы поблескивали слабые редкие огни, но все же это уже была земля и притом материк.
Начальство проснулось, встряхнулось и вышло на шканцы. Спустили трап; я сошел на пристань последним и предъявил документ у конца трапа высокому толстому с усиками чекисту-коменданту пристани. На мой вопрос куда мне теперь идти, после того как он вернул мне удостоверение, комендант с удивлением ответил: «Куда Вам надо».
«Куда надо» - это было так неожиданно для меня, заключенного, так непривычно для уже усвоенной много за четыре года рабской психологии, которая подавляла волю человека. Я отвык действовать самостоятельно, тем более без разрешения. Я привык, как дисциплинированный заключенный, действовать только по приказу. И вдруг я стал как бы свободным человеком. «Куда надо» - было от чего растеряться.
Собрав всю волю, я осмелился зайти в контору пристани и попросить разрешение поговорить по телефону с главным механиком Управления СЛАГа. Мне повезло, в трубке я услышал знакомый голос Боролина с тревогой спросившего меня откуда я говорю. Я объяснил и он посоветовал мне переночевать на Поповом острове (теперь он называется Рабочим) и утром приехать к нему первым поездом. Я вышел из конторы успокоенным. Распоряжение Боролина пришлось мне по душе; нервное напряжение, усугубленное непривычным положением свободного человека оказалось для меня слишком большим испытанием моей воли и я с радостью, чуть не бегом, направился к воротам Кемперпункта, чтобы снова очутиться за проволокой, в положении заключенного, к которому я уже так привык. Я даже не ощущал всей значимости достигнутого мной, того, что я шел по земле материка, на которую ступить когда-либо у меня не было никакой надежды с тех пор как три с половиной года назад меня везли в этапе на Соловки, погрузив в трюм парохода с этой самой пристани. Человеку не испытавшему тюрьмы и долгих лет пребывания в концлагере показалось бы диким мое стремление добровольно и поскорее попасть за проволоку в неволю. Он посчитал бы меня просто сумасшедшим. Действительно, был ли я после всего пережитого нормальным человеком?
Предъявив на вахте у ворот удостоверение, я был впущен за проволоку на территорию концлагеря – Кемский пересыльный пункт. Дежурный комвзод отвел меня к командиру канцелярской роты, который вызвал дневального по бараку и тот показал мне свободное место на втором ярусе сплошных двойных нар. Я был рад ощущению твердой почвы под ногами, концлагерной крыше над головой и, подстелив тулуп, а под голову положив ушанку с удовольствием лег, чтобы мирно уснуть.
Однако это мне не удалось, так как с работы начали приходить заключенные. Очевидно, через дневального, слух о нахождении в бараке соловчанина распространился с мгновенной быстротой и все больше заключенных захотели со мной познакомиться. Для этих краткосрочников, имевших «возможность» попасть на Соловки только не понравившись начальству или за какой-нибудь проступок, я был полумифическим существом вернувшимся назад как бы из потустороннего мира. Этапы вывозимых с Соловков заключенных проходили через Кемперпункт транзитом и потому подлинного представления о страшных островах у постоянно находившихся на Кемперпункте не было. На меня посыпались градом различные, большей частью совсем нелепые, вопросы о Соловках, наглядно показавшие мне насколько искаженные представления о Соловецком концлагере, наглухо отгороженного от всего мира, бытовало у многих моих собеседников. Число вопрошавших меня все возрастало – получилась своеобразная пресс-конференция. Я врал о Соловках так, как только может врать, очутившийся заграницей и попавший в лапы дотошных корреспондентов, советский гражданин, постоянно помнящий о грозящем ему на родине возмездии за каждое слово правды, помнящий о предстоящих по возвращении за его правдивость мучительных допросах за «клевету на советскую действительность» и долгих годах заключения в концлагерях. В числе моих слушателей не могло не быть стукачей и все мои слова, возможно даже этим вечером, стали достоянием 3-й части и скажи я хоть слово правды об острове пыток и смерти на этом бы и окончилась моя командировка. Я мысленно видел перед собой безымянного следователя ОГПУ, к которому я бы попал на допрос, и в моих рассказах Соловки предстали нечто вроде санатория. Слушатели мои были удовлетворены и пресс-конференция пагубных для меня последствий не вызвала.
Сделав со всеми заключенными барака общий подъем и напившись кипятка с хлебом выданным мне на Соловках на три дня, я поспешил покинуть Кемперпункт. Освоившись с положением расконвоированного командировочного (заключенного командированного без конвоя), я без всякого трепета прошел «на волю» из проволоки через пропускную будку, предъявив командировочное удостоверение и даже спросил дежурного командира войск ОГПУ о маршруте на вокзал.
Шел я поселком Попова острова среди домов населенных вольными местными жителями, которые по-одиночке шли в разные стороны. От непривычной обстановки нервы снова напряглись до крайности. Мне казалось что на меня все обращают внимание, как на заключенного, хотя я был одет во все гражданское и по виду не мог отличаться от вольных граждан. Встречая солдат войск ОГПУ и ВОХРа я невольно каждый раз нащупывал в кармане командировочное удостоверение и даже замедлял шаг, ожидая проверку документов. Но все проходили мимо меня и я добрался до железной дороги. Впоследствии я узнал о свободном хождении расконвоированых заключенных-краткосрочников из Кемперпункта на месте работы вне территории концлагеря. Слабое освещение поселка не дало мне различить обмундирование многих встреченных мною заключенных, шедших через поселок, а потому и вольных и заключенных я всех принял за вольных граждан, которых не так уж много жило на Поповом острове.
С робостью переступив порог зала ожидания, я увидел быстро двигающуюся очередь у билетной кассы. К моему большому изумлению, несколько человек в очереди были одеты в лагерное обмундирование, и без всякого страха подходили к окошечку и без предъявления документов покупали билеты. Мне потребовалось некоторое время, чтобы заставить себя стать в очередь, но у кассы мой голос осекся и я с трудом выдавил: «До 90-го пикета». Кто-то меня предупредил, чтоб я сказал до станции «90-й пикет», так как она ближе расположена к Управлению СЛАГа, чем станция Кемь. Кассир удивленно посмотрел на командировочное удостоверение, которое я предъявил, выдал билет и сдачу.
Я смотрел на настоящий железнодорожный билет и чему-то удивлялся. Так с билетом в руках, как с каким-то значком, подтверждающим, что в данный момент я не совсем заключенный, я вышел из здания в сторону рельс и тут меня ожидало новое странное явление. Вагонов еще не было и я обратил внимание на рельсы. Наметавшийся за несколько лет на соловецкую узкоколейку глаз воспринял нормальную железнодорожную колею, как нечто грандиозное. Ширина колеи, толщина рельс показалась мне такой величины, что я принял их за подъездной путь гигантского подъездного крана. Я растерянно смотрел, пытаясь увидеть железную дорогу, по которой я должен ехать. Мои сомнения рассеялись, когда по этим «крановым» рельсам подали состав из нескольких пассажирских вагонов. Я был изумлен и размерами паровоза.
Войдя в вагон, я стал оглядывать публику, вольных граждан, которых я не видел столько лет. В пути по разговорам я понял о присутствии среди пассажиров и заключенных в гражданской одежде, также свободно едущих, как и я, среди вольной публики. Я все больше и больше удивлялся этим «вольностям» несовместимым, по понятиям соловчанина, с концлагерным режимом, столь детально изученным мною по горькому опыту стольких лет моего пребывания в Соловецком концлагере.
Станция «90-й пикет» была, как потом я узнал, товарной станцией Кемского отделения концлагеря, куда прибывали грузы для Соловецких концлагерей. Здесь громадные пакгаузы, расположенные на окраине города обслуживались исключительно заключенными кладовщиками, а вагоны разгружались заключенными грузчиками. Первый же из них, к которому я обратился, точно указал мне путь в Управление СЛАГа.
Я шел по улице города, впервые после четырехлетнего заключения, мимо маленьких односемейных одноэтажных деревянных домишек, где приветливо светились огоньки, где жили вольные люди со своими семьями, от которых меня отделяла только невидимая стена моего положения заключенного.
Здание Управления СЛАГа ОГПУ производило громадное впечатление своим объемом, блеском освещенных больших окон. Своей высотой оно совершенно подавляло деревянные дома, из которых состоял город (кроме здания УСЛАГа каменными в городе были только собор, рядом с УСЛАГом, и приземистое одноэтажное здание Государственного банка ближе к реке Кеми), как бы символизируя подавление всей страны, всего народа сверхзаконной мощью ОГПУ.
В шикарном вестибюле (здание было построено концлагерем, как гостиница для иностранных туристов в 1928 году, но занято под Управление СЛАГа в конце 1929 года) дежурный комендант, отделенный командир войск ОГПУ, проверив мое удостоверение, объяснил, как пройти в ПРО (Производственный отдел) к главному механику.
Поднявшись по широкой пологой лестнице на второй этаж я открыл указанную мне дверь и подумал, что … заблудился. Передо мной простирался огромный двухсветный зал (бывший ресторан) тесно заставленный столами за которыми что-то писали люди.
Два угла у наружной стены были отгорожены стеклянными переборками в рост человека. В одном из этих «кабинетов» я увидел обожаемого Павла Васильевича Боролина. Напротив него сидел также хорошо ко мне относившийся, и тоже бывший заведующий Соловецкими электропредприятиями заключенный артиллерийский офицер – инженер-технолог Гейфель. На стуле, пришедший с докладом к главному механику, Боролину, сидел мой бывший начальник Александр Федорович Зиберт, теперь уже вольнонаемный, после окончаний срока заключения, заведующий электросетями СЛАГа. Меня поджидали и встреча со всеми троими была самая теплая. Без длинных фраз, без выражения чувств, так как из зала было все видно, а слышимость была идеальной, я почувствовал насколько все трое ко мне привязаны и меня не забыли. Только из-за одной такой встречи можно было рисковать переправой через бурное море. А Боролин, всегда выказывавший по отношению меня, хотя и скрытно, лучшие отцовские чувства, даже спросил, как я отважился на поездку в такое время года и притом почти в закрытие навигации. Последнее замечание меня несколько разочаровало, так как из него я понял об отсутствии у Боролина мысли задержать меня на материке. Затем Боролин, расспросив о здоровье Пестова (он знал, что у последнего чахотка), бегло просмотрел привезенную мною заявку на материалы и написал резолюцию «Поддерживаю и прошу отпустить в полном объеме, как крайне необходимое». Он передал заявку Зиберту: «Александр Федорович, Вы лучше меня знаете Соловецкие электросети, может быть еще добавите к заявке что-нибудь, но во всяком случае добейтесь у начальника отдела техснабжения, чтобы все было отправлено с первым пароходом, а в отношении Вашего, и он обратился ко мне, вызова сюда с Соловков поговорим после, сейчас я спешу с докладом к начальнику управления». Боролин исчез с папкой под мышкой, а мои старшие друзья подробно расспрашивали о наших общих знакомых оставшихся на Соловках.
Казалось, я должен был быть на вершине счастья, встреченный так тепло, находясь в обществе старших друзей, с которыми так сблизило наше общее несчастье, с друзьями, которые своей отеческой заботой обо мне не только скрашивали существование заключенного, но и во многом сохраняли мне жизнь. На самом деле я сидел как на иголках, желая скорее закончить официальную часть моей командировки – получить материалы, обладание которыми, хотя и возвысило бы меня в глазах соловецкого начальства и принесло большую пользу в моей личной карьере, но в данный момент казалось мне таким ничтожным по сравнению с главной поставленной мною целью командировки – свидания с Ней.
Наконец Зиберт встал и предложил мне идти вместе с ним на склады технического снабжения отбирать материалы. Выходя из здания мы зашли с ним в Общий отдел, где я отметил командировку и меня взяли временно на списочный состав Кемского отделения концлагеря. Склады были расположены на 90-м пикете и мы проделали тот же путь, что и я, идя в Управление, но только в обратном порядке.
По дороге, отвечая невпопад на вопросы Зиберта, чем немало его удивил, я все обдумывал, как мне Ее разыскать. И чем больше я думал, тем безнадежнее казалась мне возможность отыскать Ее среди тысячи заключенных, разделенных проволокой, патрулями, расстояниями. С отчаяния у меня даже мелькнула мысль обратиться в Сельхозотдел СЛАГа, где начальником был заключенный Лесли, тоже перебравшийся с Соловков, тот самый Лесли, который выпытывал меня, когда мы с ним на Соловках возвращались с Ее имянин и к которому не только не хотелось бы обращаться, но может быть даже было и опасно ввиду имевшихся у него подозрений о наших отношениях. Исподволь я узнал у Зиберта о местоположении Кемской Зональной станции, где по нашему с Ней предположению Она должна была работать и куда я в конце концов решил зайти из складов.
А вышло все легче и проще. Когда мы с Зибертом почти подходили к складам и от нас ответвилась дорога на Кемский лагерный пункт «Вегеракша», у меня страшно забилось сердце. В предрассветных короткого полярного дня сумерках на дороге к «Вегеракше» я увидел такой знакомый белый пуховой берет, обладательница которого тихим шагом удалялась от нас. Скорее внутренним чувством чем зрением, я понял, что это была Она. Извинившись перед изумленным Зибертом, попрося его в нескольких словах отобрать без меня материалы, не дожидаясь его ответа, я устремился за белым беретом. Быстрым шагом я нагнал Ее. Из предосторожности, чтобы не быть захваченными патрулем, мы постояли всего несколько мгновений, впившись в друг друга лишь глазами. Ее взгляд мне сказал о многом, ради него можно было пойти на преодоление и не таких препятствий, какие я преодолел, чтобы только увидеть Ее. Она глазами указала мне на двухэтажный дом по дороге на «Вегеракшу» и сказала: «Приходи туда ко мне», - и лишь, временами оглядываясь, продолжила свой путь.
На крыльях счастья летел я обратно, разыскал Зиберта на складах и принял участие в отборе материалов. Зиберт вложил всю свою энергию, чтоб снабдить Соловки как следует на долгую зимовку, тем самым подняв мой престиж на острове. Теперь весь вопрос состоял в том, пойдет ли еще пароход на Соловки, не скует ли море полярная зима? Лично меня этот вопрос не беспокоил, хотя и жаль было Пестова и моего друга Н., которым пришлось бы туго и без материалов и без меня. Остаться на материке около Нее, не возвращаясь на Соловки вследствие закрытия навигации – чего лучшего мне было желать?!
Оформить документы на отпуск и отправку материалов для Соловков Зиберт взял на себя, я его сердечно поблагодарил и устремился в указанный Ею мне дом, оказавшийся Кемской Зональной станцией Академии Наук. Входя в это здание я еще не знал сколько счастливых часов в течение нескольких месяцев впоследствии я проведу в нем наедине с Ней.
Едва переступив порог, я попал в объятия профессора, первого из Соловецкого Биосада переброшенного в Кемь еще ранней осенью. «Батенька, - обратился он ко мне, - ищу Вас всюду, был в городе на электростанции, никак не могу Вас найти»! Тотчас же он провел меня на второй этаж к Ней в Ее кабинет, немедленно удалившись из скромности. Как выяснилось, любезный заведующий Соловецким Пушхозом Туомайнен, ехавший со мной одним пароходом, сразу с пристани приехал в Кемь и передал Ей от сестры ту самую записку, которую я побоялся взять. А в записке было приписано, что и я еду в Кемь. Она с утра мобилизовала знавших меня ученых мужей на розыски меня и сама пошла меня разыскивать. После безрезультатных поисков я и увидел Ее, возвращающуюся на Зональную станцию. Вскоре и остальные гонцы по-очереди приходили, разводя руками, не отыскав меня, и увидев, горячо жали мне руку.
Не исключая возможности какой-либо проверки, мы сидели на расстоянии, смотрели друг на друга влюбленными глазами. Дни разлуки оказались на руку мне, показав Ей кем я для Нее стал. Взгляды говорили больше, чем могли выразить слова.
По сравнению с Соловками жилищные условия в Кеми для Нее были неизмеримо хуже за проволокой на «Вегеракше» в женском бараке с двухъярусными общими нарами. В бараке Она находилась только вечер и ночь, остальное время на Зональной станции, имея индивидуальный пропуск для выхода за проволоку без конвоя. Часть вещей Она уже перенесла в свой рабочий кабинет на Зональной станции, но права жительства в нем Она не имела и к вечерней поверке должна была возвращаться на «Вегеракшу» в женский барак. «Видишь, - говорила Она мне, - здесь условия совершенно другие, чем на Соловках для того чтоб нам встречаться, весь вопрос как ты здесь устроишься, сможешь ли выходить за проволоку без конвоя, чтобы приходить ко мне на Зональную станцию». Этот вопрос был действительно серьезным, жизненно важным для нас обоих, о нем надо было призадуматься. «И все же я ничуть не жалею, - говорила Она, - что добилась вызова на материк. Пусть жилищные условия были бы еще хуже, я все же обязана была бы добиваться перевода, чтоб видеть своих детей». Как мать Она была тысячу раз права. На Соловках заключенным свидания с родными перестали давать с 1931 года, а на материке давали и в Кемь дети могли к Ней приехать и были у Нее на свидании зимой в то время, как я был отрезан от Нее полярной зимовкой на Соловках.
Я просидел у Нее до шести часов вечера, когда начинались после перерыва вечерние занятия в Управлении СЛАГа, а Ей надо было идти на ночь, на вечернюю поверку за проволоку на «Вегеракшу». Мы чудно, почти по-семейному, пообедали Ее приготовлением из сельхозпродуктов, подбрасываемых сотрудникам-заключенным Зональной станции заведующим лагерного сельхоза, на территории которого была расположена Станция и услугами которой пользовался Сельхоз для проведения анализов молока и другой сельхозпродукции в лабораториях Станции. Она угощала меня содержимым полученных Ею еще на Соловках посылок, ничего не жалея для меня. Нежно распрощавшись, условились о моем приходе на следующий день.
Придя в Управление, я узнал от Зиберта о триумфе моей командировки. Все затребованное и даже больше, по его настоянию, оформлено для отправки на Соловки и завтра уже будет на пристани Кемперпункта для отправки на пароходе. Несмотря на свою занятость, Боролин уже позаботился о моем ночлеге в общежитии заключенных ответработников Управления, где я уже взят по его ходатайству на улучшенное питание, полагавшееся здесь ответработникам. Я и раньше знал каким авторитетом пользуется Боролин у начальства, теперь в этом еще раз убедился. Боролин извинился, что переносит разговор о моем вызове на материк для работы в Кеми на следующий день, так как спешит на совещание к начальнику концлагеря.
Так как вечерние занятия оканчивались в одиннадцать часов вечера, Зиберт предложил проводить меня до общежития, чтоб я отдохнул, и мы вышли с ним вместе и пошли в обратном утреннему маршруту направлении. Пройдя по слабоосвещенной улице, мы свернули под прямым углом на вокзальную и, пройдя десяток домишек, оказались за городом, но не близко к железнодорожной станции. На левой стороне улицы последним стоял длинный одноэтажный деревянный барак – общежитие ответработников. Хотя они и были заключенными никакого караула около дома не было.
И мне еще раз стало ясно какой ненужной и жестокой была вся концлагерная стража, какой бутафорией и притом очень дорогой для казны, а, следовательно и для народа, были все эти войска ОГПУ, конвойные батальоны. Из этого общежития, стоявшего за городом среди пустыря в двух шагах от железнодорожной станции не было ни одного побега. Так почему надо было сажать остальные миллионы заключенных за проволоку, обставлять ее вышками с часовыми? Только единицы из политзаключенных могли бежать, а остальным даже в голову не приходило ослушаться ОГПУ. Запуганные до такой степени свалившимся на них неожиданным несчастьем, переживая которое они даже радовались, что им сохранили жизнь, никуда бы эти люди не делись.
В общежитии помещалось 30-40 заведующих отделами, старших исполнителей отделов – все заключенные, в том числе и Гейфель. В бараке была и кухня для ответработников. Комендант общежития, ответственный исполнитель отдела снабжения – заключенный был комендантом «на общественных началах». Ответработники под началом этого коменданта, который главным образом занимался организацией питания, жили привольно и даже посытнее вольных граждан г. Кеми в страшные голодные годы начала тридцатых годов. Безусловно ответработники были оторваны от семей, но и тут были исключения. Так Боролин получил право на постоянное совместное проживание со своей женой на частной квартире в г. Кеми. Все это было так не похоже на лагерный режим Соловков и еще более говорило в пользу желательности переброски меня на материк.
Я подал записку Боролина коменданту общежития, который указал мне на свободный деревянный диван, такой же, как и тот на котором я спал на Соловках и взял у меня продовольственный аттестат для зачисления по записке Боролина на питание. Устав от стольких радостных переживаний за день, я сразу крепко уснул, едва подложив под себя тулуп. В двенадцатом часу, когда заключенные ответработники пришли с занятий, дневальный меня разбудил и пригласил к столу ужинать. Заняв место за столиком на четверых вместе с Гейфелем, я был поражен высокой калорийностью ужина по тем годам, особенно по сравнению с пайком заключенного на Соловках. Комендант сиял, обходя столики, явно гордясь сытным ужином. Нам на четверых повар подал на стол копченую тушку какого-то животного, величиною с домашнюю кошку, за которую я сразу и посчитал наше мясное блюдо. На Соловках наиболее удачливые, но от этого не менее голодные, чем вся масса заключенных, ловили крыс, которые были подспорьем в питании. Я так давно не ел мяса, что у меня потекли слюнки и на «кошку». Однако это оказался небольшой тюлень. В вареном и жареном виде мясо тюленя совершенно несъедобно даже для голодающих вследствие специфического запаха тюленьего жира – ворвани. Однако копченый оказался даже деликатесом и, не только мне одному, понравился. Обсосав все косточки своей порции, я пришел к твердому заключению о возможности прожить в концлагере, но для этого надо было быть ответработником…
На другой день с утра я зашел в Общий отдел и узнал о спешке с отправкой парохода на Соловки. Вследствие грянувших внезапно сильных морозов, могущих закрыть навигацию, отход парохода был назначен на утро завтрашнего дня. В моем распоряжении оставался только один день свидания с Ней и решающий для моей дальнейшей судьбы: как обернется разговор с Боролиным в отношении моего затребования с Соловков в Кемское отделение? Нашел ли он что-нибудь подходящее для меня в Кеми и пропустит ли 3-й отдел мой вызов с Соловков?
Я зашел к Боролину. Его голубые лучистые глаза светились как обычно, но чувствовалось, что ему несколько неприятно меня огорчить. Смотря мне прямо в глаза, Боролин со свойственным ему тактом объяснил отсутствие по моим качествам вакантной должности в Управлении, которая давала бы мне жить и работать в городе Кеми, пользуясь свободой передвижения. «Дежурным у распределительного щита на электростанцию «Вегеракша» я бы на Вас сейчас же дал вызов, - сказал мне Боролин в заключение, - но Вы сами подумайте быть запертым на пятачке в проволоке на «Вегеракше», жить на двойных нарах рядовым заключенным, питаться на общей кухне и все это после заведывания электросетями и комнаты на двоих, что Вы имеете на Соловках, да и знания у Вас больше чем быть дежурным, - это не для Вас». С железной логикой Боролина нельзя было не согласиться, то что он мог предложить действительно ухудшило бы мои бытовые условия, отразилось бы на психике сидеть за проволокой. На все это можно было бы пойти, если бы я мог продолжить видеться с Ней, но такое мое положение как раз и исключало последнее.
«Я Вас не забываю, - сказал мне Боролин на прощание, - потерпите до весны, за зиму что-нибудь я для Вас подготовлю, дам вызов и с первым пароходом Вы будете с нами». Боролин ушел, Гейфель и Зиберт сказали мне много слов надежды и утешения.
С тяжелым сердцем шел я из Управления к Ней. Меня уже раздражали гаснувшие в домиках огоньки, открываемые женскими руками домохозяек занавески на окнах. Обычный день вольных людей за стенами их жилищ, таких недоступных для меня, заключенного, погружал меня все больше и больше в пучину душевного мрака. «Нет, - думалось мне, - я не выдержал бы заключения в таких условиях, видя постоянно вольную жизнь и не имея возможности вкусить всю прелесть ее. Скорее обратно на Соловки, где все стало мне привычно, где за долгие годы я потерял мучительное стремление к свободе к человеческому счастью и которые теперь снова с такой силой ворвались в мою душу. В концлагерном соловецком режиме я по крайней мере буду избавлен от таких контрастов».
Встреча с Ней была также нежна и очаровательна, как и накануне. Безусловно и Ей было неприятно отсутствие у меня возможности перебраться на материк, попасть на такую должность, чтоб беспрепятственно видеться с Ней. С другой стороны, хотя Она это и тщательно скрывала от меня, но это я чувствовал сердцем, мое присутствие вблизи Ее могло навлечь на Нее неприятности, которые могли отразиться на возможности получить свидание с детьми и неудача моего перевода в Кемь, как бы очищала Ее совесть перед Ее детьми. Она снова утешала меня обещанием с первым пароходом после зимовки приехать под видом командировки на Соловки повидать меня и сестру.
Я снова провел с Ней день, почти все время наедине с Ней в Ее кабинете. Мы так же обедали, так же смотрели друг на друга, о многом переговорили, сидя на расстоянии из предосторожности. Настало время идти Ей за проволоку на поверку, мы прощались и никак не могли расстаться. Не подавая друг другу вида, каждый из нас понимал, что это может быть последнее прощание, в условиях концлагеря оно могло быть таким и быть на 99 процентов.
По дороге от Нее я зашел в Общий отдел, отметил командировку, узнал расписание поездов до Попова острова и получил подтверждение отправки «СЛОНа» завтра утром на Соловки. Прощание с Боролиным, Гейфелем, Зибертом было очень трогательным и теплым. Все меня подбадривали, вселяя надежду на мой окончательный переезд в Кемь с открытием навигации. Поужинав в общежитии ответработников и переночевав там, на следующее утро, 5 января 1933 года, я первым поездом приехал на Попов остров. Железнодорожный билет я уже взял без всякой робости, на пристань пришел также уверенно. На «СЛОН» грузили в числе прочих грузов ящики с электролампами, роликами, изоляторами, бухты проводов – результат моей командировки, доброго отношения ко мне Боролина и Зиберта.
Благодаря отсутствию облачного покрова было уже довольно светло, на юге светилась заря, за горизонтом угадывалось солнце, совершающее восхождение по плоской орбите, чтобы только на несколько минут выплыть полностью над горизонтом около астрономического полдня. Чувствовался крепкий мороз, сковавший тонким льдом рейд. Вскоре погрузка была закончена, я подошел к трапу на пароход, где уже стоял тот самый усатый комендант, который меня встречал. Я предъявил удостоверение и снова прошел без обыска, спустившись в кают-компанию. И снова мне вспомнилось как почти четыре года назад я шел в цепочке заключенных, поднимаясь на этот самый пароход, по этому самому трапу, шел в полную неизвестность своей судьбы, не надеясь когда-либо вернуться с Соловков. Однако на несколько дней я все же вернулся, походил по материковой земле и снова ехал на Соловки, но на этот раз не в трюме, а в кают-компании, ехал с удовольствием, возвращаясь в ставшие для меня обычными условия, как возвращаются со спокойными нервами в родной дом.
Между тем швартовы были отданы, последняя связь с материком нарушена и «СЛОН», легко кроша тонкий лед, стал набирать скорость, взяв курс на восток на Соловки. Единственным моим спутником был заведующий Соловецким сельхозом заключенный офицер-улан Воейков, возвращавшийся, также, как и я, из командировки без конвоя. Я немного был с ним знаком и мы приятно начали коротать время перехода на Соловки в разговорах о своей жизни на воле, не касаясь ни политики, ни постигшего нас несчастья. Затем мы вышли на палубу.
Короткий полярный день, вернее очень светлые и длительные сумерки переходившие из утренних в вечерние, были настолько хороши и своим белесоватым страшно высоким небом и абсолютным штилем на море, несколько нарушавшемся мертвой зыбью, оставшейся от шторма предыдущих дней. Несмотря на двадцатиградусный мороз льда в море не было и пароход необыкновенно быстро скользил по воде, лишь слегка покачиваясь на плоских широких волнах. На ходовом мостике стоял один старпом Капков, что означало спокойное плавание. Вышедший на палубу Каулин был в благодушном настроении радуясь морозу, предвещавшему немедленный конец навигации, а, следовательно и наступление длительного отпуска для него. Вдали показались Соловки. Уже четко вырисовывались контуры Кремля над полоской белизны снежного покрова острова, резко оттененной пространством более темной воды. Казался конец перехода по морю очень близким – не больше часа. Налюбовавшись видом и основательно замерзнув, мы спустились в кают-компанию.
Прошло немного времени, мы даже не успели согреться, как страшный грохот потряс весь пароход, который резко снизил ход и остановился. Впечатление было такое, что как будто мы ехали в опор на телеге по асфальту и вылетели на булыжную мостовую. Первой мыслью промелькнувшей у меня в голове было предположение, что мы сели на камни. Потонуть у самого берега за несколько минут до возвращения было бы совсем глупо. В душе я еще раз себя ругнул за то, что ввязался в командировку. Выскочив на палубу, мы увидели, что стоим среди ледяного поля в еще значительном отдалении от берега и впереди до самого берега сплошной припой льда, молодого, прозрачного, но от этого не менее крепкого, успевшего за два-три дня грянувших крепких морозов достичь значительной толщины. На ходовом мостике уже был Каулин. «Затний коот»! скомандовал он в переговорную трубу. «СЛОН» по пробитому им сходу среди льда каналу отошел назад на большое расстояние и с разбега врезался в лед на минимальной скорости. Тот же грохот, то же сотрясение всего парохода и от острого носа полетела ледяная крошка и заколыхались на воде отломанные льдины. Пароход теряя скорость и пройдя расстояние в разломанном льду в несколько своих корпусов, остановился. Снова «затний коот» и снова «полный вперед». Выручило остроумное устройство парохода. Деревянный, обшитый листовой сталью, с очень острым форштевнем, «СЛОН» был пароходом полуледокольного типа и за свое долгое плавание на нем Каулин, очевидно, не раз пользовался этим преимуществом корабля, чтобы благополучно заканчивать плавание в самые последние дни навигации. Так отступая для разгона, кроша лед и снова останавливаясь более трех часов «СЛОН» пробивался к острову, сначала в открытом море, потом по извилистому фарватеру бухты Благословения.
Ошвартовались у пристани мы уже в полной темноте. Я сошел на пристань, предъявил удостоверение дежурившему оперативнику 3-й части и снова обыску не подвергся.
Придя в Управление электросетей, я сел на свой диван, я был «дома». В этот момент больше я ничего не хотел.
ПРОЩАЙ СОЛОВКИ
«Прощай Соловки», - мысленно сказал я себе 30 июня 1933 года, когда меня под конвоем в этапе погрузили на пароход для отправки на материк. Но прежде чем подробно описать этот эпизод моего спасения с Соловков, надо рассказать подробно о событиях предшествовавших ему непосредственно.
Весна 1933 года в районе Белого моря была ранней и дружной. Всевышний сжалился над соловецкими заключенными испытывавшими в зимовку муки голода в самую голодную из всех зимовок на Соловках и дал возможность открыть навигацию на две недели ранее обычного, уже в конце мая. Заключенные, о которых заботились родственники, могли слегка утолить голод, получив скорее продуктовые посылки из дому, чем обычно.
По проторенной дорожке, с открытием навигации 1933 года, я снова напросился послать меня в командировку в Управление СЛАГа в г. Кемь. Оформление прошло быстро и со вторым рейсом парохода «СЛОН», в конце мая, я отбыл с Соловков снова без конвоя и на этот раз единственным пассажиром в кают-компании. Большой этап заключенных вывозимых с Соловков был погружен в трюм парохода. Расконвоированный командировочный заключенный был не совсем заключенным и мое место было далеко от трюма. Такая же тщательная, как и при первой командировке, проверка удостоверения и при посадке и при выходе с парохода, также я не подвергся обыску ни на Соловках, ни на пристани Попова острова. Я уже не трусил, принимая льготы положенные мне командировочным удостоверением, как что-то само собой разумеющееся, и ехал в отличном настроении предвкушая свидание с Ней.
Изредка посещая во время зимовки Ее сестру в Пушхозе, я был до некоторой степени в курсе Ее житья-бытья в Кеми из записок передаваемых Ею сестре через летавшего несколько раз на самолете на материк вольнонаемного заведующего Пушхозом Туомайнена. Несколько коротеньких записок перепало и мне. «Как-то мы встретимся, не охладела ли Она ко мне за время разлуки»? Этот вопрос несколько тревожил меня во время перехода по морю, которое на этот раз, было совершенно спокойное и «СЛОН» шел быстро и в первом часу дня уже ошвартовался у причала Попова острова.
Я не звонил Боролину, не заходил за проволоку Кемперпункта, чтобы переночевать под концлагерной крышей, а прямо направился на станцию железной дороги и без тени смущения взял билет до 90-го пикета. Поезд отходил только в четыре часа дня, времени было еще много и я прошелся по поселку Попова острова, который в предыдущую командировку я не рассмотрел в темноте.
Три десятка одноэтажных бревенчатых домиков с затейливыми резными наличниками на окнах и резными коньками крыш представляли собой своеобразную русскую северную архитектуру. Домики образовывали нечто вроде одной улицы, на которой стояло несколько столбов с электрическими лампочками. Ни кустика, ни травинки – сплошная скала и нагромождение валунов, расположение которых предопределяло расстановку домов, которые подчас и опирались на них. Вследствие этого расположение домов было хаотическое, а сама «улица» имела весьма неровную поверхность. Характерно, что даже столбы не могли быть врыты в почву, а стояли на крестовинах, также как и дома прямо срубами на граните без всяких фундаментов. Обитатели поселка занимались рыболовством, ни о каких огородах или содержании домашнего скота не могло быть и речи. Несмотря на солнечный день все было серо, угрюмо, наводило тоску. Если бы не пестро-раскрашенные резные украшения изб и кое-где цветы на окнах, глазу не было бы на чем отдохнуть.
Со станции «90-й пикет» я сразу прошел в Зональную станцию и неожиданно для Нее предстал перед Ней. Теплота встречи превзошла все мои ожидания. Мне также были приятны перемены к лучшему происшедшие в ее психики за время пребывания на материке. Не ощущалось больше той запуганности, которая подсознательно проявлялась наружу в большей или меньшей степени, сопутствуя каждому заключенному после ареста, следствия, приговора, этапа и еще более усугублявшаяся жестоким концлагерным режимом на Соловках. Она уже не пугалась последствий обнаружения меня у Нее, так как всякие проверки в Кеми отсутствовали. Она жила в доме Зональной станции, отгородив свою кровать с ночным столиком шкафами от остальной части своего кабинета-лаборатории. От поверок в роте Она была освобождена и в концлагерь «Вегеракша» ходила только три раза в месяц за сухим пайком, да еще за получением посылок. Она имела пропуск для хождения по городу в дневные часы. Фактически Она перестала быть заключенной, таковой Она только числилась, но, конечно к своим детям поехать Она не могла, а это по-прежнему для Нее оставалось главным в жизни.
Нам так много надо было сказать друг другу после разлуки, а время бежало так быстро и я никак не мог наглядеться на Нее. Но я не располагал временем. Нельзя было окончательно терять голову, зазнаться в роли командировочного, надо было своевременно явиться в Управление СЛАГа на отметку о прибытии. И все же, несмотря на то, что я почти бегом промчался от Зональной станции до Управления, перед дежурным комендантом я предстал только в девятом часу. Впрочем комендант не обратил ни малейшего внимания откуда я свалился в такой час и где болтался с прихода поезда на 90-й пикет в шестом часу.
Отметив командировку в Общем отделе у бывшего председателя ЦИК Автономной Якутской республики, а ныне заключенного секретаря отдела, я ввалился в ПРО и был очень тепло встречен Боролиным и Гейфелем. «Ну вот, - радостно говорил Гейфель, - опять мы вместе, теперь уже мы Вас не отпустим на Соловки, будете с нами»! Окончание фразы из-за присутствия Боролина меня не устраивало. Я был очень благодарен сердечному искреннему отношению ко мне Гейфеля, и неподдельной радости проявленной им, но, зная характер Боролина, это «мы» могло мне только повредить. Боролин любил делать добро своим подчиненным, любил и выражения благодарности за него, притом благодарности адресованной только ему одному. Гейфель никакой роли в вызове меня с Соловков не мог играть, все было в руках Боролина, который услышав самонадеянное окончание фразы Гейфеля, мог свободно умыть руки. Будущее показало, что Боролин был выше всякой зависти и хотя в этот вечер он и не поддержал Гейфеля, на другой день утром, он без всяких предисловий заверил меня о своем твердом намерении вызвать меня в Кемь. «На Соловках без Вас справятся, - сказал он мне, по деловому, - я дам вызов и думаю, что 3-й отдел не будет мне препятствовать, и на Соловках Вы довольно уже отсидели. А здесь я подберу для Вас место». Слово Боролина было твердо всегда и его обещанию, без малейшего сомнения, я сразу поверил и успокоился. Я знал, что Боролин не побоится драться за меня и в 3-м отделе, наводившем на всех ужас, дойдет до начальника Управления, вырвет меня с Соловков, раз он дал мне слово. Мало того, что Боролин обещал меня вытянуть с Соловков, его любезность была и далее безгранична. Он не только сразу по моем прибытии снова устроил меня на жительство и на питание в общежитие ответработников, но и прямо сказал: «Отдыхайте здесь командировочным сколько хотите, я буду продлевать Вам командировку, только показывайтесь утром и вечером в ПРО, а материалы как-нибудь с Александром Федоровичем отберете и их без Вас отправят на Соловки». О большем в моем положении политзаключенного нельзя было и мечтать. За четыре года беспросветного напряженного и непрерывного труда я получил «отпуск» из концлагеря, да еще мог видеться с любимой без ограничения и быть на пайке ответработника в общежитии ответработников, которые в сравнении с долей заключенного на Соловках даже из лагерной элиты, представляло для меня настоящим санаторием.
На крыльях счастья, с радостными новостями я тотчас же устремился на Зональную станцию. Ее радости по поводу обещания дать на меня вызов не было границ. Мы пробыли весь день вместе, нам никто не мешал. Ученые мужи не любопытничали и не обращались к Ней по делам. Перерыв был только когда я ходил в общежитие обедать и снова с Ней до вечера, когда я показался в ПРО и ушел ужинать и спать. Безусловно о ночевке на Зональной станции не могло быть и речи. Ни Она, ни я были не так воспитаны.
Так прошло дивных три дня в свидании с Ней с утра до вечера. Боролин написал записку в Общий отдел о продлении моей командировки, где командировку продлили на три дня. С моим пребыванием Она запустила работу и после того как я получил продление командировки, мы решили дать Ей возможность подогнать упущенное и я стал являться к Ней не на весь день. Оставшуюся часть дня я посвятил прогулкам по Кеми, пользуясь теплой, солнечной погодой, такой редкой в Беломорском климате. В толстовке и галифе, заправленном хотя и в старые но начищенные сапоги, с богатой шевелюрой, которую мне удалось сохранить от санобработок, живя в управлении электросетей вне стен роты, я ничуть не выделялся среди вольных граждан жителей Кеми. Я ни разу не был остановлен для проверки документов ни переодетыми оперативниками 3-го отдела, ни патрулями войск ОГПУ. На этот раз такое близкое соприкосновение с жизнью вольных людей не произвело на меня такого потрясающего отрицательного действия, как в мой первый приезд в командировку, и ничуть не подталкивало к скорейшему возвращению на Соловки. Свободное хождение по городу я принял как нечто мне положенное, обычное, я чувствовал способность к возвращению в нормальную обстановку. Только неотступно в уме вертелось сожаление о невозможности вызвать в Кемь на эти дни свою мать, с которой при такой свободе передвижения я бы мог повидаться без всякого разрешения ОГПУ. А как это было бы приятно, ведь мы не виделись с ней почти три года, так как с осени 1930 года перестали давать разрешения на свидание с заключенными, находившимися на Соловках!
Прогуливаясь я обследовал заречную часть города, расположенную за протоком реки Кеми на громадном покрытым лесом острове. По-видимому до революции центр города был там, так как эта часть города отличалась наличием каменного здания государственного банка, деревянного здания тюрьмы рядом с большим двухэтажным домом, правда тоже деревянным, в котором очевидно имело местопребывание местных властей.
В заречной части была группа домов значительно просторнее чем в теперешней центральной части города. Они были похожи на добротные особняки, в которых жила раньше местная интеллигенция.
Большое впечатление произвела на меня стремнина главного русла реки, образованная гигантскими валунами и уступом продолжения острова по дну реки. В прилив, когда море подпирало воды реки эти валуны едва были видны из-под воды; в отлив возникал водопад. У водопада на другом берегу реки стоял древний деревянный скит Соловецкого монастыря с такой же деревянной редкой красоты архитектуры церковкой. Только в прилив и только под управлением монаха через бурлящую стремнину вниз по течению пробирались лодки с людьми и грузами. Я залюбовался на монаха, как он, стоя на корме лодки, веслом направлял лодку мимо торчащих из воды скал в пенные протоки и благополучно выводил лодку на гладь реки.
По прошествии шести дней моего пребывания в Кеми, Боролин опять написал записку в Общий отдел о продлении командировки и я опять получил продление своего «отпуска» еще на три дня, которые, как я и предполагал, должны были быть и последними. Нельзя было больше злоупотреблять любезностью Боролина, а может быть и подводить его под удар за «странную» командировку длящуюся столько дней и я решил больше не просить о новом продлении. И так Боролин сделал для меня много и в этот приезд. Эти последние три дня мы пробыли с Ней вместе целиком. Я являлся лишь утром и вечером на мгновения в ПРО, да днем ходил обедать в общежитие. Материалы для Соловков Зиберт отобрал без меня, а отдел технического снабжения отправил их. Настал последний день моего пребывания в командировке. Утром в ПРО я на всякий случай попрощался с Боролиным, горячо поблагодарив за все. Его голубые лучистые глаза светились лаской и он заверил меня в своей полной уверенности увидеть меня в ближайшие дни в Кеми, так как вызов на меня он несколько дней тому назад направил в УРО (Учетно-распределительный отдел), который должен получить разрешение на вывоз меня с Соловков. «Я не сомневаюсь, - говорил Боролин, - что Вас пропустят, ведь у Вас в деле, по-видимому, нет никаких ограничений, но конечно на согласование уйдет время и если выйдет какая-нибудь задержка не падайте духом, я здесь буду подталкивать». Павел Васильевич не сказал мне на какую должность он меня думает устроить в Кеми. Спросить мне было неудобно. Вероятнее всего, что и должности свободной по моим знаниям у него не было и он покровительствуя все время мне, просто решил меня избавить от дальнейшего пребывания на острове пыток и смерти, по-видимому уже зная какой еще более жесткий режим в недалеком будущем будет введен в Соловецком отделении концлагеря. Я так никогда и не узнал какая должность была указана Боролиным в вызове меня. Важен был факт наличия вызова.
Также тепло я простился Гейфелем, Зибертом и Демченко и вышел из ПРО, чтобы по проторенной дорожке бежать на Зональную станцию. Случай столкнул меня в коридоре с якутом, секретарем Общего отдела. Вероятно из-за продления моей командировки дважды он запомнил меня, потому что, остановив меня, предупредил меня о последнем дне моей командировки и обязанности сегодня покинуть пределы Кемского отделения концлагеря на пароходе, который вечером отходил от пристани Кемперпункта на Поповом острове. Предупреждение секретаря избавило меня от возможных больших неприятностей. Из-за меня могло попасть и Боролину. Не зная о вечернем рейсе на Соловки, я бы, просидев целый день у Нее, только бы вечером явился в Общий отдел узнать о времени отхода на Соловки на следующий день парохода, мечтая еще, о возможности отсутствия такого рейса чтобы еще день-два побыть с Ней. И в то время, как я сидел бы у Нее, Общий отдел не без участия оперативников 3-го отдела разыскивал бы меня, чтоб спихнуть вовремя на вечерний пароход. Вряд ли бы они меня нашли и объявили бы в побеге.
С этими новостями, удрученный необходимостью сократить время пребывания с Ней в последний день и радостный от перспективы перевода на материк поближе к Ней, я пришел на Зональную станцию, где и провел несколько часов. Мне надо было до обеденного перерыва отметиться об убытии в Общем отделе и засиживаться мне было некогда. Несмотря на то, что мы много говорили о будущей нашей совместной жизни после освобождения из концлагеря, часто разговор перескакивал на более близкие времена, Ее, да и меня, тревожил вопрос даст ли возможность моя должность в Кеми видеться с Ней? Не придется ли мне работать за проволокой на «Вегеракше» без выхода оттуда. Это было бы очень печально для нас обоих. Прощание было очень нежным, но не таким печальным, как в прошлую командировку, так как мы оба были уверены в свидании в ближайшие дни, когда меня по вызову привезут с Соловков.
Отметившись в Общем отделе, я пообедал со всеми в перерыв в общежитии, поблагодарил коменданта за гостеприимство и пошел на 90-й пикет ждать поезда для отъезда на Попов остров. После снятия с учета в Общем отделе, я не рискнул еще раз зайти на Зональную станцию, хотя поезд уходил в девять часов вечера и мне несколько часов пришлось ждать. А с 90-го пикета так хорошо было видно здание Зональной станции, но я мог представить Ее в этом здании только мысленно.
В одиннадцатом часу вечера я уже был на пристани Попова острова. Отправлялся пароход «Ударник», судно каботажного плавания, водоизмещением менее тысячи тонн. Вольнонаемный капитан «Ударника», фамилию которого я забыл, бывший политзаключенный офицер Русского флота, был знаком еще по Соловкам через Зиберта со мной. Он немедленно предложил мне свою каюту, так как сам он все равно сном в ней не мог воспользоваться. Пароход был мал, чтобы по штату ему полагался помощник и он сам должен был вести пароход. За девять дней командировки, отдохнув морально, я все же физически устал. Складывалось не доеденное на Соловках, в особенности последнюю зимовку. Я сразу очень хорошо уснул, даже не почувствовав, как пароход вышел в море.
Сколько я проспал, мне было невдомек, когда я проснулся и посмотрел в иллюминатор. Было очень светло, но это не определяло время, так как летом на широте Соловецких островов, солнце скрывается за горизонт на минуты, а затем продолжает свой бег по северной части горизонта, поднимаясь по пологой орбите к востоку. Пароход шел мимо каких-то островов, совершенно мне не знакомых. Это были сплошные высокие массивы камня, поднимавшиеся большей частью вертикально из воды, без всякой растительности, и достигавшие значительной высоты над уровнем моря. Несмотря на тихую погоду, белая кайма пены оттеняли скалы от линии воды, а низко стоявшее солнце окрашивало гранит склонов в розовый цвет. Эти розовые громады, обрамленные белым цветом спокойного моря снизу и такого же цвета небом сверху выступали весьма эффектно и я ими невольно залюбовался. Однако положение заключенного не предоставляло возможности любоваться природой и забывать о действительности и во мне возобновилось неприятное чувство неизвестности о месте нахождения парохода. Мелькнувшая в первый момент мысль о возможности побега капитана вместе с судном, а, следовательно превращения и меня в беглеца, я тут же отбросил, но все же, полный недоумения относительно курса корабля, я поднялся на ходовой мостик. В это время две глыбы, как бы разошлись, открыв широкий пролив между ними. С мостика были видны все эти каменные острова, грядою доходившие почти до горизонта в юго-восточном направлении и стоявшие друг от друга на различных расстояниях.
Хотя капитан был и не в духе, он поделился со мной причиной изменения курса корабля, а, следовательно, и отсрочкой прибытия на Соловки.
К лету 1933 года Карбасные мастерские Соловецкого отделения концлагеря построили достаточное количество рыболовецких шхун с двигателями внутреннего сгорания, команды которых комплектовались из заключенных уголовников и бытовиков, краткосрочников или отсидевших более половины срока. Этот рыболовецкий флот развернул в Белом море добычу рыбы в довольно большом масштабе. Рыба сдавалась лишь частично на Соловках, львиная же доля ее на Поповом острове, откуда направлялась в адрес ГУЛАГа в Москву. Выловленную рыбу, и то только низких сортов, разрешалось в минимальных дозах потреблять самим рыбаками, а до остальных заключенных она почти не доходила, даже и нелегальным путем. В независимости от погоды и улова все эти шхуны должны были приходить ежесуточно на свои базы для отметки. Команда шхуны не выполнившая этого требования объявлялась в бегах и шхуну ловили.
В розыск одной из таких не явившихся шхун и должен был включиться пароход «Ударник», капитан которого получил приказ по радио от 3-го отдела УСЛАГа едва он только вышел из порта на Поповом острове. Острова оказались той грядой возвышенностей, которая просматривалась на юго-запад с Большого Соловецкого острова, и припой льда вокруг которой служил перевалочной зоной почтовых лодок, ходивших зимой с Соловков в Кемь и обратно. «Ударник» петлял в лабиринте островов между ними, а капитан в бинокль внимательно рассматривал каждую расселину в скалах, чтобы не пропустить, возможно беспомощно стоящую там шхуну, потерпевшую аварию. В побег он не верил, считая скорее всего причину «пропажи» суденышка поломку мотора или другую аварию. Радиостанциями рыболовецкие шхуны не были оснащены и о случившейся с ними аварии не могли дать знать.
Узнав о причине изменения курса парохода, я успокоился, проза розыска показалась мне скучной и я с удовольствием снова ушел спать в капитанскую каюту.
Проснулся я около шести часов утра от прекратившегося шума судовой машины. На палубе была какая-то беготня, до меня доносились отрывки команд. Я вышел на палубу и понял в чем дело. Над пароходом нависла громадная скала глубокой расселины берега какого-то скалистого острова, в глубине которой беспомощно стояла шхуна. Команда укрыла шхуну в этой расселине на случай шторма, зная что рано или поздно их разыщут. Своего хода шхуна лишилась из-за поломки двигателя. «Ударник» взял шхуну на буксир, машина заработала и через несколько часов мы с шхуной вошли в бухту Благословения Большого Соловецкого острова и ошвартовались у пристани. Моя командировка была закончена.
С пристани я зашел к заведующему Электропредприятиями. Добрейший Василий Иванович Пестов страшно мне обрадовался. Из разговора с ним я понял, что он опасался, что я словчился совсем остаться на материке. Я не стал его огорчать о предстоящем моем переводе в Кемь, доложил об отправленных на Соловки электроматериалах, которые, как оказалось, уже были привезены до моего прибытия. Передал Пестову я приветы от наших общих знакомых по Соловкам, обосновавшихся в Управлении СЛАГа. Об ожидаемом моем вызове на материк я сообщил только своему другу, контролеру электросетей, Н. и, конечно, Ее сестре, у которой в Пушхозе я побывал на следующий день, передав ей длинное письмо от Нее. Я также рассказал Ее сестре все подробно о бытовых условиях и выполняемой Ею работе. Побывал я и в Биосаде у оставшихся на Соловках ученых, передав им устно все что меня просили передать их коллеги с Кемской Зональной станции. В частности доцент Вадул Заде Оглы и его помощница А.С.А. должны были также ожидать вызова на материк, который дал на них новый заведующий Кемской Зональной станцией, ветеринарный врач, коммунист, заключенный.
Поскольку единственным преемником по должности заведующего электросетью мог быть только мой друг, контролер электросетей, Н., в чем я его уверил, не зная другой кандидатуры на Соловках, мы с ним составили подробный план летнего ремонта электросетей, подкрепленный материальной базой – завезенными электроматериалами. На Н. очевидно должно было быть возложено и заведывание электромонтажной мастерской, какая должность была возложена на меня по совместительству. Известие о моем переводе на материк угнетающе подействовало на моего друга Н., хотя он и предполагал это. Он лишался друга, оставался в одиночестве, на него сваливалась большая ответственность и работа, тем более обширная, что и опереться ему было не на кого. Даже просто грамотного электромонтера не было, чтоб поставить его контролером электросетей. Несколько шпаненков исполнявших обязанности электромонтеров были мои ученики по курсам электромонтеров для «малолеток», так сказать, доморощенные электрики. Работали они под большим нажимом, да и то больше из почтения ко мне, как к своему педагогу. Все это делало положение Н. после моего отбытия весьма сложным. Я от души его жалел, но что я мог сделать? Утешал я Н., и сам в это верил, что вслед за собой я смогу посодействовать через Боролина и его вызову в Кемь. На приток в Соловецкий концлагерь новых заключенных-специалистов электриков нельзя было надеяться, так как этапы привозили только совершенно отпетых уголовников-откажчиков со всех концлагерей, а специалисты перехватывались в Кеми и направлялись на стройки, которые вел не только Белбалтлаг, но и СЛАГ.
Рассортировав личные вещи, я пришел к выводу, что за четыре года моего пребывания на Соловках, я сильно оброс имуществом, в особенности книгами, и всего с собой на этап не могу взять. Носильных вещей было мало, но главную тяжесть составляли книги, которые я получал из дому по моим просьбам, а также покупал у заключенных-специалистов отправляемых на этапы. Не хотелось бросать нужные книги по электротехнике, и другим техническим дисциплинам. Несмотря на то, что я отобрал только очень нужные книги, оставив все остальное Н., а также посуду – кастрюли и миски, у меня оказался туго набитый чемодан, мешок с подушкой, одеялом, бельем и осенним пальто. Тулуп никуда не входил и я ломал голову как я все это потащу на этапе.
Между тем дни, казавшиеся мне неделями, шил за днями, а вызова не было. Я начинал терять самообладание, нервничал и от надежды переходил к отчаянию, считая, что 3-й отдел не пропустил мой вызов, что у меня в деле есть какая-то отметка, для меня неблагоприятная, и мне уготована судьба вечного заключенного на Соловках, где я сложу свои кости. Напрасно я под всякими предлогами наведывался в УРЧ (Учетно-распределительная часть), ведавшую формированием этапов, пытаясь по лицам работавших там заключенных определить получение ими вызова на меня. Напрасно я встречался с моим другом морским кадетом политзаключенным Хомутовым, работавшим на радиостанции электромехаником – и по радио никаких запросов 3-й части о моей благонадежности не было. Отсутствие вызова на меня нельзя было объяснить и прекращением переброски заключенных из одного концлагерного отделения в другое, которое могло быть введено в связи с побегом семи заключенных с острова Анзер, о котором я уже подробно рассказывал. Этапы бойко возились через море в обоих направлениях. На Соловки по-прежнему прибывали откажчики, с Соловков начальник Соловецкого отделения чекист Солодухин усиленно сплавлял в материковые отделения уголовников с малыми сроками заключения по нарядам УРЧ. Но по персональным вызовам ни одного заключенного на материк не вывезли.
Угнетенное состояние в котором я пребывал еще усиливалось сгустившейся атмосферой концлагерного режима в связи с побегом с острова Анзер. Подходили последние дни месяца июня, кончалась третья неделя после моего возвращения из командировки, мой друг Н., хотя и переживал за меня, но вполне успокоился, считая что меня никуда не возьмут и от чаши заведывания он избавился. На меня нашло полное безразличие, переживать я больше был не в силах.
За четыре-пять дней до конца июня месяца на Соловки в командировку прибыл политзаключенный, мой ровесник, инженер-электрик Сотников. Он был наделен чрезвычайными полномочиями начальника СЛАГа по разоружению соловецкой промышленности, безоговорочного вывоза на материк всех отобранных им машин и станков. Это была безусловно инициатива Боролина, проведенная им через начальника концлагеря. С присущей ему дальновидностью Боролин предвидел (а может быть он уже и точно знал) дальнейший упадок Соловецкого отделения как производственной единицы в связи с превращением его на 100% в штрафное, а затем и полного закрытия всех производств в октябре 1933 года, когда остров стал называться «СОСНА» (Соловецкое отделение специального назначения) с особо жестоким режимом, по которому заключенные из партийной верхушки, неугодные Сталину, содержались в одиночных камерах без работы на штрафном пайке. Боролин решил спасти, что можно, из оборудования предприятий и заблаговременно перевезти его на материк, где оно пригодится. Сотников получил от Боролина совет по прибытии на Соловки связаться со мной, рассчитывая на мою помощь как старожила и дисциплинированного подчиненного. Сотников даже остановился у меня в Управлении электросетей и откровенно рассказал мне все о цели своей командировки. В отношении моего вызова Боролин просил передать, что он отказа не получал, что он напоминает о вызове кому следует и чтобы я не отчаивался, так как задержка происходит из-за отсутствия на месте большинства сотрудников 3-го отдела, а главное начальника 3-го отдела и его заместителя, занятых розыском бежавших с острова Анзер заключенных. Поэтому бумаги в 3-м отделе только скапливаются и лежат без движения – «канцелярия» не работает. А без разрешения 3-го отдела на вывоз меня с Соловков, никто в УРО не осмелится дать наряд на меня.
Сотников был заведующим механической мастерской УСЛАГа в г. Кеми и в первую очередь обратил внимание на металлообрабатывающие станки, забрав из механической мастерской один из двух токарных станков и все станки механического цеха Судоремонтного завода, который перестал после этого существовать. Вагранку и медеплавильную печь Сотников не мог забрать и литейный цех Судоремонтного завода еще просуществовал до октября 1933 года, выполняя заказы на литье для других отделений концлагеря. Правда продукция его стала низкокачественная, в чем я убедился, получив в августе того же года заказанную мною партию запальных шаров для двухконтактного двигателя внутреннего сгорания для Кемской электростанции. Тогда в литейном цехе не было уже его заведующего известного инженера-металлурга заключенного сибиряка Паносова, поднявшего уровень литья до лучших образцов творчества монахов. Сотников прихватил еще несколько больших электромоторов, закрыв таким образом Кожевенный завод, пилораму и частично фабрику ширпотреба, которая хотя и продолжала работать, но большинство операций стало проводиться вручную.
29-го июня мне позвонил заведующий электропредприятиями Пестов. Он сообщил о полученном им предупреждении из УРЧ об отправке меня на материк на следующий день по персональному вызову и просил немедленно зайти к нему. С контролером Н. мы пошли на электростанцию. Н. сразу поник головой и, сидя в кабинете у Пестова, имел вид приговоренного к расстрелу. Пестов был тоже очень расстроен, я даже боялся как бы у него не началось легочное кровотечение, туберкулез легких зашел у него далеко. Единственный вопрос о моем приемнике был сразу разрешен. Н. понимал что сопротивляться и отговариваться бесполезно, других кандидатур не было. Акты передачи электросетей и электромонтажной мастерской у меня были заготовлены ранее и эта формальность тоже долго не затянулась. В акте передачи электросетей я в мрачных красках обрисовал неудовлетворительное их состояние, чтобы у Н. было, в случае чего, легче отговориться, свалив все на предшественника. Это все что я мог сделать для Н. и он благодарно на меня взглянул. Поблагодарив от души Василия Ивановича за доброе отношение ко мне, как к подчиненному и предварительно попрощавшись с ним, я с Н. пошел в управление электросетей собираться в отъезд.
За несколько минут, в которые мы с Н. прошли те десятки метров, отделявшие электростанцию от Управления электросетей, мой друг Н. совершенно испортил мне радость получения вызова меня на материк. Высказанная им мысль, очевидно, вертелась у него на языке с момента звонка Пестова, но он не высказал ее мне до подписания акта передачи, чтобы я не подумал о давлении на меня с его стороны в целях удержать меня на Соловках и самому не принимать на себя ответственности, остаться в одиночестве и без друга. Мне было и так не по себе расставаться с Н., с которым я так подружился, с уже ставшей мне привычной обстановкой, с работой, в которую я втянулся. Но я знал, что это надо сделать, когда не отказывался от вызова Боролина, и не только потому что из Соловков надо было непременно выбираться, обстановка на Соловках становилась все хуже и хуже и для элиты заключенных.
Н. очень логично высказал предположение о преждевременной моей радости по поводу вызова, так как вероятнее всего меня отправляют на материк не по вызову Боролина, а … Лемтюгиной, той уголовницы, которая досрочно освобожденная, выйдя замуж за младшего командира войск ОГПУ, заведовала электромонтажной мастерской, вернее получала зарплату за заведывание, а за нее работал я. Как я уже рассказывал, с открытием навигации ее мужа перевели в другой концлагерь и Лемтюгина уехала с ним. «Очевидно, - продолжал Н. развивать свою мысль, - на новом месте Лемтюгина тоже взялась заведовать электромонтажной мастерской и, так как ей, кончено не справиться, она вспомнила о таком великолепном заместителе, как ты и дала вызов на тебя, чтобы ты работал за нее, а она снова будет только денежки получать! Боролин заключенный, хоть и главный механик, а Лемтюгина вольнонаемная, муж у нее тюремщик – кто имеет больший вес, чей вызов скорее дойдет до Соловков»? Логика Н. была железной, возразить мне было нечего. Кроме всего, значит, меня, вместо свидания с любимой, ожидало заключение в неизвестно каком новом, неблагоустроенном, возможно весьма отдаленном концлагере за тысячи километров пути, который я должен буду пройти в душных столыпинских вагонах по этапу через пересыльные тюрьмы и пересыльные пункты концлагерей! А большего мучения чем этапы в концлагерной действительности нельзя было себе и вообразить!
Нервы и без того напряженные ожиданием вызова, щемящей тоской разлуки с друзьями, у меня окончательно не выдержали, я в изнеможении опустился на диван. Пришедший Сотников, увидя, что на мне лица нет, тотчас же осведомился о причине и я ему рассказал о гипотезе Н. Сотников немедленно заверил меня, что поедет с моим этапом на пароходе, с Попова острова сразу же поедет в Кемь к Боролину, сообщит ему и пока я на Кемперпункте буду ожидать этапа на отправку в другой концлагерь, Боролин сумеет меня вырвать в Кемь. Я был очень благодарен Сотникову за дружеское ко мне отношение, его старания были бы все же лучше, чем ничего. Однако успеха от его стараний вряд ли можно было ожидать, так как во-первых, наряд на переброску заключенного из одного концлагеря в другое давался ГУЛАГом (Главным управлением лагерей) и даже начальник концлагеря не мог не подчиниться ему, во-вторых, Боролина могло и не оказаться в Кеми (так оно на самом деле и было), так как он часто уезжал на крупную стройку, которую вел СЛАГ в Кандалакше, на первую гидростанцию каскада реки Нивы, а Гейфель, его помощник, не обладал никаким влиянием, а тем более таким, как обладал Боролин на начальника концлагеря.
Мне все же хотелось знать наверняка по чьему вызову меня забирают с Соловков, куда мне предстоит «влекомым быть»? Зная заранее, что в УРЧ все перевозки заключенных засекречены, тем не менее, как утопающий хватается за соломинку, я все же решил туда позвонить. У сотрудницы Биосада А. С. А., той самой которая была задержана патрулем вместе с контролером электросетей Шапиро, моей любимой и мной в ту злополучную нашу прогулку через лес, на Соловках сидел политзаключенным ее родной брат. С ним А. С. А. меня как-то познакомила и при встречах на территории концлагеря мы с ним раскланивались. На меня он произвел впечатление очень интеллигентного воспитанного человека. Однако какое-то стеснение в обращении с другими заключенными указывало не то на чрезвычайную застенчивость, не то на угрызение совести. Я не знал, была ли у него какая-нибудь специальность, но вдруг он был назначен на работу в УРЧ. За исключением случая с Даниловым, который был явно связан с секретно-карательными органами, назначение политзаключенного в такую засекреченную часть было беспрецедентно и навело на всякие размышления и толки. Его я и подозвал к телефону. На мой прямой и, конечно, бестактный вопрос: «Куда меня отправляют по вызову в Кемь или в другой лагерь»? Он ответил: «Этого не могу сказать, но это очень хорошо, не волнуйтесь», - и повесил трубку. Что «хорошо» - отправка с Соловков или назначение в Кемь, о чем он не мог не знать от своей сестры, как я стремился именно в Кемь? Во всяком случае вежливый ответ был налицо, хотя он, как можно было предполагать, не рассеял моей тревоги. Пришлось запастись терпением и ждать развязки на материке.
Времени оставалось мало. В Пушхоз пойти попрощаться с Ее сестрой не хватало времени. Я позвонил по телефону. Время понадобилось еще и для получения разрешения на вывоз книг. При получении книг в посылке или когда заключенный имел их с собой, прибывая на Соловки с этапом, он при обыске их лишался. Книги отбирались в 3-ю часть и если там цензор находил их «дозволенными», то на заглавном листе ставил штампик и книги отдавались заключенному. Вывозить с Соловков какие-нибудь записи или рукописи не разрешалось. При отправке этапа все написанное от руки отбиралось безвозвратно. Для вывоза книг мало было штампика 3-й части. Должна была быть еще надпись библиотекаря Соловецкой библиотеки о том, что книги не принадлежат библиотеке. У меня и сейчас еще несколько учебников и справочников, на которых на заглавном листе надпись библиотекаря: «В инвентаре Солбиблиотеки не значится», подпись и дата 29/VI-33г. и штампик «Проверено - № 27 – УСЛОН». Отобрав книги, которые я решил взять с собой я сходил в библиотеку, где библиотекарь и написал на каждой требуемое.
Вечером я прошел к Пестову и попрощался с ним окончательно. Затем обошел электростанцию и попрощался с дежурившим персоналом. Последнюю ночь на Соловках спал плохо, преследовали кошмары дальних этапов.
Настало 30 июня 1933 года, первый день двенадцатого месяца четвертого года моего пребывания в Соловецком концлагере. Уложил последние вещи в мешок. Тулуп так и не уместился. Чтоб облегчить меня, его до Кемперпункта взял на руку Сотников. С моим другом Н., с мешком и чемоданом на перевязи через плечо я явился в электрометаллроту, в списке которой я числился, для отправки на этап. Я уже не был заведующим электросетями, я стал рядовым этапированным заключенным под конвоем. Заключенный командир роты, жуликоватый почтовый работник, сидевший в концлагере за присвоение на почте ценностей адресатов, решил не утруждать себя конвоированием меня до пристани и послал со мной дневального. Последний, решив показать данную ему надо мной власть, приказал мне идти впереди него по уставу конвойной службы. Сопровождавшего меня Н. он отогнал подальше от меня и Н. провожал меня до пристани идя на расстоянии от меня.
На пристани уже был построен этап около тридцати заключенных, сплошь уголовники. Одних отправляли на освобождение, других, как рабочую силу в другие отделения концлагеря. Начальник конвоя брал пакет и выкрикивал фамилию, сверял имя отчество, год рождения, статью уголовного кодекса и срок заключения. Вызванный заключенный выходил из строя и становился в другой строй. По дороге его обыскивали оперативник 3-й части и солдат конвоя из войск ОГПУ. Почти ни у кого не было вещей и обыскивали только одежду, особенно тщательно уголовников обыскивал солдат, боясь наличия у них ножей. Я попрощался с Н., который прошел на пристань по пропуску, как контролер электросети, и стал в строй. Не терял меня из виду и Сотников, стоявший у трапа на пароход со своим чемоданчиком и моим тулупом. Дошла очередь до меня. На мне задержались, так как обыскивать было много. Мешок посмотрели бегло, одежду на мне совсем не смотрели, а вот чемодан с книгами оперативник перетряхнул тщательно, просмотрев все заглавные листы и тряся книгу верх корешком. Ничего не нашли и не отобрали (ножи перочинный и столовый я оставил Н., зная что их все равно отберут). После обыска я стал во второй строй.
У причала стоял тот самый «Ударник», на котором я вернулся из второй командировки. Закончив погрузку в трюм отобранные Сотниковым моторы и станки, начали грузить на пароход этап. Щелкнули затворы на винтовках у солдат, команда: «Шаг вправо, шаг влево, конвой стреляет без предупреждения!», - навеяли грустные воспоминания о прибытии в концлагерь четыре года назад. Цепочкой заключенные, в том числе и я, взошли на пароход и были размещены конвоем на носовой палубе, места для нас в трюме не оказалось. Это было неплохо, так как погода была превосходная, редкая для этих широт даже летом. Я поместился у борта, Сотников сел рядом со мной на мой чемодан. Сотников был молодым заключенным, он был в концлагере всего несколько месяцев, с этапа его сразу вытащил Боролин, как инженера и назначил заведовать механической мастерской в самом городе Кеми. Окончивший электротехнический факультет Ленинградского Технологического института, Сотников был направлен на работу в морской торговый флот и плавал инженером-электриком на совершенно новом теплоходе «Абхазия». После рейса в Англию, Сотников был арестован и по статье 58, пункт 6 (шпионаж) был посажен Коллегией ОГПУ в концлагерь на пять лет. О своих похождениях в Англии он мне ничего не рассказывал, но совершенно ясно, что если бы он был действительным шпионом Интлеженс сервис, то его не оставили бы в живых. Будучи мало времени в заключении, Сотников не знал всей строгости концлагерных порядков, иначе он не сел бы рядом со мной – этапированным подконвойным заключенным. Но конвой не обратил никакого внимания, хотя контраст между нами был велик: я в концлагерном обмундировании, он во всем гражданском.
Трап сняли, матросы отдали концы, зазвенел машинный телеграф, винт за кормой взбудоражил воду и «Ударник», плавно набирая ход, пошел по извилистому фарватеру в открытое море на запад. На пристани, все более уменьшаясь в размерах, стоял неподвижно застывшей фигурой покидаемый мой друг Н., от которого мне трудно было оторваться глазами. Он не махал мне на прощание, как машут провожающие, заключенным провожать друг друга было строжайше запрещено. «Кто знает, увидимся ли мы еще?», - подумал я. Ни я первый из заключенных так и канул в лету для других. Начальник Соловецкого порта заключенный Мельнис размахивал длинными руками, делая за что-то разнос береговым матросам и, по мере удаления от пристани парохода все более делался похожим на свое прозвище «ветряная мельница».
На море был абсолютный штиль, ни малейшей волны, поверхность моря была ровной как стол и совершенно белой, как молоко. Такой белизны водного пространства я никогда и нигде не видел. Небо было бледно-голубое, почти белое без единого облачка, очень высокое и как-то совсем неразличимое. Вероятно оно, отражаясь в совершенно спокойной воде под неизменными углами, и придавало этот неправдоподобный, неповторимый белый цвет морю. Только в этот день, прожив почти четыре года в середине Белого моря, прочувствовал название моря «Белое». Вероятно в такой же прекрасный тихий летний день, вышедшие впервые на его берега люди, ошеломленные необыкновенным цветом простершегося перед ними моря, и окрестили его «Белым». Белым не за льды зимой, а именно за белый цвет воды летом. Расходящаяся от носа парохода волна, отражая своими плоскостями черный цвет бортов и белизну неба, устилала наш путь пестрым ковром, как бы сшитым из белых и черных лоскутьев. Черные и белые «лоскутья» все время менялись местами. Иллюзия скольжения парохода по лоскутному ковру была полной. Глаз трудно было оторвать от всей красоты.
По мере удаления от острова Соловки все больше заволакивались дымкой знойного дня, дымкой, которая как бы хотела скрыть от человеческих взоров этот пятачок планеты, место трагедии масс народов и вместе с тем индивидуальной трагедии каждого заключенного брошенного в Соловецкий концлагерь Особого назначения.
Я повернул голову в сторону материка. Что-то там ждет меня???
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. НА МАТЕРИКЕ, НО В НЕВОЛЕ
ВЕГЕРАКША
«Вегеракша» в переводе с карельского языка означает «болото ведьм». Название дошедшее до нас со времен эпоса «Калевалы» в ХХ веке приобрело материальную значимость, как безусловный филиал царства Вельзевула на земле. Да и часть обитательниц Вегеракши – заключенные уголовницы весьма смахивали на ведьм.
«Вегеракша» был участок непроходимого болота к востоку от города Кеми в Карелии, занятый Соловецким лагерем Особого назначения ОГПУ, когда последний начал распространяться с Соловецкого острова на материк в Карелии. Под названием «Вегеракша», по месту своего расположения, и стал называться лагерный пункт для заключенных Соловецкого лагеря особого назначения (сокращенно СЛОН, а впоследствии СЛАГ), основанный (лагпункт) в 1927 году.
Лагпункт «Вегеракша» был одним из тех «полей», с которых безоружные и мирные люди, превращенные чекистами в заключенных, возвращались и то одиночками по прошествии многих лет на волю и даже не домой. Подавляющее большинство заключенных из долгосрочников так и не доживало до освобождения с этих «полей» концлагеря пыток и смерти.
Лагпункт «Вегеракша» занимал территорию площадью около четверти квадратного километра, обнесенную двойной широкой полосой колючей проволоки, снабженной сигнализацией. С интервалом 50-60 метров по всему периметру проволочных ограждений стояли вышки с прожекторами для часовых тюремщиков, солдат войск ОГПУ. В добавление к прожекторам вся проволока освещалась электрическими лампами большой мощности. Издали в темное время суток «Вегеракша» казалась светящимся кольцом, центром какого-то ослепительного зрелища в безлесной тундре, а скользившие все время по проволоке лучи мощных прожекторов добавляли иллюзию фейерверка. Сплошь залитые жидкой болотной грязью проходы между тесно стоящими бараками щедро отражали менее ярко освещенную внутреннюю часть огненного кольца проволоки, и весь лагпункт казался каким-то сказочным царством, насквозь пропитанным светом. «Город будущего, социалистический город», - как-то сказал я своему знакомому пожилому азербайджанцу, профессору Вадул Заде Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы], когда мы оба в темноте проходили по шоссе к «Вегеракше», он впервые, только что прибывший с Соловков, а я уже третий месяц ночевавший в этом лагпункте. Я имел в виду обилие света, которое должно характеризовать город будущего, а будущее тогда представлялось мне только социалистическим. «Да, Вы точно определили, что социалистическим, - ответил мне умудренный житейским опытом Вадул Заде, - напоказ свет, под ногами грязь!». Форму и содержание концлагеря, а с ним и строящегося социализма более метко было бы трудно охарактеризовать.
Территория «Вегеракши» была застроена бревенчатыми, стандартными для концлагерей, бараками. В середине выделялся массив двухэтажных бараков занятых цехами Пошивочно-обмундирововчной фабрики в 1931 году переброшенной с Соловков и значительно расширенной, в связи с возрастающим количеством концлагерей, на «Вегеракше». По годовому плану на 1935 год эта фабрика вырабатывала 20 миллионов ватных комплектов (телогрейки и брюки) столько же гимнастерок и легких брюк и столько же комплектов белья. Одноэтажные бараки с двойными сплошными нарами были заселены заключенными. Сплошные нары значительно ухудшали быт заключенных даже по сравнению с Соловецким отделением концлагеря, где сплошные двух и трехъярусные были только в общих ротах. На «Вегеракше» другой системы нар не было, и все заключенные спали вповалку на двухъярусных нарах в бараках с низкими потолками.
На территории лагпункта были также каптерки, вещевые склады с обмундированием для заключенных «Вегеракши», здания канцелярии лагпункта, бани, кухни, пекарни и два сарая. В одном иногда за плату демонстрировались фильмы для заключенных, в другом была оборудована электростанция. Людиновский локомобиль марки Л-170, в 170 лошадиных сил, стационарный, крутил с обоих маховиков две динамо-машины постоянного тока по 75 кВт. Этой мощности явно не хватало для одновременного обеспечения электроэнергией моторов фабрики и освещения лагпункта. Экономили за счет освещения бараков, где заключенные содержались в полумраке и освещения территории лагпункта. И все же в осенне-зимние сутки локомобиль работал с большими перегрузками, что очень осложняло работу заключенного персонала электростанции, на что неоднократно мне жаловались и заведующий электростанцией заключенный инженер Катульский и мои знакомые заключенные по совместной работе на Соловецких электропредприятиях, машинисты и кочегары.
Добротно построенные трудом заключенных бараки для Военизированной охраны (ВОХР) и солдат войск ОГПУ были вынесены за пределы проволоки. Там же, вдоль шоссе по направлению к городу Кеми были расположены и коттеджи начальника лагпункта и других вольнонаемных тюремщиков, в том числе и для заключенных чекистов – работников 3-й части.
Далее по направлению к городу по шоссе располагались постройки Сельхоза, здание Зональной станции Академии Наук, Мебельная фабрика и следственный изолятор 3-го отдела Управления СЛАГ, почти граничащий с первыми домами города. Большие склады концлагеря для принятия грузов прямо из железнодорожных вагонов на станции «90-й пикет» завершали постройки «Вегеракши» вне проволоки.
Численность заключенных лагпункта «Вегеракша» колебалось около трех тысяч. Почти половина из них были женщины, работавшие на пошивочной фабрике. Заключенные мужчины работали на строительно-ремонтных работах, в Сельхозе, не Мебельной фабрике и на подсобно-хозяйственных работах в проволоке, в том числе и в канцеляриях, на электростанции, пекарне, кухне. На работах в городе Кеми и в Сельхозе работали заключенные краткосрочники, главным образом уголовники и бытовики, которые выходили за проволоку без конвоя. «Нерасконвоированные», то есть те которые не получали пропусков, так как чекисты боялись их побега, долгосрочники и политзаключенные водились под конвоем на Мебельную фабрику, которая была окружена, как и лагпункт проволокой с вышками. Остальные, которых совсем не выпускали или не выводили под конвоем из проволоки так и сидели весь срок на пятачке концлагеря «Вегеракша». В списочном составе лагпункта также числились заключенные работники Управления СЛАГа, жившие в городе в общежитии и городская пожарная команда, состоявшая из заключенных и жившая в пожарном депо в городе.
В отличие от Соловков в лагпункте «Вегеракша», а также во всех других лагпунктах на материке, входивших в постепенно разраставшихся отделениях УСЛАГа по всей Карелии и Кольскому полуострову, так называемые «сведения» выдавались индивидуально или на бригаду только тем заключенным, которые работали вне проволоки. В «сведениях» отмечалось помкомроты-нарядчиком время выхода заключенного (или бригады) на работу и время возвращения в роту. По прибытии на место работы у заключенного (или бригадира) «сведения» отбирались и в них прорабом отмечалось время прихода и ухода с работы. Однако в то время, как «сведения» на Соловках служили также и пропуском для выхода из Кремля и входа в Кремль для заключенных, место работы которых было за пределами Кремля, чтобы выйти из проволоки и снова в нее добровольно зайти, надо было иметь еще и пропуск Общего бюро лагпункта, индивидуальный или на бригадира, с указанием в последнем случае, численность бригады. Пропуска выдавались по заявке УРБ (Учетно-распределительного бюро, ведавшего наряжением рабочей силы) по согласованию с уполномоченным 3-й части, слово которого было решающим. Пропуска, как правило, были действительны на день и лишь немногим заключенным, проживавшим вне пределов лагпункта, пропуска давались на месяц, с продлением каждый раз еще на месяц и на них требовалась фотокарточка. Элита заключенных на таких пропусках еще имела дополнительно штампы «круглогодичный», «с правом ношения вольной одежды».
Такая система пропусков ставила в неравное положение заключенных. Одни рабы весь срок заключения толклись на пятачке, обнесенном проволокой, другие, хотя бы даже строем, но почти на целый день выходили из проволоки, ежедневно меняя окружавшую их обстановку полевой тюрьмы, третьи вообще не заглядывали в лагпункт, находясь вне его пределов, как бы жили на свободе. Правда, в любой час каждый заключенный совершенно невинно мог лишиться своего пропуска и угодить безвыходно за проволоку или, того хуже, быть отправленным на Соловки, которые с 1932 года превратились в штрафное отделение для заключенных со всех отделений СЛАГа.
Необратимый процесс расслоения советского общества, начавшийся в двадцатые годы с все более углубившимся разрывом между правящей верхушкой и народными массами в последующие десятилетия, до концлагерей дошел в начале тридцатых годов. Система пропусков была лишь отражением того проводимого чекистами расслоения заключенной массы на кучку привилегированной концлагерной элиты, на полу-привилегированного сословия заключенных и остальной массы заключенных, содержащихся в концлагерях на «общих основаниях».
Другой, бросившейся мне в глаза, материальной стороной этого расслоения заключенных, была дифференциация норм пайка заключенных по выполняемой работе или занимаемой заключенным должности. На Соловках все заключенные получали одинаковый голодный паек, за исключением заключенных чекистов и их прислужников, подкармливаемых нелегально в нарушение устава концлагеря. Единственно, предусмотренное дополнительным распоряжением, была вариация нормы хлеба, но отнюдь не количества продуктов, за перевыполнения норм выработки на лесоповале. Эта вариация получаемого заключенным количества хлеба была принципиально чуждой какой-либо привилегии, так как она давалась не за род выполняемой работы, не за занимаемую должность, а зависела лишь от выработки продукции индивидуально каждым заключенным на лесоповале и не закреплялась за ним на все время его работы на лесоповале, а менялась ежедневно в зависимости от ежедневной выработки.
На материке во всех отделениях СЛАГа, в том числе и на «Вегеракше», а также во всех остальных концлагерях были введены в начале 30-х голов четыре категории питания для заключенных, существенно отличавшихся друг от друга по количеству продуктов и хлеба в пайке. Наивысшая категория предназначалась инженерно-техническому персоналу (ИТР) и приравненным к ним администраторам из заключенных (мелкие чины 3-го отделений учетно-распределительного отдела и их подразделений, командный состав рот, ответственные исполнители отделов Управления концлагеря, не имевших инженерно-технического образования). Затем следовали 1-й, 2-й и 3-й «списки» для остальных заключенных, соответственно нахождения на работах того или иного объекта строительства и выполнения работ той или иной специальности. Например, большинство профессий на строительстве гидроэлектростанции на реке Ниве получало по 1-у (наивысшему) списку, а остальные заключенные, работавшие на Ниве, получали по 2-у списку. Работавшие на лесозаготовках получали по 2-у списку и лишь несколько профессий по внутрилагерным работам получали по 2-у списку. Десятники, бригадиры, если не получали паек «ИТР», то получали по списку на один номер выше, чем заключенные их бригад. Надо отметить, что на материке даже 3-го списка паек был значительно сытнее, чем общий паек для всех заключенных на Соловках. Я был поражен, как меня транзитного заключенного сытно, по сравнению с Соловками, накормили в Кемском пересыльном пункте и какой завтрак я получил на «Вегеракше» на другой день после прибытия туда. Каша пшенная вполне походила на кашу, а не на жидкий суп, как на Соловках, и даже чувствовалось присутствие растительного масла. Впоследствии я выяснил, что был накормлен по 3-у списку, а когда я стал получать по 1-у списку, я, наконец, почувствовал себя сытым, и отпала всякая необходимость ходить в лес собирать грибы и ягоды, а в отлив на дне морском моллюсков мидий, как это приходилось делать на Соловках.
Ввести такое дифференцированное питание заключенных чекистов заставил не только дух времени – расслоение советского общества – проникший и в концлагеря. План Френкеля, прочно засевший, как и он сам, в Главном управлении лагерей ОГПУ (ГУЛАГе ОГПУ), сводившийся к тому, чтобы как можно больше выжать работы с рабов, распространился на всю территорию страны туда, где были организованы бесчисленные концлагеря ОГПУ. Правящая верхушка коммунистической партии все ответственные крупномасштабные стройки фундамента социализма с начала 30-х годов возлагали на ОГПУ и чтобы с ними справиться заключенных, работавших на пределе их физических сил, надо было не истязать, а лучше кормить. И в то время, как в первой половине, в результате коллективизации в сельском хозяйстве, питание населения с каждым годом ухудшалось, пайки в концлагере, хотя и экономно, путем их дифференциации на «списки» (кормить хорошо только тех, кто строит) неуклонно из года в год увеличивались для заключенных.
Изолированный четыре года на Соловецком острове, я не мог предполагать до какого низкого жизненного уровня было доведено население страны в первой пятилетке, заложившей «основы социализма», на каком голодном пайке по карточной системе при полном отсутствии предметов широкого потребления в продаже прозябали вольные граждане. Считая голод в Соловецком концлагере уделом заключенных, попав на «Вегеракшу» и в город Кемь, я был поражен как высоко котировалась среди голодающего вольного населения Кеми премиальные продуктовые и промтоварные карточки заключенных, которые отоваривались в городском магазине концлагеря для вольнонаемных и заключенных, имевших пропуск по городу. Не менее высоко ценились и концлагерные боны, выдававшиеся заключенным вместо советских денежных знаков при выплате месячной премии. Только на эти боны в концлагерном городском магазине можно было отоварить премиальные продуктовые и промтоварные карточки или купить какие-либо предметы ширпотреба, давно не встречавшиеся в городских магазинах кооперации или госторговли даже по карточкам. Биржа всегда очень чутко реагирует на меновую стоимость денежных знаков и на черной бирже Кеми за рублевую концлагерную бону платили два советских рубля.
Здесь уместно объяснить возникновение внутрилагерных денежных знаков – лагерных бон. Всегда опасаясь возможности побега из неволи своих рабов, чекисты совершенно справедливо полагали, что успешность побега заключенного и трудность его поимки возрастает от количества находящихся у него на руках денег, имеющих хождение в пределах всей страны. Исходя из этого, заключенным запрещалось иметь на руках советские денежные знаки и в случае обнаружения таковых при повальных ночных или других обысках, заключенному выносился новый приговор с добавлением срока заключения за «попытку к бегству». Однако и на Соловках до 1931 года и впоследствии на материковых лагпунктах существовали магазины, где заключенные могли на присланные родственниками или полученные премиальные деньги купить по карточкам продукты и предметы ширпотреба. Деньги, как я сказал выше, на руки заключенным не выдавались и на Соловках для расчета с покупателями-заключенными применялась система, могущая быть рожденной лишь архибюрократическим аппаратом. С выданной именной квитанцией на сумму принадлежащих заключенному денег (но не свыше 30 рублей в месяц), заключенный покупатель после отбора покупаемого становился в очередь к кассиру, который должен был сделать для каждого несколько записей, в том числе и в квитанции, подсчитать остаток денег на квитанции после покупки. Это отнимало много времени у кассира, и пропускная способность кассы магазина была настолько низка, что заключенные часами стояли в очереди за счет отдыха и сна. С развертыванием работ на стройках, с учреждением премиальных денег, система квитанций была отменена, как напрасно выматывающая последние силы заключенных, которые надо было эффективно использовать на производстве. С отменой квитанций возник вопрос чем их заменить?
Советские денежные знаки исключались по вышеописанным мотивам – страхом чекистов перед побегом заключенных, и коллегия ОГПУ решила выпустить денежные знаки, имеющие хождение только на территории концлагерей – лагерные боны. Акт присвоения себе права выпуска денежных знаков еще раз показал какой могущественной организацией стало ОГПУ, а впоследствии и его приемник НКВД. Выпуск бон завершил формирование государства в государстве, каким было ОГПУ в СССР. Сумма выпущенных бон предположительно, как считали заключенные финансисты, доходили до 300 миллионов рублей. Эти финансисты исходили из единовременной численности заключенных во всех концлагерях определявшейся в 20 миллионов человек, средней ежемесячной суммы премиальных сумм на одного заключенного в 15 рублей (элита из заключенных концлагерей получала в месяц до 60 рублей) и одновременности выплаты премиальных при подведении итогов выполнения производственного плана за месяц. Финансисты считали также, что никакие суммы у заключенных на руках не остаются и в течение месяца через магазины возвращаются в кассы концлагерей. Выпуск бон увеличил обращавшееся в стране количество бумажных денег, принес инфляцию и без того прогрессирующую вследствие отсутствия товаров на рынке и окончательно запутал и без того напряженное финансовое положение в стране, вызванное непомерным перенапряжением экономики при индустриализации страны знаменитыми сталинскими пятилетками, обесценил окончательно советский рубль. Вероятно пользующиеся у Сталина доверием экономисты с риском для жизни, поскольку они выступили против мероприятия ОГПУ, сумели убедить вождя в колоссальной вредности фокуса с выпуском бон и эту затею прихлопнули около 1935 года. Скрипя сердце, чекисты стали расплачиваться с заключенными советскими общегосударственными денежными знаками.
Однако в 1933 году все расчеты в концлагерях с заключенными велись только на боны и заключенные уголовники и бытовики, имевшие по работе выход по пропускам из проволоки с «Вегеракши», а, следовательно, и общавшиеся с вольным населением г. Кеми вели безудержную спекуляцию в двойной системе денежных знаков. Заключенный, собрав боны, менял их у вольных людей на советские деньги и покупал за советские деньги водку в городском магазине. Так как обмен шел 1:2 заключенный мог купить водки вдвое больше. Выпивая частично сам или в компании, остаток водки продавался на «Вегеракше» заключенным не имевшим пропусков на выход из проволоки с надбавкой нескольких сот процентов. Барыш получался изрядный. Но, так как в концлагере спиртные напитки были строжайше запрещены и при проходе через ворота заключенные подвергались тщательному обыску, пронос водки на территорию «Вегеракши» был рискованный и требовал всяких ухищрений. Одним из таких ухищрений был, как мне стало потом известно, пронос водки в … паяльных лампах не бывших в употреблении и взятых с собой, как бы для работы. Эти лампы были снабжены рационализаторским приспособлением в виде металлического на резьбе патрона, плотно входящего в отверстие для налива керосина или бензина. Баллон лампы заливался водкой, в отверстие ввинчивался патрон, в который наливалось несколько грамм керосина и отверстие завинчивалось. При обыске пробка отвинчивалась, обыскивающий солдат нюхал, как он думал, содержимое лампы и, услышав запах керосина, пропускал заключенного с лампой в проволоку, не подозревая, что на самом деле в лампе было 2-3 литра водки, а керосин только для запаха.
К 1933 году несколько изменилась и структура управления концлагерей, в том числе и Соловецким концлагерем, который к этому времени весьма разросся и территориально и по количеству содержащихся в нем заключенных. В Управлении СЛАГа разделился отдел снабжения на два: отдел технического снабжения и отдел общего снабжения. Первый ведал лишь материальным снабжением строек, второй обеспечением заключенных питанием и обмундированием. Появился Санитарный отдел, ведавший санитарным состоянием территорий концлагерей и медицинским обслуживанием вольнонаемных чекистов и заключенных. В масштабе производимых концлагерями работ повышенная смертность рабов стала невыгодной с государственной точки зрения, а соловецкая 1929 года эпидемия сыпного тифа, унесшая в течение двух месяцев восемь тысяч жизней заключенных, напугала чекистское начальство и заставила задуматься о должном обеспечении заключенных медицинской помощью. Во второй половине 30-х годов в концлагерях стало появляться все больше вольнонаемных врачей в форме НКВД, сменивших в большей пропорции лечивших заключенных единичных ротных фельдшеров.
В 1929 году, когда меня заключенным посадили на Соловецкий остров в Соловецкий лагерь особого назначения ОГПУ, на материке были только Кемский пересыльный пункт и в лесах Карелии, главным образом на запад от города Кеми, многочисленные «Командировки» на которых заключенные работали на лесозаготовках и по строительству Ухт-Кемского стратегического тракта к границе Финляндии. «Командировка» и «Кемперпункт» подчинялись Управлению концлагеря на Соловках. Вскоре «Командировки» были переименованы в лагерные пункты и подчинены образованному Кемскому отделению Соловецкого лагеря особого назначения. Лагпункт «Вегеракша» организован в 1927 году для постройки громадного шикарного здания для иностранных туристов в г. Кеми. В конце 1929 года эта гостиница с флигелем была занята переехавшим с Большого Соловецкого острова Управлением СЛОН.
Возложенные на СЛОН большие стройки на материке перенесли центр производственной деятельности концлагеря на материк. Количество заключенных резко возрастало и лагпункты стали расти как грибы на территориях все более отдаленных от г. Кеми. В 1933 году они простирались от порта на Белом море Сороки (ныне г. Беломорск) до побережья Ледовитого океана, захватывая не только Карелию, но и Кольский полуостров до самой границы с Финляндией. Самым северным лагпунктом была «Оленья губа» на побережье Ледовитого океана, западнее г. Мурманска. На юге территория Соловецкого концлагеря граничила с территорией концлагеря «Белбалтлаг», строившего Беломорско-Балтийский канал от с. Сороки на Белом море до с. Повенец на Онежском озере. Такая обширная территория была поделена на три отделения, под № 4 стало Соловецкое отделение, собственно Соловецкие острова. Заключенные содержащиеся на лагпунктах трех материковых отделений СЛАГа работали не только на лесозаготовках, но и на строительстве каскада гидроэлектростанции на реке Ниве, впадающей в Белое море у г. Кандалакши и гидроэлектростанции на реке Тулома на Кольском полуострове.
Одним из таких лагерных пунктов, входящих в 1-е Кемское отделение СЛАГа и была «Вегеракша», куда я был привезен 1-го июля 1933 года, в качестве заключенного.
30-го июня 1933 года с этапом заключенных я был вывезен на материк из Соловецкого отделения СЛАГа с Большого Соловецкого острова и был помещен на Кемперпункт на Поповом острове (сейчас Рабочий остров). Нас, заключенных отвели в барак с двойными сплошными нарами, на которых я имел полную возможность предаться невеселым мыслям – куда меня везут? По вызову в г. Кемь или по вызову в какой-нибудь другой, может быть весьма отдаленный суровый концлагерь, что было бы весьма нежелательным по всем причинам. Сомнения лишили меня сна, и первую ночь на материке я спал плохо. После подъема на другой день я получил порцию пшенной каши, по густоте своей совершенно непохожей на соловецкую похлебку, и даже с признаками растительного масла. Немедленно после общелагерной поверки был сформирован этап человек двадцать из окончивших срок уголовников. В этот этап включили и меня. Единственный приданный нам конвоир, солдат войск ОГПУ с винтовкой, после получения запечатанных пакетов с нашими личными делами, быстро погнал нас на станцию железной дороги. Не обошлось и без курьеза, явившегося следствием здравого смысла конвоира, а не его классовой ненависти: меня, политзаключенного, с десятилетним сроком заключения, не отсидевшего и половины срока (обо всем конвоир знал из надписи на наружной части пакета) он взял к себе в помощники для надзора за «социально-близкими» уголовниками, которые к тому же уже отсидели свой срок и потому не имели ни малейшей нужды бежать на свободу.
На лужайке у здания вокзала конвоир усадил всех освобождающихся на землю, а мне поручил пойти в кассу вокзала и оформить литер на поезд всего этапа до станции «90-й пикет», где было ближе до «Вегеракши», чем от станции Кемь. Это уже было полнейшее нарушение устава конвойной службы. Во-первых, конвоир терял зрительную связь со мной, конвоируемым, так как касса была внутри станционного помещения, имевшего кроме двух выходов еще и окна, через которые тоже можно было сделать побег. Во-вторых, конвоируемому солдат доверил денежный документ. В-третьих, из пакета литера я узнал место назначения этапа, маршрут этапа и способ этапирования не в вагоне с решетками, а в общем пассажирском, что каждое по отдельности и все вместе строжайше запрещалось знать заключенному. Узнав из литера о месте направления этапа, я повеселел, считая, что угроза переброски меня в другой концлагерь не существует, а меня везут на «Вегеракшу» для работы по вызову в Кеми. Когда я вернулся с билетами на проезд, солдат воспринял это как должное и погрузил нас в пассажирский вагон стоявшего железнодорожного состава, набив два отделения вагона. Конвоир посадил меня так, чтобы я не допускал сношения конвоируемых с вольными гражданами, едущими в этом же вагоне, а сам сел с винтовкой у выхода из вагона. Солдат, по-видимому, умел мыслить и делать свои выводы из наблюдений за заключенными и он отлично понимал, что политзаключенный не сделает побега, что касается же шпаны, хотя и везомой на освобождение, он очень опасался и не упускал их из вида, совершенно справедливо ожидая с их стороны воровства у вольных пассажиров и потом бегства, так как эти «социально-близкие» уголовники вовсе не нуждались в советском паспорте, получать который их везли на «Вегеракшу», чтобы затем освободить в городе Кеми.
На станции «90-й пикет» конвоир построил этап по четыре и повел строем на «Вегеракшу». Приблизившись к воротам лагпункта конвоир приказал нам рядами, как мы шли сесть на землю, лицом к проволоке. Все спустились на корточки. Такого унижения человеческой личности я еще не испытал. Я был доставлен в 1929 году на Соловки, пройдя два этапа, только вчера в этапе был доставлен с Соловков на Кемперпункт, и нигде нас не сажали на корточки перед воротами места заключения. Это походило на ритуал создаваемой новой религии, марксистской в чекистском изложении. Ритуал взятый из древних восточных религий, когда адепты их преклоняли колени перед входом в святилище. Но адепты шли на такое унижение себя добровольно из уважения к своей святыни, а чекисты заставляли заключенных насильно почитать места своего заключения, создав в приказном порядке такой древний ритуал. Такие сцены перед воротами «Вегеракши» мне приходилось со стороны наблюдать и впоследствии при приходе этапа.
Продержав в таком положении под бесстрастными взглядами солдат войск ОГПУ и ВОХРа, стоявших у ворот, минут двадцать, конвоир приказал нам встать и маршировать в открывшиеся ворота лагпункта. «Один, второй….» считал отделенный командир войск ОГПУ и дежурный по лагпункту у ворот комвзвод, входящие в проволоку ряды. Количество заключенных в этапе сошлось с цифрой препроводительной бумажки, нас остановили на улице «Вегеракши» и после церемонии передачи пакетов, мы поступили уже в распоряжение дежурного по лагпункту комроты. Он повел нас вглубь лагпункта. Загнав всех освобождающихся в пересыльный барак, меня одного он повел в другой барак и передал вместе с пакетом помкомроты канцелярской роты, который имел такой чин, судя по количеству (две) нашивки на рукаве. Барак был пуст. Помкомроты указал мне свободное место на втором ярусе сплошных нар.
Только я положил вещи, как тот же помкомроты, выслушав телефонный звонок, начал звать меня по фамилии и приказал идти с ним. Привел он меня в канцелярию лагпункта, в небольшую комнату с двумя дверями в следующие комнаты. На черной клеенке, которой были обиты двери, виднелись надписи: на одной двери: «начальник лагпункта», на другой «оперуполномоченный 3-й части». В комнате за столом сидела пожилая дама, как потом я выяснил, заведующая канцелярией, секретарша и машинистка в одном лице. Лицо ее мне было знакомо, и я тут же вспомнил, что это бывшая грозная начальница, жена бывшего начальника Соловецкого отделения СЛАГа чекиста Чалова, когда-то щеголявшего с двумя ромбами в петлицах, а затем разжалованного и осужденного Коллегией ОГПУ к заключению на пять лет в концлагерях в марте этого, 1933 года. У мадам Чаловой не было необходимости работать, когда ее муж занимал высокий пост. Теперь, когда он стал заключенным, ей пришлось самой зарабатывать на пропитание и чекисты устроили ее как «свою» на эту должность. Тень Соловков преследовала меня и на материке.
Помкомроты назвал мою фамилию, и Чалова тотчас же поставила меня в известность о том, что меня уже заждались в ПРО (Производственный отдел управления концлагеря) и чтоб я немедленно туда явился. Я почувствовал руку сопровождавшего меня с Соловков, возвращавшегося из командировки в Кемь заключенного инженера-электрика Сотникова, заведывающего механической мастерской концлагеря в городе Кеми и принявшего участие во мне и обещавшего сразу же доложить моим старшим друзьям главному механику СЛАГа заключенному инженеру Боролину и его помощнику заключенному инженеру-технологу, артиллерийскому офицеру Русской армии Гейфелю о моем прибытии на материк с тем, чтобы они приложили все усилия о моем оставлении в СЛАГе и вызволили бы меня, если я предназначен на переброску в другой концлагерь, чего я так опасался, не зная куда меня везут.
Услышав о направлении меня в ПРО, от радости я еле совладал с собой. Все страхи куда меня везут сразу отпали, исполнилась моя заветная мечта попасть в Кемь на материке поближе к своей любимой. Я не мог заставить себя воспринимать объяснения Чаловой как мне пройти в ПРО, которые она мне давала, выписывая пропуск. Я был почти невменяем, но еще более обрадовался, увидев своими глазами пропуск «без конвоя».
Ложкой дегтя в бочку меда для моего восторженного состояния было проявление из кабинета начальника лагпункта чекиста Иваницкого. Он был в форме ОГПУ с тремя шпалами на малиновых петлицах, что соответствовало званию командира полка (в те годы комполка носил три шпалы, четыре шпалы комполка стали носить позже). Я его знал в лицо по Соловкам, когда будучи заключенным с десятилетним сроком за уголовное преступление, он работал старшим следователем Информационно-следственного (3-го) отдела СЛОН. На нем была кровь сорока неповинных политзаключенных, сфабрикованное дело о якобы подготовке побега которых, он вел сам и предложил начальнику СЛОН их расстрелять. Расстрел был произведен без утверждения приговора Коллегией ОГПУ и расстрелянных затем пришлось показать в отчете умершими от тифа. Несмотря на это, или вернее за это, Иваницкий был досрочно освобожден из концлагеря и назначен вольнонаемным начальником лагерного пункта с восстановлением стажа чекистской работы. Только встреча с таким извергом уже могла испортить настроение, а ведь я оказался еще и в подчинении у него.
Иваницкий на ходу подмахнул мне пропуск, даже не взглянув на меня, и важной походкой проследовал к уполномоченному 3-й части решать чью-либо судьбу.
Предъявив пропуск в проходной будке у ворот, я вышел из проволоки на солнце на «волю». Солнечный, даже жаркий, день так гармонировал состоянию моей души; голая болотистая тундра, покрытая кустиками черники, брусники, клюквы казались мне зелеными лужайками на далеком юге; бледное высокое небо для меня сияло счастьем.
В двухстах метрах от «Вегеракши» я должен был пройти мимо Зональной станции, где жила и работала моя возлюбленная, полная тревоги за меня, пребывавшая почти уже месяц в полном неведении относительно возможности моего перевода с Соловков Кемь. Уже прошел почти месяц как я виделся с Ней, приехав в Кемь в командировку, и тогда вызов мой был мне обещан и мы думали что снова увидимся через несколько дней, а вызов задержался, и мы оба страдали. Ну как было не завернуть к Ней, увидеть Ее, поскорее успокоить! И хотя я был в обмундировании заключенного, я все же рискнул и через несколько минут Она была в моих объятиях, наши уста слились в долгом поцелуе, благо Она была в здании одна, поскольку все сотрудники разъехались в командировки и нам никто не мог помешать. Однако нельзя было от счастья терять голову, нельзя было забывать, что мы оба заключенные, да еще политзаключенные, что не для любви нас посадили в концлагерь. К тому же меня ждали в ПРО, да и мне самому хотелось поскорее выяснить какая должность мне приготовлена, насколько она даст мне возможности беспрепятственно видеться с любимой. И я поспешил в Кемь в Управление СЛАГА.
Дежурный комендант, отделенный командир войск ОГПУ в вестибюле Управления проверил мой пропуск и пропустил на второй этаж. Быстро пройдя большой зал, уставленный столами с «аппаратчиками» Управления из заключенных, я вихрем ворвался за стеклянную загородку, служившую кабинетом главного механика и местопребыванием его немногочисленного штата. Я попал в объятия Гейфеля, хорошо ко мне относившегося еще на Соловках, в бытность его заведующим Электропредприятиями. Боролин был в командировке на Туломе, что сразу охладило мой пыл, так как мне было ясно, что только Боролину все известно и до его приезда моя судьба останется невыясненной. Гейфель искренно всегда меня подбадривал, когда я приезжал в Кемь в командировку и уверял меня, что Боролин вытащит меня с Соловков в свой аппарат, но это были общие слова и конкретного от Гейфеля я ничего не мог ожидать. Однако оказалось, что Гейфель с утра звонил на «Вегеракшу», предупрежденный о моем прибытии Сотниковым, и меня поджидал, чтобы представить меня исполняющему обязанности начальника ПРО, взяв инициативу моего устройства в свои руки.
Всеволод Иванович Лозинский был и.о. начальника ПРО, а не начальником ПРО только потому, что начальником должен был быть чекист, а свободного чекиста на эту должность не оказалось, и управление всем обширным и многоотраслевым производством концлагеря пришлось возложить на политзаключенного «вредителя» инженера-экономиста, именуя его «и.о. начальника ПРО УСЛАГа». Лозинский был пожилой, лет пятидесяти мужчина, слегка сгорбленный от всего перенесенного и взваленной теперь на него ответственностью, с зачесанными назад с проседью волосами, с всегда невозмутимым спокойным лицом, не выражавшим никаких чувств, но притом в разговоре иногда улыбавшемся, но не от души. В тоже время это был, безусловно, добрый, отзывчивый человек, в чем я убеждался, все более и более его узнавая, чувствуя как без показного расположения ко мне, он заботился впоследствии о моей судьбе, делая все что было в его силах. Однако трусливый по натуре, а может быть запуганный до трусости арестом, следствием, приговором, он чересчур заискивал перед чекистским начальством, выполняя сверхточно малейшие указания сверху. Возможно, что на Лозинского наложила отпечаток его дореволюционная карьера. Он был секретарем Союза Санкт-Петербургских предпринимателей, среди которых были и малокультурные, только что разбогатевшие люди, рассматривавшие секретаря Союза как собственного служащего, не обращавшие внимания на его образование и обращавшиеся с ним как со своими слугами. Отсутствие возможности дать таким хозяевам отпор и приучило его к внешней слишком большой покорности, которую он проявлял и в концлагере. Лозинский и ходил как-то приниженно, горбясь, семеня ногами, создавая впечатление человека, хотящего остаться незамеченным, даже при проходе мимо своих подчиненных. Его желание управлять без замечаний со стороны начальства приводили к большой перегрузке в работе, вызываемой при выполняемой им лично доскональной проверки, в особенности цифрового материала в сводках для доклада начальнику Управления СЛАГа или его помощнику, при составлении директив, проверки смет. Работоспособность Всеволода Федоровича была колоссальная, у него не было ни минуты отдыха в течение рабочего дня. Он часто засиживался далеко за полночь. Постоянная его поза в кабинете была склоненная под столом с бумагами. В противоположность Боролину, Лозинский никуда на стройки не ездил, предпочитая управлять из своего кабинета. Возможно здесь сказывалось его образование инженера, но экономиста, а не производственника. И еще одна была разница между Лозинским и Боролиным, из-за которой у меня были разные чувства к ним обоим. Боролин был в полном смысле «рыцарь без страха и упрека» и я всегда слепо верил ему, зная что из трусости, которой он был совершенно лишен, он меня в беде не оставит. Лозинский также хорошо ко мне относился, заботился обо мне, но вполне положиться на него в душе я все же не мог. Я не был уверен хватит ли у него храбрости защищать меня, если случится со мной беда.
Гейфель представил меня Лозинскому. Последний, очевидно был в курсе дел моего вызова и, оторвавшись от бумаг, протянул мне руку, улыбнулся и предложил нам обоим сесть. Гейфель начал расхваливать меня как знающего, дисциплинированного работника, хорошего администратора и организатора и т.д. и тому подобное. Мне даже стало неловко за Гейфеля и кроме того Гейфель явно преувеличивал мои технические познания, уверовав в них еще на Соловках. Лозинскому Гейфель изобразил меня как опытного инженера-электрика, но я ведь таковым не был, и сам прекрасно знал свои малые знания и мне вдвойне становилось неловко. Окончил Гейфель совершенно неожиданно для меня, выдвинув мою кандидатуру на заведывание Кемской электростанцией.
Чего-чего, а назначения меня заведующим электростанцией я никак не ожидал и был совершенно ошеломлен. Если бы даже и требовалось мое соглашение на назначение, в тот момент я ничего путного не мог бы сказать для отвода своей кандидатуры. Лозинский выслушал Гейфеля с опущенными на стол глазами, затем посмотрел на меня и резюмировал: «Очень кстати, сегодня же я доложу начальнику Управления (СЛАГа), думаю, что он согласится и приказ будет на днях».
Кивком головы Лозинский нас отпустил.
Посмотреть электростанцию я не пошел. Хотелось собраться с мыслями, да и идти без приказа о назначении не имело смысла. К тому же я явно трусил перед такой должностью, не хотелось заглядывать в будущее, расстраиваться впустую перед объемом работы, когда может быть 3-й отдел и не пропустит меня на должность заведующего, как политзаключенного» «А тогда что – на общие работы в проволоке «Вегеракши», - подумал я. И так было плохо и так еще хуже. Я прямо пошел к Ней на Зональную станцию, рассказал все новости. Она была тоже ошеломлена моим назначением и даже советовала мне отказаться. Но как я мог отказываться, если столько просил о вызове в Кемь. Теперь отказываться, если бы это даже и помогло, какими глазами я смотрел бы на Боролина? Проведенный вместе с любимой день сгладило остроту моих переживаний. Преимущества как мне сулила должность заведующего предприятием в самом городе – беспрепятственно видеться с Ней, к концу дня, окончательно перетянули мои страхи. От Нее я ушел совсем спокойным поздно вечером, вернулся в проволоку на «Вегеракшу», влез на второй ярус нар, подстелил тулуп, накрылся одеялом. Спал я, несмотря на усталость от большого переживаниями дня, плохо, но не от дум, а от клопов. Вспомнилось, как четыре года назад, привезенный на Соловки я тоже спал на сплошных нарах, съедаемый клопами. Но то было на острове, оторванном от всего мира, теперь же я был на материке и клопы казались уже не такими злыми.
КЭС
КЭС было сокращение от полного названия: Кемская электрическая станция Управления Соловецкого лагеря ОГПУ. КЭС была расположена в центре г. Кеми. Первоначально она была спроектирована и построена на небольшую мощность только для освещения гостиницы для иностранных туристов, построенной Соловецким лагерем Особого назначения в 1927-28 годах. Небольшой машинный зал с деревянной пристройкой помещался в первом этаже длинного каменного флигеля, расположенного почти на самом берегу реки Кеми, на задворках монументального здания гостиницы, в метрах двадцати от нее. В первом этаже флигеля с электростанцией граничили с одной стороны столовая и клуб вольнонаемных, с другой небольшое помещение механической мастерской, предназначенной для ремонта механизмов электростанции, отопительной водяной системы и водопровода зданий гостиницы и флигеля. Второй этаж флигеля был занят квартирами высшего концлагерного начальства – начальником УСЛАГа, его помощником и начальниками 3-го отдела, учетно-распределительного и общего отделов. Расположение электростанции в одном строении с жилыми помещениями, да еще под ними, было вопиющим нарушением правил техники безопасности, но факт оставался фактом.
На КЭС был установлен шестидесятисильный одноцилиндровый, четырехтактный компрессорный дизель завода «Фельзер». Завод во время первой мировой войны был эвакуирован в Нижний Новгород (теперь Горький), после революции национализирован и стал называться «Двигатель революции». Естественно при одном цилиндре дизель имел маховик диаметром около четырех метров, составляя по весу солидную махину. В случае поломки шейки коленчатого вала такой маховик разрушил бы все стены и погреб все начальство под развалинами флигеля. Дизель при помощи ременной передачи вращал динамо-машину в 50 кВт, вполне обеспечивающую освещение обоих зданий, а в светлое время суток еще и приводы токарного и сверлильного станков смежной механической мастерской. В качестве резерва на случай аварии дизеля был установлен на бетонном основании бензиновый четырехцилиндровый сорокасильный двигатель английской фирмы «Торникрофт», совершенно изношенный и снятый с брошенной англичанами при эвакуации Севера грузовой автомашины. Ременный привод с его маховичка вращал шунтовую динамо-машину немецкой фирмы «Сименс и Шукерт» с двумя коллекторами по обе стороны якоря. Этот музейный экспонат, выпуска восьмидесятых годов XIX столетия развивал напряжение в 220 вольт путем последовательного соединения токособирателей с обоих коллекторов. Паспортная мощность этой электрической машины достигала 50 кВт. Полностью ее мощность не могла быть использована ввиду малой мощности двигателя и изношенных токоснимателей, которых заменить новыми не представлялось возможным вследствие старинности образца. «Заключенным нарочно дают старую изношенную технику, - ворчал электромонтер КЭС, - чтоб заключенным еще тяжелее было работать в концлагере!». Может быть нарочно это и не делалось, но действительно в концлагерях почти вся техника по годам своего выпуска как будто была изъята из музеев и вследствие своей изношенности требовала дополнительного труда заключенных для ее эксплуатации и исправно работала только благодаря большой заботе о ней со стороны заключенных, боявшихся наказания от чекистов за отказ самой техники работать. Механизмы КЭС не составляли исключения в этом отношении.
Водяное охлаждение двигателей производилось из водопроводной системы с водонапорным баком на чердаке главного здания, в который вода накачивалась поршневым насосом с электрическим приводом, установленным в деревянной пристройке машинного зала КЭС. Водозаборная труба была выведена по дну реки Кеми, почти до ее середины. Против КЭС река была довольно широкая, но мелкая.
С закрытием гостиницы и занятия ее здания под Управления СЛОНа (впоследствии переименованного просто в Соловецкий лагерь – СЛАГ) в конце 1929 года постепенно, по распоряжению начальства, к КЭС стали присоединять новых потребителей. К 1933 году кроме двух вышеописанных зданий КЭС питала осветительную сеть Городской пожарной команды, дивизиона войск ОГПУ, радиостанцию Управления СЛАГа и отдельные в городе квартиры вольнонаемных и заключенных чекистов аппарата Управления СЛАГа, которые обязательно хотели иметь «свое» освещение. Их пристрастие к «своей» электростанции можно было понять, так как коммунальная электростанция в летние светлые месяцы вообще не работала, а зимой не давала полного напряжения, и население города освещалось тусклым светом. Кроме вышеперечисленных потребителей к сети КЭС было присоединено здание Кемского Леспромхоза, специально для зарядки аккумуляторов их радиосвязи с лесозаготовками и в летнее время. Зарядка аккумуляторов телефонной станции Управления производилась также электроэнергией подаваемой КЭС.
Количество часов работы КЭС в сутки определялось временем года. В летние месяцы, когда заря не сходит с неба КЭС работала с 18-21 часа до 2-х часов ночи, неполную смену и то, главным образом, для зарядки аккумуляторов Леспромхоза и телефонной станции (в часы бездействия КЭС радиостанция Управления получала электроэнергию с «Вегеракши», откуда у ней была подведена отдельная магистраль). С октября по апрель КЭС работала еще и с шести часов утра до наступления светлой части дня. В эти месяцы по мере уменьшения продолжительности дня все более возрастало время работы вечерней смены. В декабре-январе КЭС работала до 19 часов в сутки по графику с 6 часов до 11-12 часов и с 13-14 часов до 2-х часов ночи. В дни, когда рассвет тотчас же переходил в вечерние сумерки, перерыв в работе днем сокращался менее чем до одного часа.
Персонал КЭС состоял всего из девяти заключенных, включая заведующего, старшего механика, двух сменных мотористов, двух сменных масленщиков, слесаря-шорника для сшивания ременной передачи и двух электриков, из которых один был дежурный у распределительного щита, другой электромонтер по электросети, ходивший по вызовам абонентов. Он же подменял дежурного у распредщита в зимнее время. Все заключенные, за исключением слесаря-шорника были посажены в концлагерь по 58 статье на десять лет. Исключение составлял старший механик отделавшийся тремя годами заключения и вскоре, после моего прибытия освободившегося и оставленного на некоторое время в той же должности вольнонаемным. Слесарь-шорник был осужден судом на семь лет за «воровство в колхозе». Кристально-чистый, в высшей степени честный он явно ничего не крал, а попал, скорее всего, как «неугодный элемент» - «подкулачник». Очевидно, за его удивительную покорность следователь над ним смилостивился и 58-ю статью заменил воровской статьей, чтоб не пятнать его на всю жизнь, как политзаключенного.
Заведующим КЭС до меня был заключенный венгр Ковач из той плеяды венгерских коммунистов, которые в 1919 году после ликвидации советской власти в Венгрии бежали в Советскую Россию и постепенно были посажены по 58 статье в концлагеря, преимущественно на десятилетний срок. Поскольку мой предшественник закончил свой срок заключения недели за три до моей переброски в Кемь, я его не видел и знал о нем только понаслышке. Он был малокультурным человеком, но хорошо разбирался в нефтяных двигателях. При таком заведующем доставшийся мне по наследству старший механик, возможно, и вполне был на месте, но поскольку сам я дизель видел первый раз в жизни, только теоретически зная принцип его работы, мой первый помощник оказался для своей должности очень слаб. Он был шофер, ездил превосходно, недурно знал автомобильный двигатель, немного поднатаскался, работая у дизеля, но далее, когда был поставлен двухтактный нефтяной двигатель, его некомпетентность выявилась сразу. Сменные мотористы Костенко и Подопригора, крестьяне попавшие в концлагерь как «кулаки» хорошо знали нефтяные двигатели, в особенности первый, очень пожилой, имевший в своем хозяйстве собственный такой двигатель. Костенко был начитан и вполне выглядел сельским интеллигентом. Подопригора был деревенский кузнец. Настоящим интеллигентом был дежурный у распредщита, только в концлагере овладевший навыками достаточными для исполнения своих обязанностей на маленькой электростанции какой была КЭС. Он был довольно пожилой офицер семиреченского казачества. Электромонтер был хороший практик. В шутку мы с ним друг друга называли «тезкой», потому что у обоих у нас был 8-й (террор) ст. 58 и обоих нас «окрестил» (то есть посадил в концлагерь) один и тот же следователь Московского ГПУ Корженевский, только монтера двумя годами позже, чем меня. Масленщики тоже не были специалистами, как и слесарь-шорник. Все они были крестьяне и овладели достаточными знаниями при работе у дизеля тут же на КЭС. Старший механик, оба моториста и один масленщик были украинцы, другой масленщик казах, остальные русские. Поскольку все исполняли свои обязанности, а казачий офицер вел еще и всю канцелярию и частично и бухгалтерию, так как штатного бухгалтера не полагалось, а по совместительству был прикреплен к КЭС работник финотдела полковник Русской армии политзаключенный Лобанов. Он появлялся у нас только в начале месяца, чтобы выписать счета абонентам за отпущенную электроэнергию по спискам подготовленным офицером и выдать нам премиальные деньги. Лобанов тоже был моим «тезкой» так как и его усадил в концлагерь Корженевский, только по пункту 10 статьи 58 и только на три года. Усадил Лобанова следователь через два года после электромонтера уже в 1933 году, так что полковник в концлагере был новичком. Возраст моих подчиненных был от 35 до 50. Самый молодой 27-летний оказался я, их заведующий.
Такой была КЭС и с такой, как я ее описал, со штатом ее обслуживающих, я и познакомился на другой день после выдвижения моей кандидатуры поверхностно, а в следующие недели и месяцы более детально.
На второй день моего пребывания на «Вегеракше», я встал рано, написал матери письмо о моем спасении с Соловков и новом адресе для писем и просил ее приехать на свидание со мной. Мы с матерью не виделись почти три года, так как с 1930 года перестали разрешать свидания с заключенными, находившимися на Соловках. Это было очень тяжело и матери и мне, а теперь это препятствие отпадало. Письмо для отсылки, как полагалось, я сдал ротному писарю, от которого письмо должно было пойти к цензору 3-й части и только после его проверки письмо уходило на почту. Посмотрев на меня, писарь с удивлением произнес: «Так у Вас же пропуск в город …», - и осекся. Он явно был удивлен зачем я загружаю его и цензора отправкой и цензурой письма, когда я в городе спокойно мог сам опустить его в почтовый ящик! Его удивление я понял только потом и больше уже не утруждал ни писаря, ни цензора, опуская письма матери прямо в почтовый ящик в городе. От матери мне письма приходили в роту через цезуру. Но некоторые заключенные имевшие пропуск для хождения по городу заводили знакомства с местными вольными жителями и на их адреса получали письма от родных.
Возможность свидания с матерью была таким большим плюсом пребывания на материке, что можно было смириться с тяжелым бременем должности заведывающего и в радостном настроении я стал в строй утренней поверки. Так же как и четыре года назад в пересыльной и второй ротах на Соловках я кричал «здра» дежурному чекисту обходившему строй. На разводе помкомроты-нарядчик вручил мне «сведения», в котором я значился работающим в ПРО (очевидно согласно вызову, по которому я был привезен на «Вегеракшу»). По «сведению» я получил у Чаловой месячный пропуск на выход из проволоки и вход в проволоку «Вегеракши» и, выйдя из проволоки, пошел навестить Ее. В здании Зональной станции Она была снова одна, я ей помог навести порядок с пришедшим с Соловков лабораторным имуществом вследствие закрытия Биосада. Нам не хватало времени обо всем переговорить, но все же мне пришлось идти показаться в ПРО.
В кабинете Боролина, кроме Гейфеля я застал тепло приветствовавшего меня моего бывшего непосредственного начальника на Соловках, тогда заключенного офицера-минера Русского флота Зиберта. Он был опытный электрик, на Соловках заведовал электросетями, а после переброски на материк больше года занимал должность заведующего электросетями СЛАГа, сначала заключенным, теперь вольнонаемным. Гейфель просил его, как моего бывшего начальника и хорошего знакомого, провести меня на КЭС и познакомить меня с ней. Поскольку КЭС начинала работу с десяти часов вечера, Зиберт предложил мне прийти за ним в Управление СЛАГа к девяти часам вечера, так как он посчитал целесообразным показать КЭС в минуты подготовки двигателя к пуску и самую работу машин. Гейфель отметил мне «сведения» за оба дня и по его служебной записке я пошел на «Вегеракшу» в Бюро снабжения выписать себе сухой паек по норме заведующего КЭС.
Меня поразило количество и разнообразие продуктов, которые я получил по «1-у списку» на полмесяца. Селедка, вобла сушеная, говядина, макароны, пшено, сахар, чай, масло растительное. На день мне полагалось 600 г хлеба. После соловецкого пайка у меня глаза разбежались. Все полученное я немедленно отнес на Зональную станцию, так как мы решили по-семейному питаться вместе. Обилие, с моей точки зрения, пайка Ее ничуть не поразило, так как еще больший паек, как приравненная к ИТР, Она получала с 1-го января. После голодовки на Соловках я был поражен, что Она при чистке селедки на обед выбрасывала головы, внутренности и кожуру. Попадись мне такая селедка на Соловках я бы съел ее целиком и мне просто стало досадно, что такие съедобные отбросы Она выбрасывала. Однако я ничего не сказал. Так началась наша почти семейная жизнь на материке.
В 21 час мы с Зибертом пришли на КЭС. Зиберта персонал электростанции знал в лицо, а обо мне Зиберт тактично не упомянул и никто не спросил меня, очевидно приняв за какого-нибудь соглядатая из 3-го отдела, которым вопросы не задаются. Персонал был уже на месте: дежурный по распределительному щиту сидел перед ним за столом и читал книгу; старший механик, дежурные моторист и масленщик суетились около дизеля. Общий вид машинного зала был неряшлив, слабо освещен дневным светом, а аварийного освещения не было. Лагерное обмундирование на машинной команде было промаслено, работали без спецовок. Дежурный за столом был одет в черную собственную косоворотку. Большое недоумение вызвали у меня аккуратно свернутые кошмы, из которых выглядывали подушки на двух топчанах, поставленные между стенкой и ограждением ременной передачи. Такой же сверток я увидел и за распределительным щитом на помосте, прикрывающем отводы кабелей от распредщита. А на деревянном диване, на котором сидел дежурный по распредщиту, совсем откровенно лежала завернутая в легкий тюфяк постель. Впоследствии я узнал, что весь персонал явочным порядком переселился с «Вегеракши» и машинный зал «по совместительству» был превращен в общежитие. И это было в двадцати метрах от Управления, под квартирой начальника концлагеря, так сказать у него под самым носом. И никто из предоставленных самим себе заключенных не убежал. Так зачем же надо было городить проволокой колючей, ставить вышки, содержать тюремщиков, когда такие овцы сами никуда не девались?
Однако еще большее изумление, перешедшее в тревогу вызвал у меня способ запуска дизеля. Хотя я в первый раз в жизни увидел дизель, но теоретически я знал принцип его работы, и, хотя больше здравым смыслом, чем техническими знаниями, понял опасность грозившую не только электростанции, но и всем квартирам начальства. Несмотря на сжатие в камере сгорания цилиндра даваемое компрессором в 64 атмосферы, благодаря выработке стенок цилиндра происходило столь значительная утечка горючей смеси, что сгорания не получалось и дизель не запускался. Тогда старший механик (он это делал ежедневно при запуске) влез на верх цилиндра дизеля и через продувное отверстие залил в цилиндр бензин. Произошла вспышка и дизель сделал рабочий ход, старший механик повторил и после нескольких порций бензина, дизель развил нормальное количество оборотов. Чуть-чуть больше бензина и все взлетело бы на воздух. Цилиндр разорвало бы вместе со старшим механиком, а здание от взрыва разрушилось бы. «Из-за одной только процедуры запуска дизеля надо бежать от заведывания КЭС, - думал я, - лучше сидеть в проволоке чем рисковать жизнью при каждом запуске дизеля. В случае аварии, если останусь жив, все равно мне не миновать расстрела. Террористический и диверсионный акты налицо (у меня и так заключение в концлагерь за «участие в террористической организации)». Оставалась надежда на 3-й отдел, который мог и не пропустить меня, как политзаключенного заведовать КЭС, но эта надежда была слаба.
На другой день, не заходя к Ней, чтобы и Ее не расстраивать (Она бы могла догадаться обо всем по одному моему расстроенному виду) я утром прямо прошел в ПРО, надеясь на приезд Боролина. Увы, его не было. Гейфеля просить об отставке моей кандидатуры в заведующие было бесполезно, так как он искренно считал меня всезнающим и сверхопытным. Я увязался за Зибертом пошедшим в город по делам и поделился с ним всеми своими грустными впечатлениями о КЭС. Зиберт терпеливо все выслушал, не перебивая меня, а затем рассказал о намеченном капитальном ремонте дизеля и установке еще одного двигателя. Итак, я попадал не только в заведующие-эксплуатационники, но и прорабы-строители энергоблока. Ничего хуже для меня нельзя было придумать! Весь день я в душе ругал себя, что напросился на вызов на материк, не зная, что в заведующие КЭС я попал при стечении неблагоприятных для меня обстоятельств, благодаря отсутствию Боролина и освобождению моего предшественника.
Несколько дней я проболтался без дела, появляясь на мгновение в ПРО для отметки «сведения», а все остальное время проводя у Нее, благо Она продолжала оставаться в одиночестве на все здание Зональной станции, поскольку остальные сотрудники все еще были в разъездах. Эти дни были для меня нечто вроде отпуска, который я, безусловно, заслуживал за четыре года подневольного труда на Соловках, но в ожидании такого для меня мрачного будущего, это, конечно, был не отдых. Если бы не сознание возможности близкого свидания с матерью и повседневного общения с Ней, которая проявляла максимум внимания и заботы обо мне и морально поддерживала меня в эти часы испытания, я не знаю до каких пучин отчаяния можно было бы дойти.
Приказ о моем назначении заведующим КЭС все же состоялся. Я получил на руки выписку из него и тотчас же пошел на КЭС. Было около 12 часов дня, КЭС не работала, но двери были открыты настежь, заходи кто хочет. Я прошел машинный зал, пристройку с насосом и только во дворе, на берегу реки увидал часть персонала электростанции. Старший механик, моторист Подопригора, слесарь-шорник и оба масленщика возились около грузовой машины, которую капитально ремонтировали. Подопригора с большим мастерством ковал какую-то деталь, один из масленщиков был у него подручным, раздувая походный горн. Я дождался, когда старший механик слез с переднего крыла машины, на котором он лежал копаясь в двигателе и представился ему, показав выписку из приказа, которая на него никак не подействовала. Дисциплина на КЭС была такова, что старший механик коротко сказал мне: «вечером передам станцию, сейчас некогда, видите ремонт идет». Действительно все работали быстро и слажено и у меня, несмотря на такую встречу, отлегло от сердца при мысли, что с таким коллективом, умеющим так азартно работать, капремонт и расширение КЭС не будет таким уж тяжелым.
Недоумевал я только причем тут грузовой автомобиль и почему с капремонтом КЭС ничего не делается? Ведь уже был конец первой декады июля, после летнего солнцестояния прошло уже три недели, сколько было упущено светлого времени года! Отрезанный от мира в течение четырех лет на Соловках, я не знал, что такое положение с сезонными работами, характерная черта централизованного планирования, наблюдается во всей стране и превратилось в национальное бедствие. Труд под угрозой, бешеные темпы под нагайкой перевернули весь мудрый дедовский опыт: сани мастерили зимой, телеги летом, вопреки старой пословице. Непосредственные исполнители работ ждали указаний свыше, а это указание проходило столько ступеней власти, что опаздывало по фазе минимум на полгода, почему и получался «ремонт саней зимой». И к этому настолько привыкли, настолько оно вошло в быт, что как правило, а не как исключение, доминирует и в наши дни.
Приказ о моем назначении, мое искреннее желание начать продвигать капитальный ремонт дизеля и установку нового двигателя и в последующие дни ничего не изменили в полном благодушии в этих вопросах и, главным образом из-за саботажа старшего механика, который никак не находил в течение суток времени ни одной минуты со мной поговорить, хотя бы ввести меня в курс дела. Мне казалось, такое отношение ко мне с его стороны является следствием уязвленного его самолюбия, причиной которого было назначение меня заведующим. А на деле, как я присмотрелся, дело обстояло проще: старший механик со своими четырьмя подручными исключительно был занят капремонтом грузовой автомашины Кемского Горсовета и о капремонте дизеля и вообще о работе КЭС у него действительно не хватало времени подумать. И это никак не укладывалось у меня в голове, как могли пять заключенных ремонтировать автомашину по личной договоренности с городским инженером, минуя лагерную администрацию, да еще за наличный расчет! Для меня, знавшего только жестокий соловецкий режим, это было просто дико. Безусловно и на Соловках заключенные подрабатывали, кто стиркой белья для заключенной элиты, кто оказывая ей другие мелкие услуги, но все это у отдельных лиц, в одиночку и за копейки. А здесь в Кеми целая артель заключенных, войдя в сношения с вольным лицом, с которым по лагерному уставу они не могли общаться, и главное в рабочее время, зарабатывали себе деньги и немалые, притом используя материалы из запасов концлагеря. Тут было от чего широко раскрыть рот, но не произнести ни звука, чтобы не испортить мне с ними отношения на первых порах, пока не приберу их к рукам. Забегая вперед, надо сказать, что за мое попустительство, вызвавшее ко мне, со временем, любовь и уважение персонала КЭС после окончания ремонта автомашины «артель» с выражением большой благодарности, с искренней любовью, которая светилась в их глазах, вместе с тем с робостью, как бы меня не обидеть, преподнесла мне в подарок из суммы полученной за ремонт сорок рублей. Мне не хотелось брать, это пахло взяткой, я отнекивался, что с ними не работал, но, в конце концов, взять от них деньги все же пришлось, так как я почувствовал, что иначе я нанесу им обиду.
Что касается работы этой «артели» на капремонте дизеля, в особенности вначале, темпы ее далеко не соответствовали вынесенному мною впечатлению при первом знакомстве с «артелью», когда она была занята ремонтом автомашины. Напрасно тогда я так порадовался, мечтая о быстром ремонте КЭС. Оно и понятно: тогда «артель» работала для себя, на дизеле бесплатно подневольным трудом. Перелом наступил лишь тогда, когда постепенно персонал КЭС проникся ко мне уважением и осознал, кто будет козлом отпущения за задержку ремонта. Тогда вся машинная команда стала работать напряженно, не покладая рук.
Через несколько дней после моего назначения приказом, зайдя утром в ПРО, куда я заходил ежедневно, я застал Боролина, вернувшегося из командировки. При виде меня на его лице расплылась широкая улыбка, он горячо приветствовал меня. «Его назначили завом КЭС», - сказал Гейфель. Боролин как-то молниеносно дернул головой в мою сторону, у него слегка поднялась бровь, и наступило молчание. Я очень хорошо знал Боролина и мое искреннее желание тотчас же поделиться с ним всеми неотложными делами свалившимися на меня по управлению КЭС, сменилось тревогой. Я почувствовал, что вышло так, будто я его обошел. Глупее ничего не могло быть. По-видимому, Боролину строительство гидростанций дополнительно растрепало нервы, и он не мог так безукоризненно владеть собой, как раньше. Подергивание бровью я видел впервые. Боролин тотчас же справился с собой: «Ну что ж не боги обжигают горшки, справитесь!». И снова я узнал своего старшего друга и наставника в устремленном на меня ласковом взоре.
Эта фраза раскрыла мне все, весь этот глупый и неудачный фарс с назначением меня заведующим КЭС, жертвой которого был я. Боролин, всегда относившийся ко мне с большим доброжелательством, оберегавший меня от всяких неприятных казусов концлагерной действительности, по-видимому готовил мне тепленькое местечко у себя в аппарате главного механика Управления СЛАГа (если такого места не было, то он учредил бы его, пользуясь громадным влиянием на начальника концлагеря), чтобы иметь под рукой аккуратного исполнителя и преданного ему человека и чтобы мне было безопасно. Теперь это отпадало. Гейфель опередил Боролина, не будучи в курсе дела. А в разыгравшемся фарсе в кабинете Лозинского в день моего прибытия в Кемь все три участника сыграли вслепую. Гейфель, не будучи инженером-электриком, узнав меня на Соловках в должности заведующего электросетями, по исполнению мною служебных обязанностей составил о моих способностях очень высокое мнение. Эта слепота в отношении действительных моих знаний и опыта послужила Гейфелю основанием для выдвижения моей кандидатуры. Но как Лозинский, всегда такой осторожный, не доверявший никому, лично проверявший колонки цифр, не зная меня и не проверив знания (после восхваления меня Гейфелем, он как инженер-экономист, очевидно и не решился подвергнуть меня экзамену) вслепую согласился на выдвижение моей кандидатуры? Вслепую сыграл и я, считая что на эту должность меня вызвал с Соловков Боролин и потому я не имею морального права отказаться.
Боролин отложил все дела и изложил детально мои организационные обязанности по капремонту и расширению КЭС. Как главный механик он был в курсе дела до мельчайших подробностей даже такой малой единицы КЭС, которая была ничто по сравнению с руководимыми им стройками на реках Ниве и Туломе. По его указанию, как «в старые добрые времена» на Соловках, когда я был его подчиненным, я написал несколько бумажек, а он подписал: прорабу строительных работ, по укладке фундаментов под новый двигатель, Кемскому депо железной дороге о предоставлении борштанги для расточки цилиндра дизеля и так далее и тому подобное. Часть бумажек он взял сам для проталкивания через начальника Управления, остальные вручил мне, чтобы я сам по ним действовал. Хоть на бумаге, а капремонт КЭС начался и, главное, теперь я знал что мне надо делать. Со старшим механиком он сказал мне не церемониться. Это было легче сказать, чем сделать, так за ним стояла тесно спаянная с ним денежным интересом машинная команда.
С первых же дней график капремонта, набросанный для меня Боролиным оказался сорванным. Ввиду предстоящей разборки дизеля электроэнергию следовало вырабатывать аварийным автомобильным двигателем «Торникрофт». Хотя на бензине весьма повышалась стоимость электроэнергии, все же Боролин добился от начальника Управления разрешения на это. Мне оставалось позаботиться лишь о бесперебойном снабжении КЭС бензином, что послужило мне поводом к первому знакомству с заключенной элитой Отдела технического снабжения. Однако старший механик ремонтировал не тот автомобильный двигатель, который следовало и «Торникрофт» оказался неподготовленным к взятию нагрузки электростанции. Он оказался аварийным в прямом смысле этого слова и на второй день работы стал давать перебои и остановился. К счастью это произошло в час ночи и мои потребители решили, что КЭС нормально прекратила работу. К счастью поглощенная работой на горсоветовской машине, «артель» не успела разобрать дизель и он снова с бензинчиком стал работать.
Зная автомобильный двигатель больше теоретически только по курсам шоферов, которые я прошел в одну из зим на Соловках, лично я мало чем мог быть полезен в определении неисправности «Торникрофта». Старший механик не то по незнанию, не то вследствие озабоченности по ремонту горсоветовской машины, неоднократно копавшийся в «Торникрофте» никак не мог определить причину его неисправности. Двигатель работал от получаса до часа, а затем снова не тянул. Так тянулось больше недели, дизель работал, прошло уже около месяца после летнего солнцестояния, вечера становились темнее, а к ремонту дизеля не приступали.
Наконец старший механик обнаружил истинное повреждение «Торникрофта», разобрав распределительный механизм. Выкрошился зуб шестеренки, и распределение зажигания все время сбивалось. Заведующий механической мастерской УСЛАГа сразу пришел ко мне на помощь, быстро обработав новую шестеренку. «Торникрофт» запустили, но полную паспортную нагрузку он все же не давал и даже для освещения только управления мощности у него не хватало. Снова пришлось двигатель разбирать и менять поршневые кольца. Когда они были заменены, я чуть не выдал себя, свое «блестящее» незнание двигателей внутреннего сгорания. Я чуть было не отдал распоряжение начать разборку дизеля и перейти на выработку электроэнергии с «Торникрофта». На мое счастье Гейфель задал мне вопрос, каким образом я думаю произвести обкатку «Торникрофта», которая необходима после смены колец. Я ему признался, что и понятия об этом не имею. Положение с обкаткой действительно было неразрешимым.
Когда на автомобильном двигателе меняют кольца, то вращение коленчатого вала двигателя, заставляющего скользить поршни в цилиндрах для притирки поршневых колец производится при включенном сцеплении от колес автомашины, которую возит исправная автомашина. А как создать вращение коленчатого вала в стационарно установленном двигателе? Только превратив связанную с ним ременной передачей динамо-машину в электромотор, напрашивался ответ. Но откуда взять электроэнергию для вращения электромотора? Дизель едва вытягивал несколько часов работы вечером и дополнительно его пускать днем для выработки электроэнергии для вращения электромотора было рискованно.
Вмешался Боролин и отдал распоряжение подавать электроэнергию на КЭС для вращения электромотора с электростанции «Вегеракша». Как я уже рассказывал электросети КЭС и электростанции «Вегеракша» смыкались на щите радиостанции Управления СЛАГа для двухстороннего питания последней. Для этого пришлось электромонтеру КЭС проделать большую работу по отключению на столбах абонентов КЭС на магистрали радиостанции. Это были квартиры вольнонаемных чекистов и на эту акцию Боролину удалось уломать начальника Управления.
Электроэнергия с «Вегеракши» поступала, но оказалось, что вследствие громадного расстояния и недостаточного сечения обеих магистралей, не рассчитанных на такую нагрузку при вращении электромотором «Торникрофта» падение напряжения в проводах доходило до 110 вольт, и только 110 вольт вместо 220-и доходило до КЭС. Выручило старинное устройство динамо-машины «Сименс-Шукерт» с двумя коллекторами, рассчитанными каждый на 110 вольт. Подключив к сети только один коллектор, я получил нормальную работу динамо-машины электромотором и в течение трех дней кольца оказались в «Торникрофте» притертыми. Опробованный «Торникрофт» дал полную мощность по паспорту 40 л.с. – около 30 кВт. Казалось, теперь можно было перейти на работу одним «Торникрофтом» взамен дизеля, который надо было разбирать для капремонта, хотя эта проволочка унесла еще декаду драгоценного времени, начинался август месяц, вечера делались заметно темнее, начинать работу КЭС приходилось все раньше, продолжительность работы в сутки возрастала.
Боролин все время был в курсе дел на КЭС. Ежедневные мои доклады ему в июле месяце были очень бледными и мучительными для меня, так как капремонт дизеля и не начинался. В особенности они были мучительными после возвращения Боролина из командировок, когда отсутствие сдвигов в капремонте за несколько дней выглядело еще рельефнее. Я разуверился окончательно в своих организаторских способностях, которые я проявлял на Соловках, возмещая с лихвой недостаточность своих технических знаний. Так долго продолжаться не могло, и я чувствовал надвигавшуюся на меня опасность, которую отвести от меня, пожалуй, не смог бы и сам Боролин.
Несколько лучше двигались дела по установке нового двигателя, двухтактного нефтяного восемнадцати сильного завода «Червоний двигун» в г. Херсоне. Заключенный прораб строительных работ лагпункта «Вегеракша» на другой же день после вручения ему служебной записки Боролина прислал заключенных землекопов, вырывших в машинном зале КЭС котлованы для фундаментов под двигатель и динамо-машину. Затем он лично явился на КЭС, со мной рассмотрел проект установки и прислал каменщиков с несколькими возами бута, кирпича, цемента и песка для возведения фундаментов. Прораб сам со старшим механиком разметил места установки фундаментных болтов. Производство таких работ я видел первый раз в жизни и все больше удивлялся Гейфелю, предложившего меня в заведующие. Зная занимаемую мною должность, прораб все время меня информировал о ходе работ и даже показал образцы цемента, предназначенного специально для заливки фундаментных болтов. Что я понимал в цементе!? Смотрел на преподнесенную мне на дощечке застывшую цементную лепешку и только мычал что-то одобрительное, не желая выдавать свою полную неосведомленность. К концу июля фундаментные болты были залиты цементом и тут только я узнал свойство цемента, по которому он «схватывался» 21 день, превращаясь из полужидкого месива в наитвердый камень. Не скажи мне мимоходом прораб о возможности установки двигателя через три недели, я бы в лучшем предстал бы полным профаном перед старшим механиком, отдав распоряжение о немедленной установке рамы двигателя на фундамент или еще хуже, так как при выполнении моего распоряжения все болты съехали бы с места, и всю работу надо было бы тогда начинать сначала, получить от 3-го отдела обвинение во «вредительстве» с добавлением срока заключения. Сборку «Червоного двигуна» пришлось отложить на последнюю декаду августа, а пуск его в лучшем случае на сентябрь.
С начала августа машинный персонал во главе со старшим механиком начал разборку дизеля, а КЭС давала электроэнергию с динамо-машины вращаемой бензиновым двигателем «Торникрофт». Вчера становились все темнее, запускать двигатель приходилось все раньше и продолжительность его работы в сутки возрастала с 7 и более часов. Двигатель работал на пределе, то и дело угрожая выходом из строя, а резерва у меня не было. К тому же его мощности не хватало на всех потребителей, которых частично приходилось временами выключать, что вызывало постоянные телефонные звонки с весьма неприятными разговорами, чреватыми для меня, как заведующего КЭС нежелательным последствиям. В эти недели очень мне помог заведующий электросетями СЛАГа Зиберт, весьма мне симпатизировавший еще на Соловках. Он метался вечерами по городу, снимая в часы пик зарядку аккумуляторов в Леспромхозе и на телефонной станции Управления СЛАГа. Вечера превращались для меня в кошмар из-за разговоров по телефону с абонентами. Приходилось выкручиваться, врать, обещать. На вранье долго не продержишься и я все более и более чувствовал, что «взялся» не за свое дело, которое мне и не по плечу.
Последняя декада августа прошла в монтаже «Червоного двигуна». Первое его опробование показало его непригодность для вращения динамо-машины, которая требовала постоянного числа оборотов для поддержания ровного света в электролампочках потребителей. Регулировка количества оборотов двигателя была очень упрощена путем пропуска вспрыскивания топлива в цилиндр, когда двигатель набирал большее количество, чем было задано, оборотов. Для работы на молотилках этот дефект его конструкции нисколько не отражался, так как там изменение количества оборотов не имело значения. Но как этот двигатель был запланирован для КЭС осталось для меня загадкой! При плановой системе снабжения такая ошибка ставила под сомнение не только технические знания планирующих органов, но и вообще всю систему планового хозяйства, которая и в других случаях была похожа на свою карикатуру.
Регулировка числа оборотов представляла собой наклонную планку по которой скользил толкатель форсунки. В зависимости от наклона планки количество пропусков можно увеличить и уменьшить. Регулировка еще осложнилась некомпетентностью старшего механика, не знавшего, как и я, нефтяных двигателей. Во время работы старший механик неотлучно находился у «Червоного двигуна» с гаечным ключом в руке и, вращая гайки наклонной плоскости, изменяя ее уклон, так регулировал скорость двигателя. При такой регулировке никакой автоматической регулировки не получалось, он запаздывал с вращением гаек и «Червоний двигун» то шел вразнос, так что стрелки вольтметра упирались до отказа на шкале, а у потребителей перегорали лампочки, то напряжение падало почти до 100 вольт и у потребителей лампочки горели в пол накала. Впоследствии этот дефект двигателя был устранен новым старшим механиком, имевшим до ареста подобный двигатель в собственном хозяйстве и знавший его превосходно. Закрепив все гайки он добился такой автоматической регулировки числа оборотов двигателя, что напряжение изменялось плавно в пределах 5%, что совершенно не было заметно потребителям.
Однако не только из-за несоответствия своему назначению «Червоний двигун» портил мне нервы и выматывал силы персонала, он имел еще и низкое качество деталей, что привело к ряду аварий с выключением света, и притом неоднократно.
Почти поголовный арест инженеров в промышленности по вздорным обвинениям во вредительстве, непомерные задания по выпуску продукции под угрозой репрессий привели к выпуску заводами в первых пятилетках продукции очень низкого качества, образцом которой служил попавший на КЭС злополучный «Червоний двигун». Изношенная музейная техника, выработанная капиталистами, после добросовестного ремонта служила безотказно, социалистическая же продукция, только что выпущенная с завода становилась сразу же негодной. Гнали количество, о качестве не заботились.
Еще при сборке «Червоного двигуна» обнаружился большой дефект в форсунке топливного насоса, который пришлось сделать заново. Деревенский кузнец, моторист Подопригора быстро отковал на переносном горне новую поковку, а в механической мастерской, по распоряжению Сотникова, вне всякой очереди, ее обточили и рассверлили.
В первые же дни, после нескольких часов работы «Червоного двигуна», не выдержали все три запальных шара (в том числе два входивших в комплект, как запасные). Они разорвались на осколки со звуком по силе равном взрыву ручной гранаты. От осколков никто не пострадал, так как запальный шар закрывался толстостенным чугунным кожухом, но в Управлении эти взрывы делали много переполоха. Первые два раза прибегал дежурный комендант и оперативник из 3-го отдела. Потом бегать им надоело. Причина непрочности шаров была не только в низком качестве чугуна, но и в дефектности отливки, при которой не была выдержана одинаковая толщина их стенок. Остро вставший вопрос о дальнейшей работе двигателя, ввиду отсутствия шаров, разрешил, всегда приходивший мне на помощь Боролин. Он быстро протолкнул мой заказ, данный по его указанию, в литейный цех Соловецкого судоремонтного завода, который все еще частично работал, несмотря на безжалостный вывоз его оборудования на материк. Запальные шары были изготовлены быстро в количестве нескольких десятков, но качество их тоже было невысоким. Первые несколько не выдерживали долгой работы, но затем случайно оказался один долговечный и взрывы на КЭС прекратились.
Вторым ненадежным узлом оказались коренные подшипники залитые не баббитом, а бонратом. Перегруженный сверх всяких норм «Червоний двигун» уже через несколько смен работы потерпел аварию. Выплавился коренной подшипник. Заливку его успели сделать в течение светлой части дня, но неудачно. Импортное олово было абсолютно дефицитным, поэтому баббит с большим содержанием олова совершенно исчез, его не было даже в распоряжении ОГПУ, и был заменен суррогатом – бонратом, в котором олово составляло лишь доли процента. В основном бонрат был сделан из свинца, имеющем низкую температуру плавления и большую мягкость. Неудивительно, что при малейшем нагреве подшипника, даже при нагрузке менее 100% такие подшипники выплавлялись. Таким бонратом пришлось залить выплавившийся подшипник, причем это оказалось весьма трудной и кропотливой работой, поскольку применение бонрата требовало по инструкции соблюдение «99 условий». Рационализатор сам явно сознавая негодность предложенного им рецепта бонрата, чтоб обезопасить себя от справедливых нареканий производственников и обезопасил себя, поместив в инструкцию столь много условий, чтобы можно было всегда обвинить жалующегося производственника на несоблюдение им одного из условий при заливке им подшипника. И в инструкции не был оговорен главный дефект бонрата – его усадка, что вызывало через несколько часов работы сначала стук в подшипнике, его нагревание и выплавление из подшипника бонрата, что и случилось с «Червоним двигуном» через несколько часов после заливки подшипника. С этого вечера у «Червоного двигуна» стали выплавляться подшипники и заводские и залитые на КЭС. Впоследствии с новым старшим механиком мы научились заливать подшипники с большим допуском, подкладывая под стягивающие болты прокладки, которые по мере усадки бонрата при работе двигателя вынимались. Однако и такой метод вызывал остановки двигателя, а, следовательно, и перерывы в подаче электроэнергии.
Ежевечернее выключение потребителей, перерывы в подаче света даже в Управление СЛАГа не могли пройти безнаказанными для меня. В психологии потребителей я был явно никуда не годным заведующим по сравнению с моим предшественником, который предпочитал эксплуатировать дизель на износ, чтобы работать без перерывов подачи электроэнергии и тем самым не иметь никаких неприятностей. Он досиживал свой срок и ему естественно было безразлично, что будет после него. А потребителю было важно, чтобы горела у него лампочка, остальное ему было неизвестно. А я «затеявший» капитальный ремонт должен был за все ответить. Никому не было дела по какой важной причине происходили перерывы в подаче электроэнергии. Боролин говорил мне: «Если на «Вегеракше» произойдет перерыв в подаче электроэнергии и станут станки на фабрике из-за чего последняя не выполнит плана пошива обмундирования, никто не обратит на это внимания, а вот если на КЭС произойдет перерыв и какой-нибудь чин посидит минуту при свечке, то поднимается скандал». Боролин был тысячу раз прав. После нескольких выключений света вследствие выплавления подшипников и разрывов запальных шаров на «Червоном двигуне», я был вызван на допрос в страшный 3-й отдел, о чем подробнее я расскажу после.
Разборка цилиндра дизеля показала выработку эллипса в стенках цилиндра до 9 мм. При расточке стенок дизеля на круг при такой выработке требовалось изготовление нового поршня соответственно большего диаметра. А это затягивало капитальный ремонт дизеля на неопределенное время, что было совершенно недопустимо в условиях быстро надвигавшихся длинных вечеров и неудовлетворительной работы «Червоного двигуна» и дорогостоящей и ненадежной работы «Торникрофта». Гейфель лично проверил мои замеры эллипса цилиндра и по приезде Боролина из очередной командировки доложили мы совместно ему выявившийся «сюрприз». Боролин лично проверил величину эллипса и принял решение отложить капремонт дизеля до следующего года, попытавшись восстановить компрессию, хотя бы частично, за счет смены поршневых колец. Так и сделали. При опробовании дизель запускался без бензинчика, но полную мощность развить не мог. Все же частично газы уходили через эллипс. К концу сентября на КЭС дизель снова вступил в эксплуатацию, «Червоний двигун» оказался несколько разгруженным. Переведенный с «Вегеракши» новый старший механик отрегулировал «Червоний двигун» и КЭС стала работать без аварий. Я вздохнул свободно, точно меня освободили из концлагеря. Но в голове в дополнении к седине, пробившейся еще после приговора, засеребрились новые нити, результат почти трехмесячной нервотрепки от аварий на КЭС.
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ГОРОДЕ КЕМИ
Заключенным в городе Кеми я стал не сразу по прибытии с Соловков, вернее не получил право проживания вне проволоки «Вегеракши». Почти четыре месяца на ночлег приходилось ходить в проволоку, где я спал в бараке с двойными сплошными нарами, на втором ярусе, съедаемый клопами, в скученности и духоте. Еще в середине июля, в первый день прибытия Боролина из командировки, когда он узнал о моем прибытии с Соловков и назначения меня заведующим КЭС, он немедленно написал служебную записку в общий отдел Управления СЛАГа о переводе меня на жительство в общежитие ответственных работников, помещавшееся в самом городе. Однако крепко сложившийся и в концлагерях бюрократический аппарат настолько медленно работал, что, несмотря на неоднократные личные и по телефону напоминания Боролина, меня никак не переводили с «Вегеракши». Вероятнее всего записка Боролина застряла в 3-м отделе Управления, от которого зависело определить мою благонадежность и дать разрешение на проживание в городе. И эта волокита длилась даже не потому, что я внушал какие-либо подозрения чину из 3-го отдела, от которого зависел мой перевод, иначе меня бы не пропустил 3-й отдел на заведывание КЭС, а просто потому что легче было положить бумажку, чем дать ей ход. И неизвестно сколько бы времени еще я прожил бы в проволоке на «Вегеракше» или вообще когда-нибудь последовал ответ от 3-го отдела, если бы не внезапное заболевание … начальника Управления СЛАГа.
Заболевшему ангиной начальнику концлагеря ночью после двух часов, когда уже не работала КЭС, стало очень плохо от наступившего удушья. Вызванный вольнонаемный врач установил в горле начальника большой нарыв, подлежащий немедленному вскрытию. По телефону ответственному дежурному по Управлению СЛАГа был дан приказ запустить КЭС, чтоб дать для операции начальствующего горла свет. Разбежавшийся помощник ответдежурного нашел замок на дверях КЭС и приказ не мог выполнить. На самом деле дежурившая смена явочным порядком, без ведома тюремщиков, ночевала в машинном зале, скрывая свое присутствие висячим замком снаружи и запираясь изнутри со стороны насосного отделения. Если это было бы известно, станцию запустили бы и без меня. Решили, что ключ от КЭС у заведующего и он должен распорядиться о запуске электростанции. Начались поиски меня. В общежитии ответработников, куда позвонил ответдежурный, естественно меня не оказалось. Предприняли поиски на «Вегеракше», но учет заключенных сосредоточенный в УРБ, куда на работу допускались лишь заключенные чекисты, бытовики и уголовники был на такой «высоте», что меня и там не нашли. Начальнику сделали операцию при собранных со всего Управления керосиновых лампах, но поиск меня по инерции продолжался.
Мирно проспав в бараке на «Вегеракше» ночь, зайдя к Ней по дороге на КЭС позавтракать, ничего не зная о случившемся, пройдя на электростанцию, которую уже открыла выспавшаяся смена, я застал в машинном зале заключенного коменданта зданий Управления бледного, с трясущейся губой. Я был с ним знаком, так как через несколько дней после назначения меня заведующим КЭС, я узнал еще об одной неприятности. Оказалось, что в функции зава КЭС входило и заведывание котельной центрального отопления обоих домов Управления. Пришлось и с этим смириться, хотя в водяном отоплении я понимал еще меньше, чем в двигателях. Пришлось не только своевременно запасать уголь, но и следить за работой кочегаров и, главное, техническим состоянием котла и отопительной системы. За температурой в помещениях следил комендант зданий, бегая сам в котельную и нажимая на кочегаров, чему я не препятствовал, а был только рад.
Оказалось, что начальник Управления, получив после операции возможность даже кричать, утром по телефону набросился на начальника ПРО Лозинского, почему заведующего КЭС нельзя найти? Лозинский вызвал Боролина, как главного механика, чтобы по ступенькам передать начальствующий разнос, хотя и в не такой резкой форме. Когда Лозинский выяснил о более чем трехмесячной волоките с моим переводом с «Вегеракши», он доложил об этом по телефону разгневанному начальству и тотчас же последовал грозный приказ немедленно оформить мой перевод, а коменданту зданий предоставить мне комнату в здании Управления и об исполнении доложить. Скромная просьба Боролина о переводе меня в общежитие ответственных работников, обернулась, чего никто не мог ожидать, поселением меня в здании Управления, вход в которое был по пропускам, проверяемым младшими командирами войск ОГПУ.
Отдельной комнаты в здании Управления не оказалось и комендант, боясь моих возражений, подобострастно предложил разделить комнату с кассиром финотдела, который тоже будучи заключенным был поселен при Управлении на случай срочной необходимости выдачи денег из кассы в течение круглых суток отъезжающим в командировки чекистам. Комендант так и заискивал передо мною, потому что боялся моего отказа поселиться вдвоем, а тогда он бы не выполнил приказа Начальника, который в гневе мог его из города Кеми или упрятать в проволоку или даже отослать на Соловки. Я согласился поселиться с кассиром вдвоем.
Это была не комната в общепринятом понятии, а отгороженное тесовой перегородкой с дверью часть промежуточной площадки на черной лестнице, выходившей во двор. Отгороженное пространство позволяло поставить два топчана и столик между ними у окна, которое было перегорожено по горизонтали полом нашей «комнаты» и доходило до крышки стола, так что свет падал под стол. Эта конура, в которой постеснялись поселить любые хозяева своего лакея, показалась мне раем после двойных сплошных нар в общем бараке, а главное комната была вне проволоки и в городе.
Мне уже был приготовлен топчан и даже с сенником. Последнее было верхом блаженства, поскольку уже четыре с половиной года я спал на своем тулупе. Никаких тюфяков заключенным не полагалось. В тот же день я перебрался с вещами с «Вегеракши» к великому неудовольствию кассира, лишившегося из-за меня единоличного пользования комнатой. Он был офицер Русской армии, воспитанный человек и очень скоро мы друг к другу привыкли, и если не было особенной дружбы, то и трений между нами никаких не возникало. Да и «стеснял» я его только приходя на ночь. Весь день и вечер я отсутствовал.
Проживая в комнате на двоих, имея для хождения по городу круглосуточный пропуск, столуясь вместе с Ней на Зональной станции, не связанный каким-либо нормированным рабочим днем, требующим высиживания в Управлении одиннадцать часов в сутки, сам себе хозяин, фактически я стал свободным человеком, как будто выпущенным из концлагеря. Но все это могло оказаться недолговечным, потому что я оставался заключенным, и по выполняемой мною работе в принудительном порядке и по невозможности отъезда из Кеми и по опасности снова очутиться в проволоке без выхода из нее или даже быть отправленным снова на Соловки, как это случилось с моим бывшим первым на Соловках непосредственным начальником, кладовщиком электропредприятий заключенным жандармским ротмистром Кудржицким. Встретились мы с ним на Кемперпункте, стоя в строю в разных этапах – я идущим с Соловков, он на Соловки.
Возможность более свободного хождения по городу я обеспечил себе еще до переезда на жительство в город, получив, примерно через месяц после назначения меня заведующим КЭС, право ношения гражданской одежды. Помня как строго преследовалось на Соловках подобная «вольность», я точно исполнял концлагерный устав и носил лагерное обмундирование, которое на улицах всем выдавало меня как заключенного. Впрочем и многие заключенные сотрудники Управления ходили в хорошо подогнанном по их фигуре лагерном обмундировании, а некоторые ходили в смешанном, не подвергаясь каким-либо неприятностям. Эти заключенные так примелькались населению города, взрослая часть которого, пожалуй, оказалась в меньшинстве против наводнивших Кемь заключенных, что на нас никто не обращал внимания. Тем не менее, я решил отделаться от личины заключенного и пошел к начальнику лагпункта «Вегеракша» Иваницкому, хотя мне очень не хотелось встречаться с этим кровавым чекистом. Представившись ему и показав свой пропуск, я указал ему на помехи в моей служебной деятельности создаваемой надетым на меня лагерным обмундированием, поскольку КЭС снабжает электроэнергией и вольные организации, как Леспромхоз и к тому времени временно подключенный Городской театр. Иваницкий быстро согласился со мной, что действительно я не могу иметь авторитета в этих организациях, являясь к ним в одежде заключенного, и поставил мне на пропуск штамп: «С правом ношения гражданской одежды». Реализовать это право оказалось затруднительно, потому что пальто у меня не было, а ходить в одной толстовке было холодно, да и дожди перепадали часто. Я решил перекрасить в черный цвет свой бушлат солдатского сукна, полученный мной по прибытии на Соловки и еще достаточно внешне приличный, и обратился в красильню при управленческом магазине для вольнонаемных. Мне отказали, как заключенному. Сначала отказал мне в перекраске и начальник отдела общего снабжения Управления СЛАГа заключенный Лапин, но затем, узнав из моего пропуска мою должность, немедленно отдал распоряжение об окраске мне бушлата, передав надзор за исполнением моего заказа своему помощнику, превосходному человеку, чеху по национальности, политзаключенному профессору математики Киевского университета. Незадачливый чех, мало смыслящий в житейских делах, как большинство больших ученых, он так восхитился порядками Советской власти, которые ему показали с рекламным искусством, когда он в 1925 году приехал на экскурсию в Киев, что в следующем году он со всей семьей эмигрировал из Чехословакии в СССР и стал профессором Киевского университета. Счастье было недолгое: во время коллективизации он был обвинен в подтасовке статистических цифр и выводе на их основании затухающей кривой колхозного производства. Профессор получил 10-летний срок заключения в концлагере по 58 статье. Он очень стеснялся назначенный на должность помощника начальника отдела общего снабжения и по телефону никогда не говорил свою должность, деликатно заменяя ее фразой: «Помощник Лапина».
Через несколько дней я уже щеголял по городу в черном бушлате не бросавшимся в глаза своим уныло-серым цветом присущим заключенной массе. Надо добавить о том, что за шестнадцать месяцев моего пребывания в городе Кеми я ни разу не был остановлен патрулем для проверки документов. То ли действительно я перестал быть похожим на заключенного, то ли оперативники 3-го отдела меня знали в лицо и не беспокоили меня.
Следующее радостное событие было свидание с матерью, почти совпавшее по времени с моим переводом на жительство в здание Управления. Всем трем дежурным вольнонаемным комендантам, сидевшим в вестибюле и пропускавшим в Управление только по пропускам, я настолько примелькался, что меня они пропускали без проверки пропуска, и когда приехала мать и обратилась к одному из них, дежурившему в эти часы, он немедленно сам пришел на КЭС и вызвал меня. Мы встретились с матерью тут же в вестибюле после трехгодичной разлуки, обусловленной запретом свиданий заключенным, находившимся на Соловках. Этот запрет почему-то был введен в конце 1930 года и очень тяжело отразился на нас обоих. С переброской меня в Кемь этот запрет отпал, мать получила разрешение в Москве в ОГПУ и нашей радости не было конца.
Встал вопрос, где нам поселиться? Чтобы запретить приезд родственников к заключенным в Кемь, и затруднить их поселение в городе Горсовет воспретил прописку в городе, а местные жители боялись сдавать комнаты внаем лицам, не имеющим разрешения на прописку. Выручил меня начальник городской пожарной команды заключенный офицер Русской армии Клодзинский, хорошо знавший меня на Соловках, когда мы оба были там. Он был вхож к председателю Горсовета без доклада и с заявлением провел меня к нему, предъявив меня, как заведующего КЭС. Председатель немедленно наложил резолюцию с разрешением прописки матери, и она отправилась искать комнату, которая была вскоре найдена, и я переехал в нее со всеми вещами. Мы так хорошо проводили с матерью время, хотя днем заботы об установке нового двигателя и повседневная работа по управлению КЭС отнимали много драгоценного времени. Я разрывался между КЭС, матерью и молниеносными свиданиями с Ней, видясь с матерью днем только урывками. Зато все вечера я не ходил на КЭС.
Так прожили мы с матерью неделю, на какое время она получила разрешение в ОГПУ на свидание со мной. Боролин, бывший всегда в курсе моих дел, напомнил мне перед истечением недели, чтобы я подал заявление на имя начальника концлагеря о продлении свидания на неделю. Боролин сам получил от начальника резолюцию о продолжении свидания еще на неделю. По истечении и этой недели Боролин повторил то же самое и мать смогла остаться еще на неделю. Просить о новом продлении у меня не хватило совести, тем более что и Боролин не напоминал и мать, пробыв три недели, уехала из Кеми.
Жилось матери на воле тяжело, значительно труднее чем даже мне в концлагере, принимая еще во внимание и постоянную тревогу за меня, которая, правда, несколько уменьшилась, когда она ознакомилась с моим положением в Кеми. В 1933 году ей жилось неизмеримо труднее, чем в первые годы моего заключения. С введением в начале 1933 года паспортной системы, которая в Малой Советской энциклопедии, вышедшей в двадцатых годах, характеризуется как «угнетение трудящихся государством» матери не выдали ленинградского паспорта и выслали из Ленинграда на «101-й километр». Это означало, что она лишена права жительства в крупных центрах страны и всех населенных пунктах, находящихся ближе к этим центрам чем 100 километров. Такая жесткая и несправедливая кара постигла ее только за то, что она была вдова исчезнувшего в застенках чека моего отца и мать политзаключенного. Мать поселилась в маленьком поселке Будогощь на Мурманской (теперь Кировской) железной дороге. Бесправная советская гражданка, она не могла найти никакой работы и проживала последние вещи, в то же время сберегая оставшиеся драгоценности для обмена в Торгсине (магазин для торговли с иностранцами на валюту, золото, серебро и драгоценные камни) на продукты, чтобы поддерживать меня посылками. Если бы не действенная моральная и материальная помощь, оказываемая ей другом детства моего отца, женой * профессора-астронома А.А. Иванова и им самим, неизвестно до какого бы предела она довела свой прожиточный минимум. Семья профессора сберегала в Ленинграде оставшиеся вещи и по выходным дням навещала ее в Будогощи, постепенно привозя эти вещи ей для реализации. Профессор А.А. Иванов (см. Большую Советскую энциклопедию т. 17, стр. 271, 2 изд.) с мировым именем мог позволить себе преодолеть страх общения с отверженной моей матерью. Сердце разрывалось о судьбе матери, но чем я мог помочь ей? Ознакомившись впоследствии лучше с порядками царившими в Кеми, я пришел к заключению о полной возможности нашего совместного проживания в городе Кеми без всякого разрешения концлагерного начальства.
Некоторые жены-подвижницы тех заключенных, которые по роду занимаемых ими должностей жили в городе в отдельных комнатах при своих производствах, приезжая на свидание, оставались в Кеми, поступали на работу и мужья ходили к ним на квартиру. Так особой заботой о своем муже поразила меня Анна Ивановна Энглези. Ее муж Александр Константинович Энглези бактериолог, ветеринарный врач по образованию, будучи политзаключенным работал в Кеми инспектором конского поголовья и жил в отдельной комнате при конном парке, размещенном в городе Кеми. Работая кухаркой в городской столовой, Анна Ивановна подкармливала мужа, которому было уже за 50 лет, и он имел десятилетний срок заключения по 58 статье, обвиненный в создании организации для насаждения в Москве эпидемий путем выпуска на волю подопытных зараженных разными болезнями крыс из лабораторий возглавляемого им научно-исследовательского института. Анна Ивановна следовала повсюду за своим мужем, когда его перебрасывали из концлагеря в концлагерь. Я встречал ее и в Кеми и на Медвежьей горе (теперь Медвежьегорск) в Карелии и в Рыбинске, когда Александр Константинович был переброшен в «Волголаг». Только благодаря заботам этой самоотверженной женщины престарелый «диверсант» мог протянуть свой десятилетний срок, который он отсидел «от звонка до звонка», как говорилось в концлагере, то есть весь срок полностью без единого дня скидки или зачета рабочих дней. На счастье у Энглези срок закончился до нападения немцев на нашу страну, всего за две недели, иначе его бы, как политзаключенного, не выпустили бы из концлагеря и он окончил бы свой земной путь в концлагере после неизвестно скольких дополнительных к сроку лет заключения. Эта поддержка его жены позволила дожить ему не только до глубокой старости, но и до его реабилитации в 1956 году.
Другая такая жена-подвижница была у Боролина. Как только с Соловков его перебросили в Кемь, она приехала к нему, уволившись с работы, и поступила на работу бухгалтером в Кемское отделение Государственного банка. Вначале начальник концлагеря, на которого Боролин имел очень большое влияние, несколько раз продлил ему свидание с женой, а затем разрешил ему «совместное проживание» с женой на частной квартире в г. Кеми. Это был единственный случай в Кеми легального проживания заключенного с женой до 1934 года. В 1934 году эта поблажка распространилась еще на несколько заключенных из концлагерной элиты, в особенности на Медвежьей горе. Убийство Кирова 1-го декабря 1934 года и в этом отношении ущемило права заключенных. В одну ночь, имевшие «совместное», как для краткости называлось разрешение заключенному проживать с женой на частной квартире в смежном с концлагерем населенном пункте, были оторваны от жен и загнаны в бараки, а жены высланы. Мне неизвестно подвергся ли Боролин этому ущемлению, но в июне 1936 года, когда Боролина перебрасывали в этапе с Медвежьей горы в Волголаг, где он был назначен главным инженером строительства Угличского гидроузла, его жена вместе со мной его провожала, хотя нас и не допустили в проволоку, но через проволоку мы все же успели с ним переговорить.
Через несколько дней после приезда матери на свидание со мной, хозяева квартиры пригласили нас на вечеринку посвященную отбытию хозяина-рыбака с артелью на осеннюю путину. В первый раз за четыре с половиной года я сидел за столом в кругу вольных людей, в домашней для них обстановке, не веря своим глазам. За годы заключения я общался только с заключенными и у меня уже выработался условный рефлекс при знакомстве с новым человеком мысленно сожалеть его, представляя мысленно себе его арест, допросы, ужас приговора, мучения этапа, долгие беспросветные годы заключения, повторяя то, что сам прошел и испытал. А эти рыбаки и их жены, не прошедшие такой жизненный путь, были для меня какими-то отдаленными, из нереального мира существами, мира в каком я когда-то очень давно, а порой казалось мне и никогда, вращался и в какой у меня не было надежды когда-нибудь вернуться. Взращенные морем, физически сильные, огрубевшие в постоянной борьбе с превратностями морской стихии, эти рыбаки показались мне похожими на несмышленых ребят, во многом очень наивных и совсем бесхитростных. По интеллигентности моей матери, хотя и бедно одетой, по моему плохонькому гражданскому одеянию, несмотря на галстух бабочкой, они без труда могли признать во мне заключенного, несмотря на это в течение всей вечеринки никто и намеком не обмолвился о моем положении. С этими простыми людьми я не испытывал никакого стеснения, чувствуя с их стороны полное доброжелательство и даже уважение. Разговор вертелся около их предстоящего промысла, но когда я вступал в разговор все умолкали и слушали меня, несмотря на то, что в рыбной ловле я был полнейший профан.
Стол был накрыт чрезвычайно богато не только с точки зрения изголодавшегося заключенного, но и по голодным годам начала тридцатых годов. Закуски и блюда были исключительно рыбные, грибные, овощные. Мяса у жителей Кеми не было. Зато было много водки, в результате чего все рыбаки перепились и женами постепенно были разведены по домам. Хозяина стащили волоком на кровать. Хозяйка, весьма хлебосольная, щедро угощавшая гостей тоже не пропустила случая приложиться к стаканчику. Тем не менее, она твердо держалась на ногах. Подавая гостю тарелку с едой она неизменно произносила «получайте», как привыкла сопровождать этим словечком подачу еды посетителям трактира, где она провела свою молодость подавальщицей. Пришлось и мне выпить немного водки за успех путины. Мой отказ от дальнейших возлияний крайне удивил присутствующих, которые никак не могли понять причины моего воздержания, очевидно подозревая, что в концлагере меня отучили пить или по выработавшейся у меня в концлагере привычки боюсь пить и находясь на воле.
Так первый раз после ареста, после перевода меня в другой мир, я побывал на вечеринке с вольными людьми, как бы вернувшись на волю. В Кеми мне еще раз пришлось побывать на вечеринке вольных людей, но уже в следующем году, о чем я расскажу позднее.
К безусловно радостным и положительным переживаниям связанным с моим пребыванием в Кеми являлась возможность постоянного общения с моей любимой. Порядок нашей «семейной» жизни в разрезе дня выглядел так: утром я приходил завтракать; когда я еще ночевал на «Вегеракше», я заходил по дороге идя на КЭС; когда я был переведен на жительство в здание Управления, я заходил сначала на КЭС, а потом шел завтракать. После завтрака задерживаться с Ней, кроме выходного дня, да и то только впоследствии, когда КЭС стала нормально работать, не приходилось. Днем я снова приходил на Зональную станцию обедать и если дела позволяли (Ее или мои), я задерживался у Нее до вечера, когда снова шел на КЭС. Постепенно, с налаживанием работы КЭС, мое присутствие на КЭС в вечерние часы без перерыва было не обязательно, и вечером я еще раз приходил к Ней ужинать. После ужина я редко задерживался у Нее, чтоб не рисковать Ее репутацией и вечером быть больше на электростанции. В 12 часов я ложился спать в своей комнатке. Наших двух пайков, посылок в равной мере посылаемых мне матерью, Ей дочерью и братом Ее покойного мужа, вполне хватало на наше совместное вполне достаточное питание, которое еще больше скрашивалось получением Ею разных овощей из Сельхоза, которому Она делала анализы молока на жирность, и покупкой мною на колхозном рынке, правда за большие деньги, белого хлеба и молока. С Соловков я привез около двухсот рублей, заработанных мною, как премиальные по должности заведующего электросетями, заведующего курсами электромонтеров и за преподавание на этих курсах, которое оплачивалось культурно-воспитательной частью по 60 копеек за час. В некоторые месяцы я получал до 80 рублей, что было неслыханно для самых высоких постов заключенной элиты.
Здесь уместно рассказать о качестве молока, продаваемого местными жителями. Когда я первый раз принес такое молоко, Она выразила сомнение, не купил ли я молока какого-либо морского млекопитающего. В голодные годы эта возможность не была исключена, так как ели, а, следовательно, продавали и покупали, все, что даже отдаленно приближалось к съедобному. Молоко пахло рыбой, но впоследствии мы к этому привыкли, а разгадку этого привкуса я нашел, когда мы поселились с матерью во время свидания на частной квартире и я присмотрелся к рациону коровы принадлежащей нашим хозяевам. В основном он состоял из мелкой … рыбы. Эти коровы, значительно меньше обыкновенных, безрогие, целый день лазили, как козы по скалам, едва находя какие-то стебли травы пробивающиеся в расщелинах, какие-либо луга отсутствовали и северным коровам сено и не снилось. Обилие в краю рыбы выработало веками у этих коров способность питаться рыбой. Неудивительно, что их молоко можно было принять за молоко морских млекопитающих.
Впервые за четыре с половиной года я стал питаться нормально, притом изготовленными искусными руками домашними блюдами. Но питательная и вкусная пища была для меня не главным. Главным было постоянное, ежедневное длительное общение с Ней.
В течение двух-трех месяцев после переброски меня в Кемь, на Зональную станцию перебросили постепенно почти весь состав Биосада, который на Соловках закрыли. Прибыли Вадул-Заде-Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы], Семичановский, А. С. А. и Л. Все меня знали по Соловкам, встретились по-дружески и никто не удивлялся моему постоянному пребыванию в стенах Зональной станции, а наши первые с ними встречи выглядели так, как будто на Зональной станции я старожил, а перебрасываемые с Соловков сотрудники, новички.
Приятным было и наше совместное с Ней путешествие в конце октября по железной дороге с 90-го пикета на Кемперпункт и в тот же день вечером обратно. Мы сидели в вагоне, как вольные люди, тесно прижавшись друг к другу. Двенадцать километров туда, двенадцать километров обратно были как свадебное путешествие. Необходимость Ее поездки на Кемперпункт было вызвано прибытием туда транзитом в этапе с Соловков Ее сестры, заключенного врача, работавшей на Соловках в Пушхозе. Сестра успела дать о себе знать, и Она срочно получила фиктивную командировку от заведующего Зональной станцией для поездки на Кемперпункт. Конечно мне очень хотелось ехать с Ней. Я тоже попросил у Гейфеля командировку на тот же день. Лозинский (Боролин был в командировке) охотно через Общий отдел выхлопотал для меня командировку от имени ПРО «для инспекции электростанции на Кемперпункте», как было сказано в бланке командировки. В действительности же я выдвинул другую причину необходимости моего командирования в разговоре с Гейфелем и Лозинским. Я предложил меня послать на перехват вывезенного с Соловков персонала электропредприятий, чтобы пополнить специалистами персоналы электростанций «Вегеракша», Мебельной фабрики и Кемской, а также телефонной станции Управления. Я всех знал в лицо и оказался наиболее подходящим лицом для выполнения этого поручения.
И Ее сестра и наши специалисты с электропредприятий в конце октября, начале ноября 1933 года в числе огромных этапов были вывезены с Соловков. Была произведена полная эвакуация заключенных с Соловецких островов в пожарном порядке. Этапы гнали с такой скоростью, точно Соловкам угрожала высадка иностранного десанта. Суда концлагерной флотилии ходили взад и вперед без остановки. Одновременно было эвакуировано все оборудование еще работавших на Соловках предприятий, которые были полностью закрыты. Оставлены были только электростанция и радиостанция.
Кемперпункт оказался забит до пределов прибывающими этапами. Не только бараки, но и вся территория в проволоке была забита заключенными. Несколько сот заключенных разместили вне проволоки под надзором редкого оцепления из солдат ВОХРа и войск ОГПУ. Заключенные скученно сидели на земле на камнях, напоминая большой цыганский табор, только без детей. Тюремщики не подготовили Кемперпункт к приему трех тысяч заключенных. О горячей пище для всех нечего было и думать, не хватало не только кипятку, но и сырой пресной воды. Санобработку не успевали делать. Повторялась история наплыва этапов на Соловки осенью 1929 года, когда это скопление заключенных под открытым небом и в скученных землянках и бараках привела к эпидемии сыпного тифа, унесшего за два месяца восемь тысяч жизней. К счастью осенью 1933 года это на Кемперпунке не повторилось. У заключенных, несмотря на лишения, был бодрый вид от сознания, что они избавились от Соловков, от режима острова пыток и смерти. Видя в какое положение попали соловчане, я еще раз подумал, как вовремя меня вытащил Боролин с Соловков и я не испытал при переброске меня тех мучений, которые выпали на долю вывозимых теперь на материк заключенных и за проволокой ворота Кемперпункта, так всегда охраняемых, оказались распахнутыми настежь и мы с Ней без всякой проверки документов очень легко смешались с массой заключенных. Но совсем не так легко в этом цыганском таборе было отыскать Ее сестру. Все же мы врача отыскали. Я повидался с Ее сестрой ровно столько времени, сколько требовало приличие, и стал разыскивать персонал электропредприятий. Очень трогательная встреча произошла с моим другом Н., которому я передал заведывание электросетями на Соловках при моей переброске на материк. Больше я никого не нашел. И его одного и то не смогли вырвать из этапа. Я вечером того же дня доложил о Н. Гейфелю, но пока вернулся из командировки Боролин, Н. уже угнали в этапе на Белбалтлаг и впоследствии мы друг друга там разыскали по телефону, но видеться друг с другом нам так больше и не пришлось.
Чем же объяснить столь быструю эвакуацию заключенных с Соловецких островов? Нет, не ликвидацией на них концлагеря. Концлагерь остался. Был сохранен и номер отделения лагеря «четвертое», но последовало переименование его приказом спецотдела ОГПУ в «Соловецкое отделение специального назначения», сокращенно «СОСНА». Было экзотическое наименование «СЛОН» (Соловецкий лагерь особого назначения), стало вполне соответствующее северной природе понятие «СОСНА» и изменилось назначение отделения концлагеря для содержания в нем «особо важных государственных преступников». На Соловках был введен еще более жесткий режим превративший Соловецкий Кремль в тюрьму с одиночными камерами для заключенных, не выводившихся на работу, а только на краткую прогулку в огороженных участках внутри Кремля и находящихся на голодном пайке. Персонал электростанции и радиостанции был заменен исключительно военнослужащими из технических подразделений войск ОГПУ, а внутри тюремная обслуга сформирована из вольнонаемных тюремщиков. Чтобы не было никаких контактов с заключенными плававшими на судах концлагерной флотилии, разгрузка приходивших на Соловки пароходов производилась под усиленной охраной войск ОГПУ и затем суда немедленно отходили на рейд. Ни одного слуха не могло теперь просочиться с острова. Последующие события показали для кого была подготовлена Соловецкая тюрьма, кто были эти особо важные государственные преступники.
К 1933 году абсолютная власть над страной Сталина уже несколько лет была совершившимся фактом. Результаты слабой попытки выступления оппозиции, возглавляемой Зиновьевым и Каменевым на Дворцовой площади в Ленинграде в 1927 году только подтвердили это. Направленные Сталиным с 1928 года репрессии ОГПУ против троцкистской оппозиции бесповоротно укрепили его позиции в коммунистической партии и стране. И все же Сталин, при его подозрительности, стал готовить расправу над преданной ему верхушкой партии и старыми кадрами большевиков, помнивших годы безвестности Сталина и потому подчинявшиеся, как ему казалось, только из страха. В расправе над самими собой объективно помогли Сталину сами будущие жертвы из высших партийных кадров в своей мышиной возне вокруг тепленьких местечек, в желании подъема по иерархической партийной и государственной лестнице поближе к Сталину. Отталкивая друг друга, они непрестанно поднимались, как бы по эскалатору и, достигнув высшей точки подъема у ножек сталинского трона, низвергались в бездну небытия, а на их места поднимались все новые и новые коммунисты, также методично сталкиваемые тем же эскалатором Сталина в бездну. До XVII партсъезда это падение не означало физической смерти, падение было на Соловки. Физическая расправа, расстрел, представителей старых кадров большевиков началась позже, когда при голосовании на XVII партсъезде Киров получил больше голосов чем Сталин и тем самым было подтверждено для Сталина его подозрения в отношении старых большевиков.
Контингент заключенных СОСНЫ составили также остатки, оказавшихся еще в живых после 10-15 лет заключения, политических партий социал-демократов-меньшевиков, социалистов-революционеров и анархистов, содержавшихся в политизоляторе во Владимире и северо-восточных областях России. Политизоляторы были закрыты. Фамилии заключенных СОСНЫ были строго засекречены, некоторых из них привозили в Кемь в отдельных купе мягких вагонов, а на 90-й пикет для отправки на Соловецкий остров их проводили через город в спущенных накомарниках, чтобы не видно было лица. Вели поодиночке под конвоем пяти-шести солдат с командиром войск ОГПУ. Засекреченность фамилий узников СОСНЫ была так велика, что о них знали лишь в аппарате ОГПУ. Когда в 1934 году вновь назначенный Верховный прокурор СССР объезжал все концлагеря и поехал на Соловки, предварительно часть заключенных содержавшихся в СОСНЕ была вывезена, опять-таки в накомарниках на всех судах флотилии СЛАГа в море, чтобы об их существовании не узнал даже Верховный прокурор. Флотилия с заключенными СОСНЫ продрейфовала в море, пока не уехал с Соловков Верховный прокурор и затем этих узников снова водворили по их камерам в СОСНЕ. Мне известно, что среди этих «особо важных государственных преступников» был Радзевич, видный инженер из верхушки Промпартии, единственный из нее отказавшийся работать на своих палачей в ОПБ (Особое производственное бюро) ОГПУ, помещавшегося во Внутренней тюрьме в Москве на Лубянской (теперь Дзержинского) площади в доме №2. В ОПБ работали только заключенные видные ученые, инженеры всех специальностей. В СОСНЕ содержалась верхушка Трудовой крестьянской партии, расправа над которой была сделана втихую ОГПУ, так как на открытый «судебный» процесс, хотя и тщательно отрепетированный все же не решились. Был в СОСНЕ и вождь русской «фашистской» партии Дурново, молодой родственник министра Российской империи. В СОСНУ после убийства Кирова были отвезены Зиновьев и Каменев.
Не одними розами был выстлан путь моего пребывания в Кеми. Я уже рассказывал сколько нервов стоила мне установка и работа нового двигателя на КЭС, попытка выполнить приказ о капитальном ремонте дизеля и все неудовольствия абонентов КЭС, обрушивших на меня гром и молнии. Самой опасной из них был вызов меня на допрос в страшный 3-й отдел Управления. За все время пребывания на Соловках мне посчастливилось ни разу не быть вызванным в это устрашающее учреждение карательной системы концлагерей ни по политическому, ни по производственному обвинению. А тут в Кеми пришлось идти туда с тяжелым сердцем без всякой надежды на благоприятный исход. Вызов был по телефону в самый разгар напряженной вечерней работы КЭС в октябре месяце. Зная по горькому опыту моего безвинного заключения в концлагерь, явившегося следствием царившего беззакония и произвола, а потому не питая надежды вернуться из 3-го отдела, я отдал кошелек с деньгами мотористу Костенко с просьбой передать его Ей. Ее он знал в лицо, потому что бывая по делам в Сельхозотделе Управления, Она заходила ко мне на КЭС. Костенко был высоко порядочный человек, на которого я мог вполне положиться.
Вызвавший меня следователь 3-го отдела был заключенным, весьма неприятного вида, обрюзгший, лысый, смотревший мимо меня, куда-то в сторону. Назвав работу КЭС безобразной, перейдя на крик, он стал обвинять всецело меня, грозя дополнительным сроком заключения за мою «вредительскую» работу. Он явно ничего не понимал в технике, что было для меня опасно. В то же время эта техническая безграмотность могла мне помочь вследствие слабой технической аргументации с его стороны при построении моего обвинения. Чем больше он распалялся, крича на меня, тем более он не мог привести ни одного случая хотя бы простой моей оплошности. Я понял, что крик и происходит только из-за сознания им собственной своей беспомощности предъявить мне конкретное обвинение. Когда следователь выдохся, он уже спокойно дал мне несколько чистых листов бумаги и, указав на свободный столик, приказал сейчас же написать объяснение о причинах перерывов в снабжении электроэнергией Управления. Память у меня была хорошая и я, несмотря на страх, точно изложил с указанием дат и длительности времени каждого перерыва в работе КЭС. На каждый перерыв у меня нашлось объяснение причины с главным упором на отсутствие баббита, который вынужденно заменяется суррогатом – бонратом для заливки подшипников. Объяснение я растянул на несколько листов, сопровождая их пространным объяснением всех работ по устранению каждой аварии, пересыпая изложение большим количеством технических терминов, которыми я уже овладел к этому времени. Я подал следователю объяснение, которое он не дочитал и на первой странице, остальные страницы он только полистал, поворчал, что подшипники выплавлялись, и положил все к себе в стол. Он явно не знал какое заключение сделать из моего объяснения, которое сам он не мог осилить по своему техническому невежеству. Подумав, следователь сказал уже обращаясь ко мне на «Вы»: «Идите, если надо будет вызову». Я спускался с третьего этажа на крыльях, которое мне придало словечко «если».
Конец фразы был сказан явно для острастки, а дела на меня заводить следователь так и не решился. Персонал КЭС с неподдельной радостью встретил меня «живым и здоровым». Костенко при возвращении мне кошелька прослезился. Ей, чтобы Ее не волновать, я ничего не сказал о вызове меня в 3-й отдел.
Другим неприятным следствием перерывов в снабжении электроэнергией явилось лишение меня звания «ударника», а, следовательно, и ударного зачета рабочих дней (3 дня срока за отсиженные в концлагере 2 календарных дня) и премиальных денег и премиальной продуктовой карточки на IV квартал 1933 года. Собравшийся на заседание в начале октября для подведения итого работы предприятий СЛАГа за III квартал Штаб социалистического соревнования обсудил доклад секретаря Штаба заключенного Ломовоского и работу КЭС. Этот еврей Ломовский, бывший торгпред СССР во Франции положил себе в карман один миллион золотых рублей на заказах французским заводам военных самолетов для СССР, он получил десять лет заключения, которые с первых же дней стал отбывать на тепленьком местечке в городе Кеми, и не понюхав общих (физических) работ. Как ни выгораживали меня члены Штаба Лозинский и Боролин, как ни старался я оправдаться, Ломовский двигая от нервности верхней губой с черными английскими усиками, которые ходили, как маятник, то вправо, то влево, под его крючковатым носом, настаивал на неудовлетворительной оценке моей работы и председатель Штаба, начальник Культурно-воспитательного отдела Управления, вольнонаемный чекист, взяв сторону Ломовского, лишил меня звания ударника. Аттестационная комиссия через несколько дней сделала мне зачет за III квартал из расчета 4 дня за три отсиженных календарных. Я потерял на зачете 15 дней сокращения срока. Кажется немного по сравнению с полученным мною сроком в десять лет, но потеря этих пятнадцати дней могли стоить мне и жизни, так как каждый день в течение срока для заключенного может стать роковым.
При подведении итогов работы за IV квартал за хорошую работу КЭС я был восстановлен штабом соцсоревнования в звании ударника и за IV квартал получил, как получал до этого на Соловках, ударный зачет три за два.
Неприятным повседневным занятием было наведение элементарного порядка на КЭС, как с чисто внешней стороны в машинном зале, так и в области поднятия производственной дисциплины, которую мне довольно быстро удалось сделать высокой и главное сознательной без всякого насилия над кем-либо из подчиненных мне заключенных. Меньше чем через три месяца я мог абсолютно спокойно положиться на персонал КЭС без всякой последующей проверки исполнения даваемых мною распоряжений. Персонал выполнял мои указания безоговорочно, в то же время сознавая, что невыполнение моих указаний или отразится на мне, а к тому времени я овладел их сердцами полностью и видел от них только добро. Добро и я им делал, иногда даже рискуя каким-либо выговором, стараясь как можно больше облегчить им бремя возложенного на них заключением. В нарушение лагерного устава и правил эксплуатации электростанция, я молчаливо согласился с имевшим место до меня превращением на ночь машинного зала КЭС в ночлежку для отдежурившего и дежурного персонала, только приказав на день убирать топчаны, а кошму, служившую тюфяками, возвращать на противопожарный стенд.
Кульминационным пунктом беспорядка в машинном зале был период рытья котлованов и кладки фундаментов под новый двигатель и приводимую им в движение динамо-машины. Строители мусор не убирали, а машинной команде, занятой под водительством старшего механика ремонтом горсоветовской машины было «некогда» и я никак не мог добиться приведения в порядок машинного зала. К тому же по времени этот беспорядок совпал с приездом к освобождающемуся старшему механику его жены с ребенком. Последних старший механик поселил в машинном зале, придав ему вид зала ожидания узловой станции с малым количеством поездов, где пассажиры устраиваются по-домашнему на несколько суток. Узлы с домашними вещами, игрушки ребенка, кастрюли на столе дежурного у распределительного щита заслонили машины, окончательно исказив целевое назначение помещения. Мне стоило большого труда уговорить старшего механика подыскать в городе комнату, в которую только через две недели перебралась его семья и он сам, закончивши срок заключения и оставшись работать вольнонаемным старшим механиком КЭС еще около двух месяцев, когда его сократили и Боролин дал мне на КЭС заключенного старшего механика с электростанции «Вегеракша».
С выездом из машинного зала семьи старшего механика, я по-настоящему принялся за создание внешнего облика машинного зала. Привыкши к чистоте машинного зала Соловецкой электростанции, где все блестело, как в машинных отделениях военного корабля (сказывалось руководство флотских офицеров-инженеров-механиков и электриков), плиточный пол был всегда чист, малейшие брызги масла немедленно подтирались, я был удручен грязью царившей на КЭС. Промасленный годами нефтью и маслом асфальтированный пол был черным и, не отражая от себя света, темнил все помещение. Ежедневной мойкой пола теплой водой с керосином мне удалось добиться значительного просветления пола и тогда каждое пятно от разлитого или разбрызганного машинного масло стало выделяться и мне стоило легче заставить персонал убирать немедленно такие пятна, чего раньше не делалось. Заставил я также, по-морски, надраить до блеска поручни ограждений ременных передач и лесенки дизеля, медные части рубильников на распределительном щите и шины за щитом, промыть окна. Когда в конце года на КЭС нагрянул какой-то инспектор из ГУЛАГа в форме ОГПУ, но без знаков различия, по-видимому, техник по образованию, он даже похвалил меня за чистоту. Хорошо, что он не нагрянул несколькими месяцами раньше, в особенности в период проживания старшего механика с семьей в машинном зале, ох и заработал бы я, в лучшем случае, карцер на многие сутки!
Неприятной для меня была и допущенная мною, в первые же дни моего заведывания, ошибка в отношении персонала, потом мною исправленная. От еще большей ошибки меня уберег казачий офицер, привязавшийся ко мне по-отцовски почти с первых же дней моего назначения на КЭС. Он вел всю канцелярскую работу по совместительству с основными обязанностями дежурного у распределительного щита. Он мне дал на подпись список персонала КЭС на получение месячных премиальных денег и продуктовых премиальных карточек. В ведомости против каждой фамилии были выставлены проценты перевыполнения норм выработки 120, 130, 140 и даже 155, против фамилии казаха Кузгуша. Я был очень удивлен не только разницей в процентах выработки, но и самым фактом перевыработки норм. О каких нормах могла идти речь, когда на электростанции для каждого в отдельности не может быть норм, а только время рабочей смены, к тому же КЭС работала летом не полную смену, а персонала хватало на две смены? Я попал в затруднительное положение. Я заартачился и отказался подписать. Тогда казачий офицер очень мягко стал меня уговаривать, указав на невозможность лишать моих подчиненных премий, которые до моего назначения ежемесячно их получали. Я это и сам понимал и не только потому, что это сразу восстановило бы весь персонал против меня, но главным образом потому, что эти премии до некоторой степени улучшали нищенское существование заключенных. Но с другой стороны, мало-мальски разбирающийся в организации труда электростанции ревизор сразу же вывел бы меня на чистую воду, и я понес бы наказание за подписание фиктивного денежного документа, а Финотдел остался бы в стороне. Я понял, что надо рискнуть. Кстати сказать, никто не задумался никогда над буквой инструкции о премиальных деньгах заключенным и по таким ведомостям каждый месяц и впоследствии персонал электростанций, а не только КЭС, получал премиальные и для всех заведующих, в том числе и для меня, все сошло гладко.
Однако я допустил другую ошибку. Справедливость во мне возмутилась и я уравнял всем проценты выработки, считая, что есть на КЭС любимчики бывшего заведующего, в особенности Кузгуш, которому писалось 155%. Я не знал о договоренности между собой машинной команды, которые все добровольно отказывались от нескольких процентов своей «выработки» в пользу Кузгуша, который будучи физически очень сильным за всю команду ездил один каждый раз за моторным топливом и машинным маслом на Нефтебазу, выполняя обязанности и агента по снабжению, которого в штате КЭС не было, и грузчика. Как только Кузгуш получил премиальные наравне с остальными, он сразу отказался бессменно ездить за нефтепродуктами, и машинной команде пришлось теперь ездить всем по очереди. Эти «сменные» агенты доставили и мне хлопот, не зная как оформляются документы, они теряли время и ставили на грань риска остановку КЭС из-за отсутствия топлива. Приходилось мне самому ездить на Нефтебазу и оформлять документы, а также заботиться лично о конном транспорте. Грузить на подводы и разгружать тяжелые бочки особенно непосильно было физически слабому пожилому мотористу Костенко.
После двух месяцев такой доставки топлива, в течение которых, как потом выяснилось, каждый мой подчиненный стеснялся поправить своего начальника, а когда они ближе меня узнали, Костенко в очень деликатной форме попросил меня освободить его от доставки топлива, раскрыв тайну «155% выработки» Кузгуша. Я немедленно исправил свою ошибку к всеобщему удовольствию машинной команды и Кузгуш бесперебойно обеспечивал, освободив и меня от хлопот, КЭС с этого времени топливом и маслами.
Последний месяц 1933 года прошел для меня спокойно в дружной работе персонала КЭС без всяких аварий и перерывов в снабжении электроэнергией, в укреплении дружбы между мной и моими подчиненными, в которых я всегда видел своих товарищей по несчастью, а не только подчиненных мне людей.
Наступал новый год, который заключенные, даже из элиты не смели встречать. В канун нового года мы с Ней даже пораньше поужинали, чтобы мне уйти с Зональной станции пораньше, предвидя повышение так называемой бдительности чекистов в этот вечер, могущую вылиться в посылке большего количества патрулей и оперативников 3-го отдела с целью выявления встречающих Новый год группами заключенных. Такой патруль мог заглянуть и на Зональную станцию, где обнаруживание моего присутствия могло оказаться трагичным для нас обоих. За несколько часов до наступления Нового года мы поздравили друг друга, пожелав друг другу такого же счастья, как мы испытали с Ней в уходящем и освобождения из концлагеря в наступающем. Последнее мы сами чувствовали было несбыточным, и я ушел от Нее.
РАБОТА НА КЭС
Работа на КЭС, как и в конце 1933 года, в новом году продолжалась нормально. Хорошо слаженный коллектив КЭС работал так четко, так хорошо все знали свои обязанности, что мне оставалось только ничего не делать, все шло без моего вмешательства. Гейфель, несмотря на аварии, имевшие место на КЭС не терял веры в мои способности, а теперь, когда электростанция работала хорошо, весь сиял и всем говорил: «Вот какого заведующего я рекомендовал»! Доброжелательно мне улыбался и Лозинский, и Боролин, в редкие дни пребывания в Кеми, был также ко мне расположен, как и раньше. Важной работой, которую предстояло провести с наступлением белых ночей, был капитальный ремонт дизеля КЭС. Я занялся подготовкой к нему, одновременно проработав несколько учебников по двигателям внутреннего сгорания, в частности по дизелям.
Как я уже рассказывал, выработка цилиндра была столь значительна, что при расточке его на круг необходимо было изготовить новый поршень большего, примерно на 20 мм, диаметра. Замеры эллипса цилиндра у меня были с прошлогодней разборки дизеля, и потому чертеж нового поршня для его заказа можно было заготовить заблаговременно. Я чувствовал теперь себя увереннее, чем в прошлом году и вплотную подготовкой капремонта занялся с марта месяца. Гейфель предоставил мне чертежный инструмент и стол в ПРО и я, заглядывая в учебник черчения, впервые в жизни изготовил технический чертеж детали машины. Гейфель чертеж проверил, подписал и заказ через отдел технического снабжения был дан в какие-то мощные механические мастерские, имевшие литейный цех, Белбалтлага. Поршень отлили быстро, и я успокоился, хотя, как оказалось впоследствии, я рано почил на лаврах. Старший механик разобрал «Торникрофт», основательно проверил все его узлы, чтоб он не подвел нас, когда возьмет на себя, хотя и не полностью, нагрузку дизеля при разборке последнего на ремонт. Ранний рассвет позволил перейти на работу КЭС только в вечернюю смену с 1-го апреля, а к 1-у мая продолжительность вечерней смены настолько сократилась, что можно было поручить ее вместо дизеля «Торникрофту». Дата, начало первой декады мая, остановки и разборки дизеля у меня уже была согласована с Боролиным.
И опять график капремонта оказался сорванным, на этот раз стихийным бедствием, наводнением. За несколько дней до наводнения, когда начался ледоход на реке Кеми, большая опасность угрожала деревянному мосту на сваях через проток реки, разъединяющей две части города. Начальнику городской пожарной команды заключенному офицеру Русской армии Клодзинскому чекисты доверили взрывчатку и он с одним политзаключенным морским офицером-минером и своими пожарниками в течение нескольких дней подрывал лед в протоке и мост спас. Однако ниже города Кеми на главном русле реки образовался такой затор льда, что река Кемь вышла из берегов. Первые дни подъем воды у города был незначительным и медленным, но затем с полудня одного дня вода начала быстро прибывать и подступать к самой КЭС, хотя здание было в метрах 50 от берега, притом довольно высокого. Чтобы спасти КЭС от затопления машинная команда, забаррикадировала вход со стороны реки мешками с песком, мешки были положены и снаружи на подоконник окна выходившего к реке. Одновременно заключенные сотрудники Управления, рангом пониже, были выгнаны на эвакуацию продовольственных и товарных складов, находившихся и под зданием Управления. Продовольствие и другие товары сложили на паперти храма, стоявшего значительно выше по рельефу местности напротив входа в здание Управления.
Эвакуированные ценности оцепил взвод войск ОГПУ. К семи часам вечера, когда мы запустили дизель и дали свет, вода поднялась выше подоконника окна обращенного к реке и стала просачиваться внутрь насосной, откуда струйками потекла и в машинный зал. Насос остановили, дверь из насосной в машинный зал захлопнули и завалили запасными мешками с песком. Однако меньше чем через полчаса вода атаковала нас из-под земли, одновременно в каналах, где были проложены кабели от динамо-машин к распределительному щиту и в выемке пола для маховика дизеля, который стал шлепать по воде, обдавая машинный зал фонтаном брызг. Подмоченная в каналах изоляция кабелей, пропитавшаяся влагой, неминуемо дала бы пробой короткого замыкания, что вывело бы из строя динамо-машины. Вода попадавшая от маховика дизеля на распределительный щит повела бы к аналогичной аварии. Я по телефону доложил Боролину о создавшейся ситуации. Боролин всегда все схватывал на лету, объяснять ему не надо было, и так же быстро принимал верные решения. «Сейчас я свяжусь с начальникам управления, - сказал он, - чтобы получить разрешение на прекращение работы станции».
Немного раньше начало затоплять «Вегеракшу» и все начальство выехало туда, вызвав дивизион войск ОГПУ не для борьбы с наводнением, а для усмирения тонущих в проволоке заключенных. Время шло, каждая секунда была дорога, а от Боролина звонка не было. Я распорядился запустить «Торникрофт» и остановить дизель, у которого вода была уже не только в выемке, но и на полу, затопляя постепенно весь машинный зал. Даже при полном затоплении станции двигатели не пострадали бы, но подмоченная изоляция обмотки якоря и полюсов динамо-машины надолго вывела бы их из строя, пока не удалось бы просушить изоляцию. Но вытащить динамо-машины из машинного зала на незатопляемую территорию персоналу КЭС было не под силу ввиду отсутствия на КЭС механизации такелажных работ. И это предвидел Боролин. Когда раздался от него долгожданный звонок (начальника не так-то легко было разыскать по телефону в общей суматохе) с разрешением остановить КЭС, Боролин сообщил: «Сейчас к Вам подъедут пожарники вытаскивать динамо, подготовьте их к эвакуации». Немедленно двигатели были остановлены, мы все бросились к динамо-машинам, электрики отсоединили корпуса от фундаментов. Кузгуш настлал доски через порог (пол станции на ступеньку был ниже уровня почвы со стороны здания Управления). В это время вода в машинном зале доходила нам по щиколотку, и мы все шлепали по ледяной воде. Тотчас же на двух ходах во главе с Клодзинским примчались пожарники с канатами, захватили ими поочередно динамо-машины и по доскам выволокли их за Собор, где было значительно выше и там они были в безопасности.
Старожилы Кеми потом мне говорили, что они помнят только одно еще большее наводнение, когда на паперти плескались волны. Как бездомные пострадавшие от наводнения с мокрыми ногами мы слонялись без дела, поочередно заглядывая через раскрытую дверь в машинный зал, где плавали доски и деревянная мебель. А вода все прибывала и отрезала кругом подход к КЭС. Наивысший подъем воды мы потом замерили по отметкам на стенах машинного зала, который был больше полуметра над уровнем пола.
Ночью никто не спал, а когда вода пошла на убыль, рано утром стали приводить все в порядок, прежде всего вычерпав воду из каналов с кабелями, чтобы скорее произвести сушку изоляции. На фундаменты динамо-машины мы поставили не спеша сами, передвигая их на вальках по доскам. Протерев от влаги «Червоний двигун», мы запустили его и присоединили непосредственно к клеммам вращаемой им динамо временную проволоку с электролампочками, опущенную в каналы с кабелями для их просушки. Лампочки давали много тепла и за сутки просушили изоляцию кабелей и каналы. Через двое суток КЭС заработала нормально.
Но все же не обошлось без помощи пожарников. По моей просьбе Клодзинский прислал помпу, которая откачала воду из котельной центрального отопления, которое еще очень было нужно, несмотря на май месяц. Еще долго вокруг здания, в котором помещалась КЭС, на почве лежали принесенные разливом льдины, которые постепенно растаяли.
Непосредственно за наводнением произошло событие, слухи о котором значительно раньше то всплывали, то затихали. Теперь это оказалось совершившимся фактом: СЛАГ присоединили к Белбалтлагу и этот объединенный концлагерь стал стыдливо называться «Беломорско-балтийский комбинат», сокращенно ББК с местонахождением Управления ББК на Медвежьей горе (теперь город Медвежьегорск). Кемь превратилась в центр Кемского отделения ББК. В здание управления СЛАГа переехало с «Вегеракши» управление Кемского отделения. «Вегеракша» стала отдельным лагерным пунктом, сокращенно ОЛП.
В большом зале управления, ввиду меньшей численности сотрудников частей, по сравнению с отделами стало значительно меньше столов. Ощущалась пустота не только из-за увеличения незанятой столами площади, для меня стало все пусто из-за отсутствия людей, к которым я привык, на которых я мог опереться. Быстро были переброшены в Управление ББК Боролин, ставший главным механиком ББК, Лозинский и Гейфель. Зиберт был уволен еще раньше по сокращению штатов. Эти перемены произошли в самый ответственный для меня момент начала капитального ремонта дизеля, когда могли понадобиться каждую минуту квалифицированный технический совет, форсирование авторитетом Боролина заказов для капремонта дизеля. За моей спиной не осталось никого.
Став главным механиком ББК Боролин настоял на учреждении в каждом отделении концлагеря на правах части управления отделения ЭМБ (Электромеханического бюро) ведающего работой электростанций и механических мастерских отделения, инспекцией всего механического оборудования производственных предприятий отделения. Начальником ЭМБ Кемского отделения был назначен недавно прибывший в концлагерь заключенный инженер-электрик Владимир Владимирович Русанов, чья фамилия в практике строительства электростанций была известна наравне с именами строителей Волховстроя Графтио и Днепрогэса Винтера. Русанов построил Витебскую ГРЭС, работавшую на торфе, за что был премирован грамотой ЦИК СССР. Высокоинтеллигентный образованный инженер в почтенном возрасте (в концлагерь он попал на седьмом десятке своей жизни), Русанов не был склонен к бродячей жизни и остался заведовать построенной им электростанцией. Это была его роковая ошибка, так как выдавшееся мокрое лето не позволило с торфоразработок получать сухой торф в топки котлов ГРЭС. Пара не хватало и город Витебск два раза погружался в темноту. Немедленно Русанов был арестован ОГПУ по обвинению во вредительстве. Не помогла и грамота и Русанову постановлением ОГПУ по статье 58 пункт 7 (вредительство) был назначен срок заключения в концлагерь на десять лет. Запуганный до потери всяческого человеческого достоинства допросами, приговором, этапом, мягкий покорный Русанов предстал передо мною в качестве непосредственного начальника. Когда он немного отошел от пережитых ужасов, когда ему дали разрешение на совместное проживание с приехавшей к нему, очень милой и такого же возраста, женой на частной квартире и я иногда заходил к нему на дом, Владимир Владимирович предстал в совершенно другом свете. Он мог даже шутить, с юмором рассказывая о случаях из его долгой жизни. Но как только Русанов попадал в зал управления, он опять становился тем же раздавленным стариком, с выработавшимся у него отрицательным условным рефлексом к цвету кроваво-красных петлиц чекистов, при которых он терял дар речи. На такого начальника надеяться не приходилось, какой-либо защиты для меня он представлять не мог, его самого мне приходилось защищать.
Русанов очень привязался ко мне и впоследствии, когда я закончил капитальный ремонт дизеля, желая оградить меня от всяких неприятных неожиданностей при заведывании КЭС, решил перевести меня на вакантную должность в ЭМБ – инспектора, чтобы я всегда был с ним и иметь верного помощника (в ЭМБ весь штат состоял из начальника и инспектора). Мне совершенно не улыбалось высиживать за столом в помещении по одиннадцать часов в сутки, променять подвижную и полную свободы передвижения с ненормированным рабочим днем должность заведующего предприятием, особенно когда я столько времени и труда вложил в капитальный ремонт дизеля, где я был сам себе хозяин, на полученную роль неподвижно сидящего канцеляриста. Однако Русанов так настаивал, что мне просто неловко было ему отказать, чувствуя насколько он нуждался в постоянном общении со мной и с его точки зрения желает мне только добра. Я согласился. По Кемскому отделению согласно рапорту Русанова, был отдан приказ о моем назначении инспектором ЭМБ и переводом на мое место заведующего электростанцией «Вегеракша» заключенного инженера Катульского. Однако этот приказ так и не был выполнен никогда. Катульский не хотел заведовать электростанцией под носом у начальства, и я не стремился за канцелярский стол. По мягкости Русанов никак не мог заставить нас написать акт передачи, а у нас с Катульским все «не хватало времени» это сделать. Мое положение де-юре инспектором ЭМБ, де-факто заведующим КЭС так и протянулось до моей переброски на Медвежью гору в Управление ББК в октябре того же года. Этот пример лишний раз подтвердил мои наблюдения о все большем падении дисциплины в концлагерях (кроме СОСНЫ), когда нежизненные или, противоречащие насущным нуждам выживания заключенной массы, приказы начальства, даже спускаемые ГУЛАГом или спецотделом ОГПУ, оставались не выполненными, а жизнь, вопреки им, брала свое. Единственное в чем изменилось мое рабочее время, так это то, что попав в состав сотрудников управления отделения, меня вызывал Общий отдел на несения раз в три недели суточного дежурства по управлению. Ответственным дежурным назначался вольнонаемный или заключенный чекист, а помощником я. Ответственные дежурные днем мало находились на дежурстве, оставляя мне для вызова в случае особых происшествий, номер телефона, а ночь крепко спали на диване в комнате дежурств. С шести утра я принимал телефонограммы от ответственных дежурных лагерных пунктов о происшествиях на лагпункте за сутки и списочном составе заключенных лагпункта. Донесения начинались стереотипной фразой: «Происшествий не произошло», затем следовали цифры всего состава заключенных лагерного пункта и в том числе на работе и больных. Иногда добавлялась цифра совершивших побег, что для меня как-то не вязалось с заглавной фразой об отсутствии происшествий. В каждое мое дежурство было не менее одного сообщения о побеге одного или нескольких заключенных, уголовники бежали без стеснения.
Но надо вернуться к ремонту дизеля, который все же удалось начать с середины мая. С изъятием поршня и отделением цилиндра от станины начался первый этап ремонта. Для устранения эллипса в цилиндре его необходимо было расточить борштангой до круга и тогда уже по полученному новому диаметру цилиндра обтачивать заготовку поршня. Снова с бумажкой, подписанной на этот раз от Кемского отделения ББК, его начальником и Русановым я обратился по проторенному с прошлого года пути в мастерские Депо станции Кемь, где и получил борштангу. На этот раз мы использовали «Червоний двигун» запуская его в дневное время, чтобы иметь электроэнергию для мотора борштанги. Старший механик расточил цилиндр до нужных размеров, и мы взялись за поршень. И тут пришлось прибегнуть к услугам Депо, так как в кемских мастерских концлагеря токарный станок был мал для обточки поршня. Запасшись снова бумажкой, мы привезли поршень в мастерские Депо станции Кемь и встретили холодный прием. Хотя мы и все были заключенные, но, тем не менее, представители грозного учреждения – ББК ОГПУ и вдруг наш заказ не приняли, сославшись на отсутствие свободных токарей. После долгих переговоров нам предоставили свободный токарный станок, на котором старший механик сам начал обточку поршня.
К нашему ужасу уже после снятия первой стружки отливка оказалась браком. Многочисленные раковины прорезывали головку поршня, многие насквозь и некоторые таких размеров, что в них входил маленький палец. Установление брака отливки поршня задерживало капремонт на неопределенное время, надо было заказать новую отливку. После того как Русанов лично убедился в негодности отливки, он с тяжелым сердцем подписал составленную мною рекламацию, которую направили Боролину, как главному механику ББК.
Довольно скоро (чувствовалась забота Боролина) был прислан новый поршень, который снова пришлось самому старшему механику обтачивать в мастерских Депо. И новая отливка оказалась таким же браком, очевидно в литейном производстве ББК, где отливались для КЭС поршни, не хватало достаточного давления в форме для таких больших отливок, каким был поршень (диаметр 380 мм, высота более метра) и пресс не мог вытеснить из жидкого металла всех газов, которые и образовывали в застывшем металле раковины. Посылая новую рекламацию, я написал рапорт Боролину, в котором изложил вышеприведенные мои догадки в отношении причин брака и внес рационализаторское предложение, посоветовавшись с Русановым отливать поршень вниз головкой, поскольку в таком случае газы, по своей легкости сосредоточатся в рубашке поршня, где наличие их было еще терпимо. Мне было очень неловко писать этот рапорт Боролину, как бы «учить» его, моего учителя и благодетеля, но время подпирало, перспективы с такими отливками были мрачные, и я решился, стиснув зубы. Впоследствии как-то Боролин вспомнил об этом рапорте и улыбаясь сказал: «А ведь не зря я Вам дал толчок к самообразованию, Ваше рацпредложение мы применили».
Третий по счету поршень прибыл, старший механик снова его обточил в мастерских Депо, где мы уже стали своими людьми и где наши неудачи также близко принимал к сердцу, как и мы, персонал мастерских. В рубашке отливки раковин было хоть отбавляй, но в головке поршня, которая испытывает 64 атмосферы давления горючей смеси, а при взрыве ее еще и большее, ни одной раковины не было. Поршень можно было ставить, гора свалилась с плеч.
На этом мои волнения не кончились, а, пожалуй, еще больше увеличились, когда мы обнаружили более коварный дефект в другом узле дизеля. Пока мы возились с цилиндром и поршнями, был разобран дизель полностью: компрессорная система, снят маховик и шкив, разобраны коренные подшипники и снят вал. Вот на коленчатом валу на шейке в месте его опоры на средний коренной подшипник от кривошипа до места крепления маховика простиралась узкая полозка какого-то дефекта металла, похожая на трещину. Если бы это была действительно трещина, то это грозило при работе дизеля поломкой шейки коленчатого вала с отрывом маховика (о таких случаях я прочитал в учебнике). Такая катастрофа неминуемо повлекла бы разнос маховиком стены с обрушением здания, что повлекло бы получение мною еще раз обвинения по 58 статье пункт 8 (совершение террористического акта) и безусловно расстрел, если бы я предварительно сам не погиб под обломками здания.
Русанов осмотрел дефект вала, но ничего определенного не сказал. Несколько дней нажима на него тоже ничего не дали. Русанов боялся дать заключение о годности или негодности вала, взять на себя ответственность. Признать письменно вал годным, а в случае катастрофы с ним, Русанов ясно понимал, что ему, как уже однажды обвиненному во «вредительстве» не миновать расстрела, а с другой стороны признать вал негодным, значит не миновать гнева высшего начальства, так как новый вал надо было заказывать на Петрозаводском судостроительном заводе. Ближе не было металлообрабатывающего завода такой мощности, чтобы можно было изготовить коленчатый вал таких размеров, как у дизеля. Этот заказ стоил бы немалых денег ББК, начальник которого привык в своем хозяйстве все делать даровым трудом своих рабов. Кроме того изготовление нового вала затянуло бы капремонт дизеля на неопределенный срок. К тому же «дефектный» вал каким-нибудь экспертом мог быть признан годным и тогда Русанов, представши как перестраховщик, снова попал под тяжелую руку чекистов. И дело у нас не двигалось. Я подал Русанову официальный рапорт с просьбой заключения. Русанов послал радиограмму Боролину с просьбой лично осмотреть вал. Боролин ответил радиограммой: «Днями выеду». Время шло, Боролин не ехал, Русанов не решался. Работы с ремонтом дизеля было еще много, а продолжать его нельзя было, не поставив вал в подшипники. Я нервничал, Русанов и вала не заказывал и о сборке дизеля умалчивал. Персонал кроме дежурной смены шатался без дела.
Со старшим механиком мы снова внимательно осмотрели дефект вала, а затем очень закаленным шабером старший механик начал шаберить «трещину». Возился он несколько часов, потому что сталь на валу тоже оказалась очень твердой и все же «трещина» явно побледнела. Старший механик еще несколько часов шабрил вал и снова, еще более злополучная полоска не только побледнела, но и стала прерывистой. Мы вместе взвесили все и пришли к заключению о природе этого дефекта. Можно было предположить (но только предположить) наличие не трещины, а поверхностной ржавчины, которая могла произойти от небрежного хранения дизеля в разобранном виде до его установки на КЭС. Вызванный Русанов опять увильнул от ответа, не дав ни письменного, ни устного разрешения на установку вала.
Боролин не ехал, время шло. Мне все так надоело, что я решил рискнуть и взять, по молодости, ответственность на себя. Поставив Русанова в известность, я отдал распоряжение о сборке дизеля. К концу июня дизель был собран, на испытании присутствовал Русанов (Боролин так и не приехал). Дизель заработал, отдавая все свои 60 сил, временами неся перегрузку. «Торникрофт» был остановлен и остался как запасный на случай аварии с каким-нибудь из нефтяных двигателей. Я почувствовал себя еще раз так, как будто меня освободили из концлагеря.
В связи с капремонтом дизеля нельзя не упомянуть о трагикомическом случае происшедшим у меня с городской пожарной командой. По-видимому и в ней появилась расхлябанность. Согласованный мною с Клодзинским вопрос о прожигании глушителя и выхлопных труб дизеля не дошел до дежурившего пожарника и вызвал напрасный выезд пожарной команды на КЭС. Старший механик, совершенно справедливо считая, что в глушителе и выхлопных трубах дизеля за годы работы накопилось много осадков, предложил систему разобрать и в отдельности каждую деталь прожечь. В целях пожарной безопасности мы выбрали отмель на реке Кеми против КЭС, которая в часы отлива обнажалась и к которой доступ в это время по мелководью был осуществлен.
Масленщики вынесли на отмель колена труб и глушитель, внутренность их облили керосином и подожгли. Я позвонил в пожарную команду о начале прожигания труб на согласованном с начальником Клодзинским месте. Внутри труб и глушителя оказался такой слой засохшей копоти, что в воздух поднялись громадные столбы дыма, привлекшие внимание дежурного на каланче, давшего сигнал пожара. Пожарники примчались во главе с помощником Клодзинского, который поняв, что никакого пожара нет, набросился на меня, грозя карами от самого начальника Кемского отделения. Прибежали на «пожар» и оперативники из 3-й части. После объяснений и ссылки на согласованность «пожара» с Клодзинским, все успокоились. Клодзинский от своих слов не отперся, в это я был уверен, и инцидент был исчерпан.
С пуском дизеля в эксплуатацию мне стало совершенно нечего делать на КЭС, которая, к тому же, в эти летние месяцы работала всего несколько часов в сутки. Моими стараниями КЭС была приведена полностью в порядок, мощности ее теперь хватало на всех потребителей, дисциплина персонала была поднята на очень большую высоту, от меня больше ничего не требовалось, я мог спокойно отдыхать, заведывая таким предприятием.
И все же работа каждого предприятия не проходит все время гладко и порой требует энергичных мер вмешательства со стороны ответственного за работу предприятия. Так случилось и со мной в конце июля того же года, примерно через месяц после окончания капремонта дизеля, хотя мое вмешательство и не было административным.
Дежурный у распределительного щита, казачий офицер в связи с ограниченным временем работы КЭС летом и только вечером, все свободное время днем проводил на берегу одного малого протока реки Кеми на бывшем холерном кладбище, которое, по невежеству отцы города устроили во время эпидемии холеры на острове, вследствие чего промываемые речной водой холерные трупы обильно снабжали население холерными вибрионами и эпидемия продолжалась пока не вымерло почти все население города. На берегу протока, пользуясь солнечной погодой и довольно высокой температурой воздуха, казачий офицер за лето так загорел, что можно было подумать о его возвращении с Юга. Днем казачий офицер, очевидно, перегрелся на солнце и вечером на дежурстве чувствовал себя плохо. Хотя он ничего и не сказал, но по внешнему виду я определил его нездоровье и отпустил его, сев сам за распределительный щит. К полуночи в северной природе возникло небывалое, даже для середины лета, явление – гроза. Сначала были отдаленные редкие раскаты грома, потом все ближе и ближе. В это время нагрузка спала, был остановлен «Червоний двигун», старший механик ушел, а остальная машинная команда за исключением дежурного у дизеля масленщика Подопригора, завалилась спать на своих местах в машинном зале и насосной. Около часу ночи стрелки вольтметров уперлись до отказа, свет выключился и нас оглушил раскат грома. От перенапряжения в электросети происшедшего на очень большую величину вследствие разряда молнии на землю, шунтовая динамо-машина перестала вырабатывать электроэнергию, вследствие чего и потух свет. Освободившись от нагрузки дизель пошел в разнос. Подопригора растерялся и в темноте не уменьшил подачу топлива, чтобы умерить количество оборотов. Теперь и без трещины, о которой я тут же вспомнил, на таких оборотах мог переломиться коленчатый вал и маховик разрушил бы здание. Вопрос решился быстротой моих действий в темноте: что раньше случится: перекрою ли я кран топливного бачки дизеля или иссякнет прочность металла вала. Рискуя попасть в ременную передачу, на ощупь, я добрался до топливного бачка и перекрыл поступление его в цилиндр дизеля. Дизель стал сбавлять ход и остановился. Положение было спасено, но на утро у меня обнаружили достаточно вновь появившихся седых волос. Об этом происшествии никто из начальства не узнал. Поскольку это был второй час ночи, а нормально КЭС заканчивала работу в два часа, если кто и заметил, то решил, что это несколько раньше закончили работу.
Второй случай нарушивший нормальную работу КЭС был перерыв в снабжении двигателей водой.
Река Кемь была важным водным путем для сплава древесины с лесозаготовок концлагеря и лесхозов Карелии. После вскрытия реки молевым сплавом мимо города проносились десятки тысяч стволов на большой лесопильный завод «Кемперпункта» на Поповом острове и лесопильный завод «Кареллеса» на берегу реки Кеми, ниже города. С последним я хорошо был знаком, так как на нем работал электриком и тут же жил молодой заключенный украинец Корч, проданный концлагерем «Кареллесу». С Корчом мы были в приятельских отношениях еще с первых лет моего пребывания на Соловках, где он работал линейным электромонтером, и порой заглядывали друг к другу. Корч жил в отдельной хорошей комнате, получал на «Вегеракше» причитающийся ему сухой паек заключенного и 60 рублей премиальных денег. Лучшего ничего нельзя было придумать в таких условиях коротать срок в десять лет. Концлагерь за своего раба получал с «Кареллеса» 600 рублей в месяц.
Большое количество и неразделанной древесины шла на экспорт, прямо с воды грузимая на иностранные лесовозы, приходившие под всеми флагами на рейд Попова острова.
От долгого пребывания в воде, от трения о скалы Кемского водопада неокоренная древесина теряла часть коры, которая, в особенности после интенсивного весеннего сплава, засоряла воды реки и, намокнув, ложилась слоем на дно реки.
Учитывая действие морских приливов и отливов, распространявшихся вверх по реке до водопада, водозаборная труба от насоса КЭС, подававшего воду в напорный бак на чердаке здания Управления, была проложена по дну реки почти до ее середины, где заканчивалась предохранительной сеткой, страховавшей трубу от затягивания в нее посторонних предметов.
Как-то вечером в конце июля водяной насос перестал забирать воду и его пришлось остановить. Подобраться к водозаборному концу трубы, пройдя по дну, мешал прилив; выехавшие на лодке старший механик и масленщик палками с лодки никак не могли расчистить предохранительную сетку от налипшей на нее коры. Надо было ждать отлива, а емкости водяного бака хватило бы на полчаса водяного охлаждения двигателей. Пришлось бы останавливать двигатели и посадить всех в темноту.
Выручил меня опять-таки Клодзинский, к которому я, минуя Русанова, обратился непосредственно по-дружески по телефону. Он сразу же пообещал мне прислать пожарную мотопомпу для накачивания воды из реки непосредственно в охладительную систему двигателей. Время шло, помпа не приезжала. Вода перестала поступать в рубашки цилиндров двигателей и они стали нагреваться до недопустимой температуры. Я снова позвонил в пожарную команду и, наткнувшись на дежурного, спросил: «Когда выедет пожарная помпа на КЭС»? Как выяснилось позже, дежурный, не разобравшись в причине моего звонка, включил сигнал пожара для выезда всей команды и доложил, что КЭС горит. Выезд всей команды предупредил Клодзинский, снаряжавший в депо помпу для меня и позвонивший мне с вопросом: «У Вас пожар»? Получив отрицательный ответ и повторную просьбу о высылке помпы, Клодзинский тотчас же прислал помпу, которая качала воду в систему охлаждения двигателей до тех пор, пока мы не справились с аварией.
О расстреле Клодзинского мне очень тяжело рассказывать. Этого симпатичного отзывчивого человека чекисты расстреляли в начале следующего года, в преддверии окончания им десятилетнего срока заключения. Загоревшаяся от искры паровоза вата на складе 90-го пикета уничтожила весь склад. Пожарники отстояли соседние склады, и все же Клодзинский, как начальник пожарной команды, потому что он был заключенный и офицер Русской армии, стал козлом отпущения, как и многие другие политзаключенные после убийства Кирова, которое было воспринято как сигнал для расправы с неугодными на воле, с политзаключенными в концлагерях.
Когда цилиндры двигателей охладились до нормальной температуры, начали искать способов ликвидации аварии еще до наступления отлива. Мне пришла мысль воспользоваться для продувки предохранительной сетки воздухом, который нагнетался в баллоны двухступенчатым компрессором дизеля до 64-х атмосфер, под каким давлением горючая смесь вспрыскивается в цилиндр дизеля. Отсоединили водозаборную трубу от насоса, вставили в нее шланг соединенный с баллоном и продули трубу. Посередине реки на высоту нескольких метров взвился фонтан воды и предохранительная сетка оказалась очищенной. Насос заработал нормально; поблагодарив пожарников, я отпустил помпу.
Авария с подачей воды заставила меня повнимательнее присмотреться к системе охлаждения двигателей и я решил провести реконструкцию водопровода, хотя и не могущую в будущем предотвратить вышеописанный случай, но все же более надежно обеспечивающую как охлаждение двигателей, так и питание котла водяного отопления и водоснабжения обоих зданий.
В проекте я предусмотрел замену трубы питающей двигатели от напорного бака на трубу бо́льшего диаметра, поскольку действующая была рассчитана только на один дизель, а теперь прибавился второй двигатель, и смену труб питающих напорный бак от насоса и труб питающих флигель, поскольку они пролежали в земле более пяти лет и могли стать источником утечки и аварий. Проект утвердил Русанов и дал распоряжение через начальника Кемского отделения (с этим распоряжением на подпись к начальнику ходил я сам, так как Русанов сам избегал общаться с чекистами после всего перенесенного им) прорабу строительных работ на «Вегеракше» осуществить его. При производстве работ выяснилось, что замена труб была вполне своевременной, так как во многих местах они поржавели. Кроме того, я настоял на углублении новых труб на 1 метр 80 см, глубже на 40 см, чем залегали старые трубы, во избежание их замерзания в зимнее время. На изменение глубины залегания труб меня натолкнул разговор с мотористом Костенко, который проработал на КЭС не одну зиму. Он был свидетелем замерзания водопровода, что повлекло остановку дизеля. Когда я готовился к ремонту дизеля в начале года и прорабатывал учебники, я наткнулся на справочник по водопроводным работам, в котором давались глубины залегания труб по широтам, во избежание их замерзания. Для широты города Кеми я нашел глубину залегания 1 м 80 см.
С реконструкцией водопровода закончились мои хлопоты по реконструкции и ремонту КЭС и, сдавая ее Катульскому в октябре месяце этого же года, я был уверен в дальнейшей ее безаварийной работе. Приняв КЭС в хаотическом состоянии, я сдавал ее без единой оговорки в приемо-сдаточном акте о каких-либо дефектах двигателей и оборудования электростанции. Работа на КЭС, хотя и стоила мне много нервов, дала мне огромный опыт не только в управлении отдельным предприятием, но главным образом повысила мои теоретические и практические знания технических дисциплин. И все же я чувствовал неполноту своих технических знаний, которые в полной мере даются только высшим техническим учебным заведением, двери которого оказались для меня закрытыми на всю жизнь не по моей вине. Компенсировал ли этот пробел приобретенным мною опытом? На этот вопрос ответить было трудно.
Поскольку в функции заведующего КЭС входило заведывание водяным отоплением здания Управления и флигеля, здесь уместно сказать несколько слов о моей работе по отоплению зданий.
С наступлением теплого времени года по моей заявке, водопроводчики механических мастерских Управления, подчиненные Сотникову произвели промывку системы отопления и котла. Вторую заявку я дал в часть технического снабжения на обеспечение котла углем в зиму 1934-35 годов. Этим моя работа по водяному отоплению и ограничилась.
Несколько неприятных дней мне пришлось пережить, когда в мае в котельную вторгся … 3-й отдел управления СЛАГа, присоединяемого к Белбалтлагу. Трое суток в топке котла горели дела 3-го отдела. Все было окружено таинственностью. Кочегаров выгнали, никого в котельную не допускали. Дела из 3-го отдела носили его работники, они же и жгли их. Вероятно, это были дела умерших и расстрелянных заключенных. Возможно, это были подлинники или копии доносов стукачей, накопившихся за много лет. Я серьезно опасался перегрева котла и даже его взрыва с новоявленными кочегарами, притом спешивших до приемки дел 3-м отделом ББК замести следы.
Кончилось все благополучно. Остался лишь пепел.
ГОД 1934
Год 1934, точнее его одиннадцать месяцев до 1-го декабря, даты убийства Кирова, был самый либеральный в истории сталинских концлагерей. Ни до, ни после не было такого послабления концлагерного режима, как в этом благодатном для заключенных году. С самого дна глубокого колодца, в который мы были брошены ОГПУ и в котором на нас давил столб всей государственной машины сверху донизу с ее многочисленными звеньями и ступеньками, нам казалось, как будто ОГПУ, подобно дикому кровожадному зверю, проглотившему десятки миллионов жертв, не проявляет уже прежней злости к нам, как будто в сонной дреме, переваривая добычу, ленится выполнять им самим написанные жестокие приказы для нас, своих заключенных.
В действительности в 1933-34 годах уже не было монолитной, связанной общим страхом перед порабощенным народом, партийной верхушки, с разветвленным, из того же самого страха послушным до автоматизма сверху стоящим начальникам, аппарата государственной и партийной власти. Все более проявлявшийся, не только в верхушках партии большевиков, но и во всех звеньях аппарата власти, индивидуализм и жажда материальных благ заставляли эту по военному сплоченную и дисциплинированную массу, незаметно расстраивать строй и бороться в одиночку друг с другом за более теплое место, поближе к Сталину ценою свержения в политическое или физическое небытие вчерашнего товарища и друга. Эта распря в государственном и партийном аппарате, тщательно скрываемая от народа, в том числе и от нас заключенных, отвлекала внимание от управления страной, а вместе с тем и от поддержания систематического гнета народа, в том числе и над нами – заключенными. Результатами этой невидимой борьбы между власть предержащими, были появлявшиеся среди заключенных отдельные неудачники, не сумевшие, в борьбе за существование наверху, утопить своего конкурента и сами погрузившиеся к нам на дно, попадавшие в СОСНУ, организация которого в 1933 году с первого взгляда противоречила либеральным веяниям, а по сути отражала приготовления и самого Сталина к беспощадному избиению партийной верхушки, партийных и беспартийных из разных слоев населения в последующие еще более страшные 1937-1939 года. Другим явным проявлением этой борьбы, особенно заметными для нас, заключенных, была начавшаяся с начала тридцатых годов чехарда Верховных прокуроров. Мелькали известные фамилии Сольц, Крыленко, Акулов и совершенно неизвестные. Однако и эти перемены, на которые некоторые заключенные возлагали кое-какие надежды, не давали никакого представления о разрушающей верхушку партии большевиков междоусобицы.
Еще в 1933 году от многочисленных командировочных-заключенных приезжавших с Медвежьей горы из Белбалтлага в Кемь и от таких же командировочных СЛАГа, ездивших на Медвежью гору стали ползти поразительные слухи о наставшей необыкновенно вольной жизни на Медвежьей горе. Там заключенные не только из аппарата Управления Белбалтлага, но даже и находившиеся на общих работах без всяких пропусков бродили в рабочее и нерабочее время, днем и ночью не только между бараков, стоящих вне проволоки, но и по поселку Медвежья гора, беспрепятственно общаясь с вольным населением. Ворота лагпункта обнесенного проволокой были широко открыты для выхода, всякие поверки были отменены, патрулей нигде не было видно. Мы внимали этим рассказам, переворачивающим все представления о концлагере, и только удивлялись, в особенности я, только вырвавшийся из тисков жесткого концлагерного режима Соловков. Надо сказать, что рассказчики нисколько не преувеличивали, так как все описанное выше о Медвежьей горе, я лично увидел и испытал на себе, в октябре 1934 года, когда был переброшен туда.
Либерализация режима в Кеми особенно стала заметна в середине года, когда на смену начальнику Кемского отделения ББК вольнонаемному чекисту Иевлеву пришел тоже вольнонаемный чекист Оглобличев. Иевлев был франтоватый полуинтеллигент, глупый и жестокий, заносчивый с заключенными и раболепный перед высшим начальством. По традиции он пытался требовать досконального выполнения лагерного устава, но в своей должности был недолго. Правда, его перевели с повышением, очень понравившегося, как безукоризненный исполнитель, начальнику ББК вольнонаемному чекисту еврею Раппопорту, при объезде последним новых владений ББК, после присоединения СЛАГа к Белбалтлагу в мае 1934 года. Злые языки говорили, что на Раппопорта большое впечатление произвел блиставший побелкой лагпункт «Вегеракша». Перед приездом приемочной комиссии Иевлев распорядился побелить бараки не только внутри, но и снаружи и «Вегеракша» издали стала походить на скопище веселых украинских мазанок, только большого объема. С тех пор, хотя побелка снаружи держалась всего несколько суток из-за влажного климата, продолжали злые языки, Иевлев, считая причиной своего повышения белизну бараков, всю свою деятельность направил на побелку снаружи зданий, которую он производил часто на вверенной ему территории концлагеря. Иевлев был большой мастер показухи.
Оглобличев был полной противоположностью Иевлева. Грубый, неотесанный, высокого роста с сумрачным видом уральский кузнец, едва писавший свою фамилию, в чекисты попал, безусловно, по какой-то разнарядке, как потомственный пролетарий. В отличие от Иевлева любившего покрасоваться на всех заседаниях своими знаниями во всех отраслях производства Кемского отделения, знаниями которые были только в его собственном напыщенном воображении, Оглобличев никогда себя не выставлял, оценивая своим природным умом ничтожность своих знаний по сравнению со знаниями подчиненных ему высококвалифицированных специалистов-заключенных. Обладая добрым сердцем, Оглобличеву была чужда какая-либо ненависть к кому-либо, в сердце его так и не привились насаждаемая агитационным аппаратом большевицкой партии «классовая» ненависть, которую так любил проявлять Иевлев по отношению к политзаключенным. Оглобличев называл всех на «ты», теряясь когда заключенные обращались к нему на «Вы», отвечая тогда о себе во множественном числе. Любимым словечком у него было «брат», которое как-то странно звучало с непривычки в его обращении с заключенными. «Ты тово, брат, - говорил Оглобличев вытянувшемуся перед ним заключенному, - сделай то-то и то-то, не забудь, а то, брат, я тебя …» (следовала нецензурная тирада, которой Оглобличев хотел показать несвойственную ему жестокость и требовательность). Для вящего впечатления Оглобличев сдвигал огромные черные с проседью брови и тут же, как бы спохватившись не пересолил ли своей напускной строгостью, ободряюще похлопывал заключенного по плечу и говорил «Да ты сядь, сядь, что ноги ломаешь, пригодятся, садись, тогда и рассказывай». Оглобличев никогда не говорил «докладывай». Сидеть в присутствии чекиста заключенному никак не полагалось, это было неслыханное нарушение концлагерного устава, который ломал сам Оглобличев.
Оглобличев убрал с улиц города Кеми все патрули и заключенные жившие в городе и приходившие с «Вегеракши» на работу в город свободно стали ходить по улицам в любой части города. Заключенные сотрудники Управления отделения в хорошую погоду в перерыв между дневными и вечерними занятиями (с 16 до 19 часов), после обеда совершали прогулки по городу и даже по живописным окрестностям Кеми со стороны той части города, которая была расположена на большом лесном острове между основным руслом реки Кеми и ее протоком, а также и в направлении станции железной дороги, по дороге куда возвышалась громадная, почти совсем голая скала. С вершины ее отчетливо было видно полотно Мурманской (теперь Кировской) железной дороги, по которой шли поезда, перемещая грузы и пассажиров, вольно или невольно ехавших в разные направления. Вид пассажирских поездов особенно идущих на юг меня всегда расстраивал, напоминая о пути, который был для меня закрыт. Поражал профиль пути на перевалах, когда идущий железнодорожный состав, как бы переламывался на две части, спускающуюся под уклон вслед за паровозом и поднимающуюся на склон. А кругом до горизонта осенью тундра вся казалась красной от поспевшей клюквы.
Заключенные гуляли в одиночку, группами и даже парочками разного пола, и не только особо привилегированные сотрудники 3-й части и УРЧ, но и других частей Управления отделения и даже рядовые заключенные, посланные на работу в город. Диссонансом в наступившей идиллии были только таинственные политзаключенные СОСНЫ, проводимые с вокзала под конвоем с опущенными на лица накомарниками, на 90-й пикет, транзитом через город, для отправки на Соловки.
1934-й год принес мне и много радостей и огорчений, о которых надо рассказать по порядку.
Начался год большой встряской нервов по поводу неожиданного для меня вызова в страшный 3-й Отдел Управления СЛАГа. В вечер Праздника Рождества Христова, 7-го января по новому стилю, убедившись в нормальной работе двигателя, как всегда около 9 часов вечера я направился ужинать к моей любимой. Завернув по кривизне улицы к 90-у пикету, я заметил пламя на территории Мебельной фабрики. Сделав еще несколько десятков шагов вперед и выйдя на прямое шоссе на «Вегеракшу», откуда отчетливо была видна вся территория Мебельной фабрики, я убедился, что горит электростанция Мебельной фабрики. За несколько минут была охвачена пламенем и крыша и при свете горевшего здания были видны бегавшие вокруг заключенные, доносились перепуганные голоса. Мне стало сразу ясно, что ни о каком ужине у Нее не может быть и речи, мое место при такой катастрофе на КЭС. Мне надо было возможно скорее вернуться на КЭС, чтобы персонал не застали врасплох неминуемой проверкой 3-м отделом КЭС, как только в Управлении станет известно о пожаре. Я не мог бежать, чтобы не привлечь к себе внимания, и потому пошел предельно быстро шагом, все время сдерживая себя, чтобы не сорваться на бег.
Одного взгляда на олимпийское спокойствие дежурного персонала и приготовления ко сну не дежурного было достаточно, чтобы определить о моем успешном опережении событий. «Немедленно убрать все постели и топчаны, все со столов и верстака и чтоб вашего духу через минуту здесь не было», - приказал я свободной команде. «Подтереть все пятна на полу, дежурить у двигателей», - скомандовал я дежурной смене. Персонал хорошо меня знал и сразу понял, что случилось что-то такое, что надо безропотно лишиться всех удобств и молниеносно выполнить мой приказ. Они не спрашивали меня, зная, что у меня от них тайн не бывало, когда можно будет я им расскажу все, чем вызвано мое распоряжение, а пока в одну минуту исчезли все топчаны, постели, чемоданы, кастрюльки, чайники, кружки, кошма оказалась свернутой на противопожарном стенде, и никого кроме дежурной смены на КЭС не оказалось. Масляные пятна за то же время подтерли, моторист стал у дизеля с чистой ветошью в руках, масленщик у «Червоного двигуна», казачий офицер сел за стол перед распределительным щитом. Я все осмотрел, проверил наличие противопожарного инвентаря и ящик для использованных обтирочных материалов. К моему удивлению он был пуст, использованные тряпки и паклю прихватили с собой мои догадливые подчиненные. Словом КЭС блистала чистотой и готовностью противопожарных мероприятий.
Меня интересовало – известно ли уже о пожаре в Управлении? Фланирующей походкой я направился в Управление. По безмятежному виду дежурного в вестибюле коменданта, мимо которого я прошел, как обычно, не предъявляя пропуска, по полной тишине в большом зале отделов управления, где кто писал, наклонившись над столом, кто небрежно развалившись на стуле от нечего делать и предвкушая скорый конец вечерних занятий, для виду листал папку, я понял, что и теперь еще ничего не известно о пожаре. Я вернулся на КЭС и сел на диван за стол рядом с казачьим офицером.
Не прошло и нескольких минут, как в дверях машинного зала, крадучись, возникла тень сумрачного вольнонаемного чекиста с тремя шпалами в петлицах. По количеству шпал он был не ниже начальника отделения 3-го отдела. Ожидаемая мною проверка была налицо. Весть о пожаре уже дошла до 3-го отдела, и чин был послан проверить ближайшую электростанцию. На пороге он задержался несколько секунд, скользнув взглядом по столам, по углам машинного зала, по лицам застывших на своих местах дежурных и торопливо через машинный зал прошел в насосную. Я сопровождал его по пятам. Не найдя ничего и в насосной, где прежде всего он метнул взгляд на верстак, чекист, не меняя холодного выражения лица, не произнеся ни слова, ни «здравствуйте», ни «прощайте», покинул КЭС через двери насосной в сторону берега реки. Я тоже не проронил ни слова, поняв, что опередил проверку, скрыв все наши грехи, так что не к чему было придраться и таким образом выгородил и себя и своих подчиненных.
Мне неизвестно кто первый с Мебельной фабрики сообщил в 3-й отдел о пожаре, но у меня создалось впечатление об имевшем место доносе от одной весьма неприятной политзаключенной-инженера работавшей на Мебельной фабрике. Если она и не была штатной сексоткой 3-го отдела, то, во всяком случае, стукачкой она была по натуре. Про нее говорили, как из ревности к своему мужу она посадила в концлагерь свою подругу, а вместе с ней сели и ее муж, и сама доносчица, и ее муж. Всем четверым ОГПУ по 58 статье отпустила по десять лет срока заключения в концлагерь каждому. Своим вечным стукачеством, о котором знали все, она надоела даже и в 3-м отделе, где ей плохо верили, и она искала все новых начальников, которые, еще не изучив ее взбалмошной натуры, поверили бы ее доносам. Когда вместо Лозинского, который был переведен в заместители начальника ПРО в декабре 1933 года, был назначен молодой вольнонаемный чекист, по-видимому, имевший техническое образование и переведенный из какой-нибудь технической части войск ОГПУ на службу в концлагерь, эта неприятная дама явилась к нему в кабинет. Как раз за несколько минут до этого у нового начальника ПРО потухла настольная лампа, о чем он и позвонил на КЭС. Линейный электромонтер был на вызове по исправлению повреждения электропроводки в городе и я, взяв инструменты, сам пошел в кабинет к начальнику. Повреждение оказалось в проводке под крышкой стола. Я залез под стол и тут-то наслушался эту мадам. Мое присутствие ее нисколько не смутило, как не смущались в Древнем Риме целомудренные римские патрицианки, раздеваясь догола в присутствии рабов-мужчин, не считая их за людей. В чем только не обвиняла она всех и вся на Мебельной фабрике от заведующего до последнего рабочего, своих товарищей по несчастью – заключенных! В чем только она не находила дефектов в управлении фабрикой и злоупотреблений положением. По движению ног под столом, по скрипу кресла, шелесту перебираемых на столе бумаг, я чувствовал, как неудобно было выслушивать ее новому начальнику ПРО, бывшему до сих пор далеко от грязи концлагерей. Постепенно он терял терпение, прерывая ее своими замечаниями и возражениями. Я был рад когда закончил работу, мог вылезти из-под стола и уйти из кабинета, чтобы не слышать больше этой отвратительной дамы.
На другой день после пожара утром по телефону меня вызвали в 3-й отдел. Все я передумал пока переходил двор и поднимался на третий этаж. Вначале в разговоре со следователем я не мог понять с какой стороны мне грозит опасность, так как следователь задавал вопросы об эксплуатации электростанций вообще, не касаясь конкретно работы КЭС, в том числе и вчерашней проверки. Затем он стал задавать вопросы о причинах могущих вызвать пожар на электростанциях. Наконец эта нервотрепка и ему надоела и он прямо объявил, что я вызван, как технический эксперт по поводу пожара на электростанции Мебельной фабрики. Чего-чего, а этого меньше всего можно было ожидать при наличии в концлагере стольких инженеров с дипломами. Реакция удивления с моей стороны была вполне искренняя, но я направил ее по другому руслу, как будто я ничего не знал о пожаре. Затем я высказал и свое подлинное удивление, сославшись на отсутствие у меня высшего образования и малого опыта по молодости. В это время вошел в комнату начальник 3-го отдела вольнонаемный чекист Глушанин с тремя ромбами в петлицах. Я и следователь вытянулись перед ним. «Задание Вам объяснили?», - обратился Глушанин неожиданно на «Вы» ко мне. Я осмелел и изложил мотивы своей непригодности так же, как и следователю. «Инженера́ (с ударением на «а»), - зло сказал Глушанин, - вредители, да и все они трусы … (и он послал в их адрес длинную нецензурную тираду), - им что скажешь, то и напишут, а нам нужна правда». «Правда? - подумал я, - с каких пор в ОГПУ стали искать правду»? «Вот Вы, - продолжал Глушанин, - я знаю, напишите то что есть, а не то что я скажу Вам написать или вот следователь, а потому я приказал Вас вызвать».
Спорить было бесполезно. Поручение было очень неприятное. Надо было как-то так написать экспертизу, чтобы смягчить участь персонала сгоревшей электростанции. Из них я никого не знал, не знал и по какой статье они сидят в концлагере и у кого какой срок заключения. А от совокупности всех этих обстоятельств зависел и новый им приговор. Можно было опасаться за политзаключенных особенно, так как если они были десятилетники, то расстрел был неминуем не только заведующему. Надо было их спасать, потому что они были тоже заключенными.
В дверь кто-то постучал, следователь нервно рванулся к двери, растерянно посмотрев на меня. Он не знал как расценить меня, как контрреволюционера или как «своего» сообщника, можно ли мне показать стукача или нет. При выходе его в дверь я в коридоре заметил мадам с Мебельной фабрики. Поистине у воронья великолепно развито обоняние, она прилетела на кровь. Следователь долго не возвращался. Затем он принес сверток из нескольких листов бумаги, запер их себе в стол. Вложил в портфель стопку бланков протоколов допроса и мы с ним пошли на пожарище. Шли молча. По дороге я обдумывал направление экспертизы.
От сарая, в котором помещались двигатель динамо и распределительный щит, в совокупности именуемые электростанцией, не осталось ничего, все сгорело почти дотла. Сгорели приводной ремень и явно были повреждены обмотки якоря и полюсов динамо-машины. Обгорела изоляция на кабелях. Двигателю ничего не сделалось. Я указал следователю на обломок доски пола, лишь частично обгоревший и обратил его внимание насколько она пропитана нефтью и смазочными маслами. «Как не быть пожару в неприспособленном помещении», - закинул я удочку следователю. Тот согласился со мной, открыв мне тем самым возможность сделать в экспертизе упор на неприспособленность помещения, а не на виновность дежурной смены.
Следователь пошел в следственный изолятор, помещавшийся почти рядом с Мебельной фабрикой, видимо допрашивать арестованный персонал электростанции, а я, пообещав следователю представить экспертизу вечером, направился к Боролину. Это был единственный человек, которому я мог доверить тайну данного мне поручения 3-м отделом и получить дельный совет. Выждав когда мы остались наедине, я изложил ему все и мои соображения в отношении направления экспертизы. Боролин устало вздохнул, одобрил мои мысли и сообщил, что он уже договорился с Глушаниным о восстановлении электростанции. Проходя мимо пожарища к Ней на обед я уже видел, как приступили к возведению на том же месте и опять-таки деревянной электростанции-сарая. Через пятидневку электростанция заработала на прежнем двигателе, но с новой динамо и со старым персоналом выпущенным до вынесения приговора.
Она очень волновалась за меня в связи с пожаром и очень обрадовалась мне, когда я появился у Нее на следующий день. Я Ей ничего не сказал о данном мне поручении экспертизы, чтобы Ее не волновать. Откровенно сказать я этого поручения и стыдился, оно пахло нехорошо, как будто я стал доверенным лицом у чекистов. И так уже раз Она с раздражением назвала меня коммунистом, когда я высказал Ей одно свое мнение. Дети Ее собирались к Ней на очередное свидание, и Она мне сказала, что Ее пятнадцатилетний сын может ехать только в мягком вагоне. А я высказал мнение, что не стоит с молодости приучать детей к роскоши, потому что неизвестно что их ожидает в будущем, сможем ли мы вдвоем дать им такую же беззаботную роскошную жизнь, какую они имеют возможность сейчас вести пока жив их богатый дядюшка, взявший их на иждивение, основатель МХАТа. К сожалению я оказался пророком. Через четыре года, когда умер дядюшка, подросшего Ее сына посадили в концлагерь на пять лет и ему пришлось ехать в столыпинском вагоне.
Вечером я отнес экспертизу в том изложении, как я задумал. Следователь прочитал молча, спрятал в стол и зачем-то поставил меня в известность об обстоятельствах возникновения пожара. Пьяный моторист с зажженной паяльной лампой полез на двигатель разжигать запальный шар, свалился на пол, уронил лампу и загорелся пол. Виноват был моторист, но прав был и я, так как будь пол цементный, пожара бы не возникло. Не знаю, помог ли я персоналу электростанции своей экспертизой в смягчении им приговора.
Месяца через полтора я получил экземпляр приказа по СЛАГу с текстом приговора персоналу сгоревшей электростанции для объявления персоналу КЭС. В приказе очень противно была развернута антирелигиозная пропаганда: «В церковный праздник, когда вся страна напрягает все силы и т.д. и т. п.…». Далее следовало описание причин возникновения пожара от пьянки и текст приговора. Дополнительные сроки по пять лет получили заведующий и дежурная смена. После приговора их отправили на физические работы на лесозаготовки в штрафной лагпункт.
Следующая неприятность, связанная с существованием 3-го отдела произошла со мной и моей любимой в середине марта этого же года. Выходя из ПРО на лестничную клетку в начале второй декады марта я нос с носом столкнулся с очаровательной блондинкой, заключенной Л., работавшей на Зональной станции и великолепно мне знакомой по Биосаду на Соловках. Она приняла мусульманство и тайно была обвенчана муллой второй женой азербайджанского профессора Вадул-Заде-Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы], первая жена которого была на воле. Л. спускалась по лестнице с третьего этажа, где был только 3-й отдел. Увидев меня, она покраснела до корней волос и, отведя глаза, поспешно проскользнула мимо, не поздоровавшись. Я искренно почувствовал к ней жалость, зная по горькому опыту, как неприятны вызовы в этот страшный отдел, а ее смущение при виде меня, я объяснил ее страхом, что я могу заподозрить в стукачестве, от какой мысли я был очень далек, зная ее на протяжении стольких лет, в течение которых сохранял очень высокое мнение о ее моральных качествах.
К моему удивлению, зная дружный коллектив Зональной станции, в особенности крепкую дружбу той его части, которая была переброшена с Соловков, моей возлюбленной ничего не было известно о вызове Л. в 3-й отдел. К тому же, когда я сообщил Ей об этом факте, Она очень расстроилась, так как последние дни была в натянутых отношениях с Л. и сразу заподозрила, не по своей ли инициативе пошла Л. в 3-й отдел. Впоследствии я выяснил, что моя возлюбленная, А. С. А. и Л., дружно жившие на Соловках и в Кеми до последнего времени из-за чего-то перессорились. Три медведицы не ужились в одной берлоге. Мое мнение о высокой нравственности, глубоко верующей Л. были окончательно опрокинуто утром 15-го марта. Мне стало понятно то смущение Л., когда она увидела меня, именно меня, спускаясь из 3-го отдела.
Очень напуганная, взволнованная моя возлюбленная рассказала, что имела вечером, после моего ухода с ужина, очень неприятное объяснение по поводу меня с деликатным заведующим Зональной станцией, получившим разнос от начальника лагпункта «Вегеракша» за якобы имеющий место во вверенном ему учреждении разврат, причем моя фамилия была при этом упомянута. При таких обстоятельствах мы с Ней решили питаться врозь, а мне появляться на Зональной станции как можно реже, пока все не забудется начальством. Я перешел на трехразовое питание в общежитии ответственных работников в городе, сдав коменданту общежития продовольственный аттестат.
Наше семейное счастье было разбито и, как потом оказалось, навсегда подлым доносом Л., которая так жестоко отомстила Ей, если Она даже и была чем-то виновата перед Л. Но за что я пострадал? И чудовищнее всего было то, что уж если говорить о «разврате», так я же приходил только днем и виделся с Ней на глазах у всех, в то время, как обе другие дамы жили на Зональной станции вместе со своими законными и незаконными мужьями. И как это ни гадко было стучать друг на друга, но кто же больше нарушил лагерные распорядки, и потому кто был больше виноват, кто имел большее моральное право обвинять другую, Она или Л.?
От непосредственной кары – снятия с должностей, на физические работы, посадки в карцер или рассылки нас в разные отделения, очевидно, нас спас возраст моей возлюбленной. Начальник «Вегеракши» не мог по своему интеллектуальному уровню отвергнуть правильность доноса на Нее по Ее воспитанию, а отверг по Ее возрасту и безупречной предшествовавшей репутации. Впрочем возможно в этом вопросе очень помог имевшийся на «Вегеракше» мой однофамилец, к тому же имевший перевернутой мое имя отчество. Его звали как моего отца, меня как его отца.
Почти с начала года я заметил перебои в получении от матери писем. В то же время мои подчиненные стали приносить мне письма и открытки, по содержанию не предназначенные мне. При внимательном рассмотрении адреса я обнаруживал на таких письмах свое перевернутое имя отчество. Поразительнее всего на этих письмах и обратный адрес почти совпадал с адресом даваемом матерью. Не сходился только номер дома и квартиры, все остальное сходилось вплоть до инициалов моей матери. Мать давала обратный адрес квартиры наших друзей в Ленинграде, на этот адрес писал и я. Мои поиски своего однофамильца ни к чему не приводили, пока, случайно, уже в середине года, когда моя возлюбленная уже была переброшена на Медвежью гору, я столкнулся с ним.
Я был вызван на «Вегеракшу» для получения очередной посылки от матери. Цензор 3-й части вызвал меня по фамилии к окну, где выдавал посылки, но меня опередил молодой заключенный и цензор стал вскрывать посылку. Я заявил претензию, что адресат я, указав на имя, отчество на посылке. Тут-то мы и познакомились. Строительный техник, значительно моложе меня, ленинградец, он сидел по бытовой статье за перерасход фонда зарплаты, отбывая с начала 1934-го года данный ему по суду трехгодичный срок заключения на «Вегеракше» прорабом строительных работ. Через несколько дней мы с ним обменялись письмами, полученными не по адресу. При обмене письмами он высказал предположение, что не за меня ли он отсидел десять суток в карцере за совершенно незнакомую им женщину, назвав при этом фамилию моей возлюбленной. Я возмущенно ответил ему, что отличаюсь скромностью поведения с самого начала заключения еще на Соловках уже пять лет, о чем хорошо известно начальству и фамилия мне не известна. На это он мне сообщил об испытанном им разносе от начальника лагпункта, «да еще он меня и посадил», добавил мой однофамилец. Юный прораб был хулиганистый и крепко насолил начальству и разнос ему был за недисциплинированность, а фамилию моей возлюбленной Иваницкий упомянул для придачи большего веса своего разноса, сам не веря, чтобы пожилая степенная дама могла связаться с хулиганом-мальчишкой. И десять суток дал ему начальник за его общее поведение и только за него.
С этим однофамильцем у меня вышел еще одни курьезный случай. Как-то в конце лета ко мне на КЭС прибежал запыхавшийся заключенный работник УРЧ и подобострастно (был он подхалим, а я все же фигура – заведующий электростанцией) объявил о приезде ко мне на свидание жены, которая ждет меня в вестибюле управления. Я не был женат, а моя возлюбленная, если бы даже освободилась бы из концлагеря и приехала ко мне, то никогда не объявила бы себя моей женой. От удивления у меня вырвался вопрос: «Какая», который подхалим расценил как «которая», страшно смутился и заискивающе сказал: «Не знаю, сами посмотрите». Я понял недоразумение и отказался идти на свидание. Но сотрудник УРЧ, ничего не поняв, все же уволок меня в вестибюль, радостно представив меня незнакомой мне даме: «Ваш муж». К неудовольствию работника УРЧ дама не признала во мне своего мужа, я объяснил кто должен быть ее муж, которого надо вызывать с «Вегеракши». Так я познакомился и с женой однофамильца, от которой письма попадали мне.
Приятное время с Ней, около трех недель, как бы в компенсацию за пережитый испуг и вынужденную разлуку в марте месяце, мы провели, когда в начале апреля, почти одновременно приехали на свидание в Кемь, ко мне мать, к Ней дети. Мать приехала на несколько дней раньше. Мы поселились снова в той же гостеприимной рыбацкой семье. Разрешение на прописку для матери я получил у того же председателя Горсовета, без всяких хлопот, потому что он достаточно меня знал как заведующего КЭС СЛАГа ОГПУ. У него же довольно легко я выхлопотал прописку для Ее дочери. Сын Ее был несовершеннолетний и в прописке не нуждался. В обширном доме нашлась комната и для Нее с детьми. Она и Ее дети относились друг к другу с большой нежностью. Видно было как им не хватало матери, как Ей не хватало детей. С Ней я виделся утром на кухне, вечером мы собирались все вместе, то в нашей комнате, то у них. Ее не загружали работой на Зональной станции во время свидания с детьми, у меня было много свободного времени, так как ремонт дизеля еще не начался, а КЭС работала считанные часы, вследствие наступления светлого времени года. Таким образом некоторые дни мы виделись подолгу и днем.
Мать ничего не заметила, я ей тоже ничего не сказал о наличии у меня невесты. Она тоже ничего не сказала своим детям о наших отношениях. Атмосфера большой дружной семьи как-то подсознательно водворилась в доме, где мы жили на свидании, которая очень благотворно подействовала на Нее. Мечтать о будущем счастье в законном браке можно было вполне, даже забывая о длинных сроках нашего заключения. По представлению наших начальников мы два раза получали продление свидания по неделе. Уехала моя мать, уехали Ее дети. Мы снова остались наедине вдвоем, еще более близкие душой и разделенные концлагерным режимом.
Дети привезли Ей радостные вести от своего дядюшки. Заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода, сосредотачивая в своих руках все больше власти, постепенно оттесняя председателя ОГПУ Менжинского, возомнил себя всемогущим меценатом и заинтересовался, больше напоказ, театром, изо всех сил пытаясь сойтись на короткую ногу с выдающимися актерами. Одним из таких выдающихся актеров и режиссеров, всемирно известный, один из основателей МХАТа был старший брат умершего под следствием мужа моей возлюбленной. К нему в дружбу особенно лез Ягода. Улучив момент, основоположник МХАТа добился от своего нового «друга» обещания пересмотреть «дело» Ее и Ее сестры. Дети заверяли со слов своего знатного дядюшки о непременном скором в этом же году освобождения Ее с сестрой из концлагеря. Я радовался вместе с Ней о Ее близком освобождении из концлагеря, что мне представлялось важнее, чем мое собственное освобождение.
В конце мая нас постигла разлука. Зональная станция в связи с присоединением СЛАГа к Белбалтлагу, была переведена в район Медвежьей горы в совхоз «Вичка» со всем оборудованием и частично персоналом. Ее включили в небольшой этап, преимущественно из управленческих работников, и отправили с ним под конвоем на Медвежью гору.
Горечь расставания была несколько смягчена неожиданным снижением мне срока заключения на два года по постановлению ЦИК СССР. Десять лет заключения мне заменили восемью годами. Хотя скидка была невелика по сравнению со сроком, но эти два года сыграли решающую роль в сохранении мне жизни в освобождении меня из концлагеря до страшных 1937-39-х годов. В 1937 году все зачеты рабочих дней для политзаключенных были отменены и мне пришлось сидеть бы до 1939 года, а с того же 1937 года, когда страна, в том числе и концлагеря попали в «ежовые рукавицы» проклятой памяти Ежова, концлагерный режим стал еще настолько тяжелее, что вряд ли я бы вынес его, особенно после имевшегося у меня за плечами восьмилетнего пребывания в концлагере, в том числе четырех лет на Соловках. А с этой скидкой срок мой закончился ранее, когда действовала еще инструкция о применении зачетов рабочих дней и для политзаключенных и я освободился из концлагеря в 1936 году, как раз вовремя, чтобы и избежать ежовщины в концлагерях и не потерять зачета рабочих дней.
Я каждый год регулярно подавал в Коллегию ОГПУ о пересмотре моего «дела», но не получал даже отрицательного ответа, точно заявления попадали в помойную яму. Результат был один и тот же для тех политзаключенных, которые писали и для тех которые не писали. Только благодаря энергии моей матери и заступничества ветерана большевицкой партии Александры Михайловны Коллонтай мне дали эту скидку. Коллонтай была закадычная подруга в юности младшей сестры моей бабушки со стороны матери. После смерти сестры бабушки, Коллонтай сохранила привязанность ко всей семье бабушки. Знала она и мою мать, которая наездами в Москву пыталась неоднократно встретиться с Коллонтай и просить ее похлопотать о моем освобождении, как ни в чем не виновного. Но Коллонтай была послом СССР в Швеции, и в Москве матери никак не удавалось ее застать. Мать со своей стороны тоже ежегодно подавала заявления о пересмотре моего «дела», но тоже ответов не получала. В начале 1934 года ей посчастливилось застать Коллонтай в Москве, которая пообещала похлопотать за меня. Очевидно, к этому времени авторитет старых большевиков был уже настолько низок, что Коллонтай могла выхлопотать не освобождение из концлагеря, а только минимальную скидку в два года срока. Но и за это я был очень благодарен, так как, они спасли мне жизнь безусловно.
Итак, подсчитав имевшиеся у меня на день скидки зачеты рабочих дней и, рассчитывая и в дальнейшем на получение зачетов по категории ударников социалистического соревнования, получился предполагаемый конец моего срока – апрель 1935 года. Мне оставалось сидеть в концлагере меньше года! Это было неожиданно и великолепно! Мы с Ней очень радовались. Она была уверена в исполнении обещания всесильного Ягоды освободить Ее уже в этом году, а значит меньше чем через год, после моего освобождения, мы могли соединиться на воле в законном браке.
Увы! Ничего этого не состоялось, но расставаясь в Кеми, мы были твердо уверены в этом.
С Ее переброской на Медвежью гору мне в Кеми делать больше нечего, потому что о переброске меня в Кемь я так просил, чтобы быть с Ней. Теперь мне предстояло также просить моих старших друзей не забыть меня в Кеми и перетащить к себе на Медвежью гору. При теплом прощании в отдельности с каждым, при их переброске на Медвежью гору, Боролин, Лозинский, Гейфель обещали мне осуществить мою просьбу перевода меня к ним. Перебросить меня из Кеми на Медвежью гору было легче чем вырвать меня с Соловков для переброски в Кемь. Обещание свое они выполнили, хотя для этого и понадобилось более четырех месяцев.
С отъездом Ее и моих старших друзей в Кеми я остался совершенно один. Впрочем не совсем. У меня оказался один, не то что друг, но человек явно ко мне расположенный из местных вольных жителей, заведующий, он же и механик городской телефонной станции. Несмотря на малое количество улиц в городе Кеми и их малую протяженность, электросети и сети телефонные между собой были очень запутаны. Электросети КЭС и коммунальной электростанции, телефонные провода городской телефонной станции и телефонной станции Управления концлагеря и радиотрансляционные на некоторых участках были подвешены на одних и тех же столбах. При этом как-то так получилось, что электросеть КЭС преимущественно проходила по телефонным столбам городской телефонной станции. Вследствие этого обстоятельства с механиком городской телефонной станции я познакомился почти сразу после назначения меня заведующим КЭС. При смене столбов наши монтеры работали совместно. Кроме того из чувства профессиональной солидарности я стал помогать механику, втихомолку снабжая телефонную сеть материалами. Я был поражен после пяти лет изоляции от мира в тюрьме и на Соловках, до какой степени все на воле стало дефицитным по сравнению с 1928 годом. Официальные успехи первой пятилетки, якобы завершенной досрочно, оборачивались страшным голодом и в технической сфере при том колоссальном размахе строек промышленных предприятий. Даже такие важные для власти Наркоматы, как Наркомат Связи не мог снабдить подведомственные ему участки даже гвоздями, не говоря уже об изоляторах, крюках, проводе. При смене столбов я выделял механику крюки, изоляторы, вязальную проволоку и даже провод, выписывая их из Отдела техснабжения Управления СЛАГа, как бы на ремонт электросети КЭС. Система концлагерей ОГПУ, производившая работы на всех стройках страны, снабжалась техническими материалами лучше других ведомств и все что надо было мне я получал беспрепятственно.
Механик часто заходил на КЭС, выпрашивая деликатно то одно то другое, вплоть до гвоздей для бесперебойной работы городской телефонной станции. Когда мы хорошо познакомились, я стал выписывать для него даже сухоналивные элементы для телефонных аппаратов «МБ», эти элементы никакого употребления на электростанциях не имели места и, если бы в Отделе техснабжения были работники технически грамотные, то они либо удивились, либо мне не отпускали бы этих элементов. В действительности я их получил, и замолкшие телефонные аппараты в городе снова заговорили.
Наши служебные отношения с механиком так постепенно переросли в хорошие личные отношения без всякой дискриминации с его стороны ко мне, как к заключенному. Правда механик был малокультурным человеком и в духовном плане у меня с ним было мало общего, но я ценил его, как симпатичного, благородного по духу человека. Безграничная его симпатия ко мне как-то вылилась в приглашение меня к нему на имянины. Таким образом я вторично в Кеми, после более чем пятилетнего заключения, попал на вечеринку вольных граждан, явно нарушая тем самым концлагерный режим. Отказаться я не мог, чувствуя как я обижу отказом симпатичного имяниника, не знавшего искусственно созданных преград в общении заключенных с вольными и последствий для заключенных при обнаруживании этого общения.
На имянинах я познакомился с технической полуинтеллигенцией северного городка. За столом оказались заведующий коммунальной электростанцией – квалифицированный электромонтер, механик той же станции, линейные электромонтеры электростанции и связи и заведующий радиоузлом. Все они были старше меня по возрасту, женатые, сидевшие рядом со своими женами. Главы семейств своими разговорами весьма походили на домовладельцев, заботящихся о своих домиках, приусадебных участках, на которых они имели, кто кур, кто козу, а кто даже и корову и выращивали картофель и овощи для себя, пополняя полагавшиеся им по карточкам продукты, которых частенько им не выдавали. Технической мысли у них не наблюдалось совсем.
После нескольких стаканчиков хмельного языки развязались больше, но опять-таки только в направлении своих домашних дел. Поразило меня и полное отсутствие какого-либо энтузиазма в поддержке существующего строя, который по классовости безусловно должен был пользоваться их поддержкой. Они были все совершенно аполитичны, как будто все что делалось в стране проходило мимо них. Каждый замкнулся в скорлупу домашнего быта, высказывал интерес только к домашним делам. За пять с лишним лет моей оторванности от вольных людей настолько изменился рабочий класс, ставший совсем непохожим на трудящихся двадцатых годов. Очевидно, репрессии против инакомыслящих заставили всех надеть стандартную маску неограниченной поддержки всем действиям Сталина, но только в официальной обстановке, а глухое инстинктивное неудовольствие тяготами повседневной жизни боялись высказать даже в тесном кругу, потеряв доверие даже к друг к другу. Вряд ли они боялись высказываться при мне, как работнике концлагеря ОГПУ, вольнонаемного или заключенного, для них это не имело значения.
Впрочем, на имянинах оказался не я только заключенный. С взаимным испугом мы встретились за столом с одной политзаключенной дамой из части общего снабжения. Мы взаимно принюхивались друг к другу, кто на кого донесет о присутствии в доме вольного, да еще на вечеринке. Эта мысль отравляла мне весь вечер. Когда я с ней потом ближе познакомился, она мне призналась в том же. Но каким образом и она попала на имянины, так мне выяснить и не удалось. Но все обошлось благополучно. Это была вторая и последняя вечеринка, на которой я был заключенным среди вольных людей. Такого случая мне больше не представилось в дальнейшие годы моего заключения. Освобожденный из концлагеря, не стесненный концлагерным режимом я мог быть на любых вечеринках среди вольных людей, когда меня приглашали, но ни на одну из них я уже не шел с таким открытым сердцем, как шел к механику и к рыбакам в Кеми, потому что на воле, идя на вечеринку по приглашению, я всегда боялся скомпрометировать и хозяев и гостей своим общением с ними, как бывшим политзаключенным, находящимся под вечным тайным наблюдением агентов НКВД-МВД-КГБ, наблюдением которое часто бывало и слишком явным.
Но не только вольный механик мне симпатизировал. Явно благоволил ко мне один политзаключенный, старше меня лет на пятнадцать. Он был коммунист, член Московского Горсовета Петросов. Свою армянскую фамилию Петросян, он русифицировал. Петросов сменил Ломовского, переброшенного на Медвежью гору, на должность секретаря штаба соцсоревнования. На подведении итогов работы предприятий за предыдущий квартал из его доклада можно было заключить, что КЭС наилучшее предприятие, а ее заведующий лучше всякого ударника. На заседании Аттестационной комиссии Петросов всегда без колебаний предлагал поставить мне, как ударнику социалистического соревнования наивысший зачет рабочих дней – 3 дня срока за 2 отсиженных календарных дня. С мнением секретаря штаба соцсоревнования комиссия считалась, и я получал наивысший зачет рабочих дней. Петросов имел срок заключения десять лет по статье 58 пункт 8 (террор), тот же что и у меня. «Мы с Вами, шутил он, сидим по «мокрому» делу». На жаргоне уголовников «мокрое дело» означало убийство. Однажды Петросов разоткровенничался со мной: «Падлэц Сосо». Я недоумевающее посмотрел на него – Сосо по-грузински уменьшительное от Иосиф. Такой эпитет Сталина, услышанный кем-нибудь мог стоить Петросову добавлением срока и то в лучшем случае. Я испуганно оглянулся, не подслушивает ли нас кто-нибудь. Петросов продолжал: «Джугашвили, - (сомнений не осталось, я похолодел), - мы с ним вместе учились в начальной школе и я ему, однажды, дал по морде в классе, так вспомнил, приехал в Моссовет, узнал меня, еще похлопал по плечу, а ночью меня арестовали и вот 58-8, пожалуйте на 10 лет, ну не мэрзавэц ли, когда отомстил»! Если Петросова кто и слышал, то оказался порядочным человеком – никаких последствий не было, ему за оскорбление Сталина, мне за недоносительство.
И все же в Кеми я приобрел верного друга, моего возраста, равного со мной по воспитанию и духу. Это был москвич, сидевший в концлагере по 58 статье, пункту 10 (антисоветская агитация), такой же безвинный, как и я, имевший только трехлетний срок, радиотехник по образованию, Виктор Викторович Штенберг. Фамилию он унаследовал от какого-то далекого предка-немца, но немецкого в нем, пожалуй, кроме аккуратности во всем, ничего не было. Он был женат, но о жене вспоминал с неприязнью, так как она развелась с ним после публичного осуждения, с которым она выступила на общем собрании учреждения, в котором они оба работали. Виктор в концлагере был новичком. Он тоже прошел в течение некоторого времени общефизические работы в проволоке на «Вегеракше», а затем был назначен радиотехником на радиостанцию СЛАГа в городе Кеми, куда и был переведен на жительство. Временами радиостанцию электроэнергией снабжала КЭС, когда почему-либо ее энергоснабжение прерывалось с электростанции «Вегеракша». По служебным делам я и познакомился с ним, и мы сразу почувствовали симпатию к друг другу. Когда я стал питаться в общежитии ответственных работников, где питался и Виктор, мы познакомились еще ближе. С Ее переброской на Медвежью гору, когда мы с Виктором все свободное время стали проводить вместе, совершая прогулки по городу и окрестностям, мы очень подружились и всегда с удовольствием встречались.
Во время наших прогулок в послеобеденное время к нам стала примыкать та самая политзаключенная дама, с которой я встретился на имянинах у вольного механика городской телефонной станции. У нее был расстрелян муж, офицер Русской армии по «делу» «Мясохладобоен» в 1933 году в числе сорока жертв. Сама она получила десять лет срока концлагеря по 58 статье. Несмотря на то, что она была старше нас лет на десять, она стала с нами заигрывать на прогулках. Виктор ежедневно приглашал ее на прогулку с нами и я вскоре заметил, что у них начинается роман. С развитием его я постепенно выбыл из игры, называемой «третий лишний». Однако наша дружба с Виктором от этого не ослабела, а в дальнейшем еще более окрепла. Мы снова с ним встретились на Медвежьей горе, где он много скрасил мне жизнь. Приезжал он проведывать меня и в Пушхоз, куда я был переброшен в 1935 году. Дружбу со мной, заключенным, он не порвал и тогда, когда освободился из концлагеря и, оставшись вольнонаемным техником, стал носить чекистскую форму, которой он произвел, как он мне рассказывал, фурор, явившись в ней в отпуск к матери в Москву в родной дом. «Как соседи по комнате, - говорил он, - стали пресмыкаться передо мною и матерью, те самые соседи, от которых столько пережила мама, когда меня арестовали и посадили в концлагерь». Мое освобождение из концлагеря разлучило нас, а в 1937 году, чтобы его не компрометировать я был вынужден прервать с ним переписку и окончательно потерял из вида.
На Викторе кончается список моих закадычных друзей приобретенных мною в концлагере, общение с которыми так много скрасило в непроглядной тьме существования заключенного.
С каждым днем наступившей осени 1934 года я все более поддавался ощущению пройденности Кемского периода моего заключения, ожиданию переброски меня на Медвежью гору. В эту переброску я верил, хорошо изучив моих старших друзей, которые это мне обещали. И этот день наступил.
ПЕРЕЕЗД НА МЕДВЕЖЬЮ ГОРУ
Переезд на Медвежью гору из Кеми совершился в начале октября 1934 года, в классном вагоне и без конвоя среди вольных людей. Но прежде чем рассказать о нем подробно надо остановиться на двух случаях, происшедших со мной в городе Кеми, каждый из которых мог повлечь мой переезд еще раньше из Кеми, но под конвоем, в этапе к тому же в нежелательном для меня направлении – штрафником на лесозаготовки на материке в лучшем случае, или обратно на Соловки в СОСНУ для одиночного заключения с режимом быстро сводившим в могилу попавших туда политзаключенных.
В апреле и мае 1934 года вновь назначенный Верховный прокурор (эта должность по конституции 1936 года была переименована в Генерального прокурора) предпринял поездку по концлагерям ОГПУ, то ли по собственной инициативе, то ли по указанию ближайшего окружения Сталина, дравшихся между собой за места при вожде и нуждавшихся в компрометирующем материале против Ягоды, наиболее всесильного из сталинских приближенных. С армией секретарей Верховный прокурор осматривал лагпункт за лагпунктом, состояние которых прикрашивалось перед приездом высокого ревизора. Обходя бараки, места работ прокурор лично, на ходу, принимал заявления от заключенных. Безусловно, все просили о пересмотре своего дела, все старались встретиться с прокурором, чтобы самим передать в его светлейшие руки послания исстрадавшихся душ.
В конце мая прокурор посетил СОСНУ, где часть засекреченных было от него скрыто путем вывозки их заблаговременно на судах в открытое море. На возвратном пути он заехал на Кемперпункт и «Вегеракшу». Постоянно посещая управление Кемского отделения концлагеря, я был в курсе передвижения прокурора и точно узнал дату его приезда в Кемь в управление отделения. Однако вручить лично ему заявление о пересмотре своего «дела» с просьбой об освобождении я счел нецелесообразным, потому что только за декаду до его приезда я получил по пересмотру «дела» скидку в два года. К тому же я сомневался о преимуществе личного вручения прокурору такого заявления, поскольку их во всех концлагерях он собрал миллионы. Совсем другое дело было с моими подчиненными, у которых концы их десятилетних сроков еще очень были далеки и никаких скидок, кроме зачета рабочих дней, из них никто не получил. Они все горели желанием лично вручить Верховному прокурору свои заявления о пересмотре «дел». Казачий офицер отредактировал и каллиграфическим почерком написал от всех, в том числе и от себя, восемь заявлений от имени всего состава КЭС, за исключением меня. На меня легла задача организовать встречу персонала КЭС с прокурором.
Когда в управлении стало известно о прибытии прокурора на «Вегеракшу», я предупредил персонал КЭС, а сам забрался на второй этаж управления в комнату ответственного дежурного и сел у окна, из которого хорошо просматривалась улица ведущая на «Вегеракшу» до ее поворота. Я рассчитал, что с момента появления из-за угла прокурорского поезда у меня хватит времени сбежать по лестнице, добежать до КЭС и выставить персонал КЭС у входа в управление, где они и смогут вручить прокурору свои заявления. Время шло, я перебрасывался фразами с заключенным помощником ответственного по отделению дежурного сидящего у телефона, а прокурор все не показывался.
Вдруг из-за поворота, поднимая пыль, очень быстро несясь, показалась вереница фаэтонов. Я ринулся вниз, но кортеж меня обогнал и на наружных ступеньках входа в управление я чуть не сшиб Верховного прокурора. Увидя столь стремительно выскочившего из дверей человека, прокурор, подчиняясь выработавшемуся у него за время посещения концлагерей условному рефлексу, протянул ко мне руку за заявлением. У меня сработал условный рефлекс воспитания и тоже протянул руку прокурору. Руки наши на глазах всего начальства сомкнулись в крепком рукопожатии.
Поздороваться за руку с Верховным прокурором Союза ССР для заключенного было неслыханной дерзостью, за которую неминуемо последовало бы снятие меня с должности и отправка в лучшем случае на штрафной лагпункт на лесозаготовки с лишением всех зачетов рабочих дней, а может быть и еще что-либо худшее. Боковым зрением я увидел удивленное выражение лиц чекистов – начальника ББК Раппопорта, его заместителя Успенского, помощника Павлова, выкатившиеся от ужаса глаза начальника отделения Иевлева и начальника 3-й части, двух чекистов, знавших меня в лицо. Я увидел сделавшиеся уже подобострастными лица прокурорских секретарей и чекистов меньших рангов, очевидно подумавших о встрече прокурором своего знакомого. В черной толстовке с открытым воротом, в котором был виден воротничок светлой рубашки с галстухом бабочкой, в черном галифе и сапогах я совсем не походил на заключенного, стоя на одну ступеньку крыльца выше прокурора, хорошо просматриваясь толпой чекистов сопровождавших прокурора.
Моя судьба решалась долями секунды, надо было выходить из положения в которое я попал без всякого умысла. «Заведующий электростанцией такой-то», представился я прокурору, умышленно опустив слово «заключенный» перед своей фамилией. «Верховный прокурор такой-то», ответил он. К сожалению фамилию его я не запомнил. Не давая опомниться, широким жестом указав на видневшийся от меня справа вход в машинный зал КЭС, я сказал: «Прошу Вас осмотреть электростанцию». Прокурор посмотрел на меня усталыми глазами и, покорно повернувшись налево, пошел со мной рядом на КЭС.
Сзади нас следовали его секретари, все концлагерное начальство, пестрившее ромбами и шпалами в петлицах. По дороге я давал предварительные объяснения о назначении КЭС, а когда зашли в машинный зал сообщил мощность двигателей и динамо-машин, назначение распределительного щита. От всей ввалившейся свиты в машинном зале стало тесно, но все же персонал КЭС сначала оттесненный от входа, где они стояли как спринтеры готовые ринуться в бег по выстрелу из сигнального пистолета судьи на старте, чтобы вручить свои заявления, успели это сделать, без всякого бега, до ухода прокурора. Выслушав меня, и передав полученные заявления одному из секретарей, прокурор, не сказав ни слова, пошел к выходу, за ним вся свита. При этом я поймал взгляд Иевлева, не предвещавший мне ничего хорошего.
В изнеможении я опустился на деревянный диван перед столом дежурного у распределительного щита и закрыл лицо рукой. Персонал стоял молча, не произнося ни слова. Никто не решился потревожить меня даже словом благодарности. Они видели все и, очевидно, некоторые из них поняли в какую глупую историю я попал, стараясь для них.
Несколько дней я не находил себе места, ожидая кары за совершенный мною, хотя и невольно, поступок. Но время шло, и никаких даже намеков на возмездие не было. Очевидно, при всей своей службистости и жестокости по отношению к политзаключенным, у Иевлева и начальника 3-й части хватило смекалки не поднимать дела. Кроме их двоих, ни прокурор, ни высшее начальство не знали, что я заключенный и им в голову не могло прийти возможность такой дерзости со стороны заключенного здороваться за руку с Верховным прокурором. А если кто-либо из знавших меня, Иевлев или начальник 3-й части, сами доложили бы, то вместе со мной и им несдобровать, так как их обвинили бы в «распущенности» заключенных во вверенном им отделении концлагеря. Так для меня все и сошло. Я остался заведующим КЭС и вышел впоследствии из концлагеря живым. А тот самый верховный прокурор, которого я «осчастливил» рукопожатием был расстрелян в 1938 году, стал жертвой, как пишется «незаконного преследования в период культа личности».
Второй случай произошел в конце июля. В должности начальника Кемского отделения Иевлева уже больше месяца сменил Оглобличев, но начальник 3-й части остался тот же. Вероятно, он посчитал Оглобличева мягкотелым за его либерализацию концлагерного режима и стал действовать самостоятельно в обход Оглобличева. Чтобы уменьшить себе работу вечной слежки за политзаключенными, начальник 3-й части решил избавиться, говоря лагерным языком, от 58-й статьи. В одну из июльских ночей по тревоге были подняты рота войск ОГПУ, ВОХР и все работники 3-й части, которые по заготовленному списку вытащили с нар и топчанов политзаключенных. Ничего не понимающих сонных людей согнали на площадь в проволоке на «Вегеракше», сформировали этап, заперли в товарные вагоны, отвезли на Кемперпункт, где посадили на пароход и отправили на Соловки. От дикой расправы уцелел вместе со мной весь персонал КЭС и многие другие политзаключенные и не из-за симпатии к нам начальника 3-й части, а просто потому, как стало известно впоследствии, список был настолько длинным, что одним этапом операцию провести не удалось. Все фамилии персонала КЭС, а также уцелевших политзаключенных по начальным буквам пришлись на вторую часть списка, составленного в алфавитном порядке. В частях управления производственной, плановой, финансовой, снабжения ряды сотрудников поредели. В большом зале много столов в наступившем дне оказались незанятыми. На предприятиях тоже начался хаос из-за недостатка рабочей силы и руководителей. Все молчали, боясь проронить слово.
С началом вечерних занятий поползли по управлению слухи о возвращении этапа на «Вегеракшу». На Соловках его не принял начальник «СОСНЫ», письменно сообщив Оглобличеву, что хотя он тоже, как и Оглобличев, начальник отделения, но по инструкции подчиняется лишь Спецотделу Коллегии ОГПУ и может принять заключенных в «СОСНУ» только по «путевкам» Спецотдела и что даже начальник ББК не вправе пересылать заключенных из других отделений ББК в «СОСНУ».
Прыткий начальник 3-й части, обошедший Оглобличева с посылкой этапа, был вызван немедленно в кабинет начальника отделения. Несмотря на плотно закрытые двери, хорошо оббитые звукоизолирующим материалом, по всему управлению стал разноситься громоподобный голос Оглобличева, в воздухе висел сплошной мат. Заключенные работники общего отдела потом говорили, что никогда еще не видели медлительного и спокойного Оглобличева таким рассерженным, и один юркий работник уверял, что начальник 3-й части выходил из кабинета Оглобличева, спиной открывая дверь, а огромные кулачищи Оглобличева мелькали перед его носом. На другой день осунувшиеся, перепуганные работники частей управления, совершившие такую «увеселительную прогулку» на Соловки заняли свои обычные места за столами, рабочие и руководители политзаключенные на предприятиях и нормальная жизнь концлагеря потекла обычным чередом.
И все же начальник 3-й части, несмотря на сделанное ему Оглобличевым внушение, не оставил мысли избавиться хоть от части политзаключенных и отдал распоряжение своим подчиненным открыть усиленную кампанию по сбору компрометирующих сведений о каждом политзаключенном, чтобы иметь материал для переброски их, если не в СОСНУ, то в штрафное отделение на материке. Стукачей нахлестали, и они лезли из кожи вон, расшифровываясь в спешке своей грубой работой, точно старые заключенные были новичками и их можно было примитивными вопросами подцепить на удочку.
Об этой кампании я естественно не знал, как вдруг мне пришлось познакомиться с одним странным типом. Через недельку после неудачной отправки этапа на Соловки, когда я утром пришел на КЭС, казачий офицер доложил мне, что меня спрашивал какой-то человек. В том, что меня мог кто-нибудь спрашивать ничего не было особенного, но в концлагере, хотя я и жил на вольном положении и у чекистского начальства, как будто был на хорошем счету, всякий интерес, проявленный к моей особе со стороны кого-либо, воспринимается отрицательно, с подсознательной тревогой. Казачий офицер еще не успел закончить фразы, как на пороге появился незнакомый мне, интеллигентного вида, одетый во всё гражданское, молодой еврей, точно он вел наблюдение за моим приходом. В этом тоже не было ничего особенного, но как-то меня насторожило. Он направился прямо ко мне и, протягивая руку, представился: «Эскин». Я пожал ему руку, назвав свою фамилию. «Вы заведующий электростанцией?», - спросил он меня. Я ответил утвердительно. «Не возьмете ли меня на работу к себе, - попросил меня Эскин, - я работал мотористом на компрессорной станции в Ленинграде». И не давая мне ответить, как бы желая показать, что в безграничном доверии ко мне (которое и ожидает от меня к себе) открывает мне всю свою подноготную, продолжал: «Я троцкист, административно высланный на три года после отбытия трех лет заключения в политизоляторе. Почему я выбрал Кемь? Мою жену перевели из политизолятора на Соловки и я хотел быть к ней поближе». С меня было довольно. Слово «троцкист», произнесенное им, сказало мне о многом. Эскин и инструктировавший его работник 3-й части, по невежеству, допустили грубую ошибку. Словечко «троцкист» было придумано и пущено в ход сталинскими приспешниками и ОГПУ, кода последнее, по приказу Сталина, с 1928 года стала преследовать большевиков ставших в оппозицию к сталинской диктатуре. Так называемые троцкисты, хотя и придерживались мнений Льва Троцкого (Бронштейна) никогда не называли себя «троцкистами», они называли себя «большевики-ленинцы» в противовес «большевикам-сталинцам», поддерживавших мнения и диктатуру Сталин и его Политбюро. Мне это было прекрасно известно из встреч по тюрьмам и концлагерям с так называемыми «троцкистами» в действительности оппозиционерами Сталину, которые никогда не называли себя троцкистами, а только большевиками-ленинцами. Я сразу понял какой липовый оппозиционер пришел ко мне. Я объяснил Эскину, что КЭС электростанция концлагеря, что на КЭС работают заключенные, я тоже заключенный и права найма на работу не имею. Тогда Эскин вдруг проявил большую осведомленность о концлагерных учреждениях в городе Кеми: «Меня, - продолжал Эскин, - подкармливают здесь в столовой вольнонаемных, зовут работать в плановый отдел, но я же не могу участвовать в эксплуатации заключенных, как революционер, планировать для них принудительный труд, непосильные нормы»! Я промолчал, не высказав никакого возмущения о принудительном труде, эксплуатации заключенных. Не достигнув так успеха, Эскин пошел ва-банк. «Вы не беспокойтесь, меня прислали к Вам надежные люди», - заговорил снова Эскин, заглядывая мне в глаза. Мне уже было совершенно ясно кто послал ко мне Эскина и я спросил, глядя в упор: «Кто послал»? Эскин смешался. Возможно при разработке в 3-й части подхода ко мне, Эскину и назвали фамилии моих «однодельцев», а он их забыл, возможно и не удосужились посмотреть внимательно мое личное дело, а может быть в деле, поскольку я никого не знал до концлагеря из моих «однодельцев» фамилии их и не значились, а было только указание что я посажен по делу «Социал-демократического союза молодежи», но Эскин вместо прямого ответа начал рассказывать, как он сидел в политизоляторе и как они «троцкисты» дружили с сидевшими там же социал-демократами, как взаимно поддерживали объявляемые ими голодовки. «Не беспокойтесь, - сказал Эскин, - меня послали к Вам надежные люди», - очевидно намекая на социал-демократов, с которыми он якобы сидел и которые якобы послали его к «своему партийному товарищу». «Так что будем знакомы», - заключил Эскин. Я встал, протянул ему руку и сказал: «Лагерный режим запрещает общение заключенных с вольными людьми, поэтому наше с Вами знакомство невозможно, прощайте». Эскин не хотел уходить, он встал медленно, сунул как-то вяло свою руку и пошел к выходу. Я понимал его состояние, его печальные мысли, как он явится к своему «шефу» с пустыми руками, не сумев установить со мной связь, и как ему за это попадет. Как утопающий хватается за соломинку, так и Эскин уже с порога, обернувшись, задал мне вопрос: «Вы в шахматы играете»? «Нет», - отрезал я, хотя в шахматы и играл. Последняя его попытка завязать со мной тесные отношения провалилась. Больше Эскина я не видел и никто больше в дружбу ко мне не навязывался. Впрочем очень скоро начальник 3-й части был переведен. Оглобличев отделался от строптивого помощника. Присланный на должность начальника 3-й части чекист ничем себя не проявлял.
В середине сентября в Кемь ко мне на свидание снова приехала мать, второй раз в этом 1934 году, и в третий раз в город Кемь. Опять без всякого труда, я получил от председателя Горсовета разрешение на прописку матери и мы снова поселились в гостеприимной рыбацкой семье, где жили уже два раза. Несмотря на то, что была осенняя пасмурная погода и светлое время суток очень сократилось по времени года, и следовательно КЭС все большее количество часов в сутки работала, я мало времени в этот приезд матери уделял КЭС, которая работала ритмично и моего присутствия на ней не требовалось. Таким образом мы с матерью могли наслаждаться общением и значительное время днем. Я временно ушел с питания из общежития ответработников, взяв с 16-го сентября сухой паек, из которого мать готовила, прикупая на колхозном рынке, используя привезенные торгсиновские продукты, на нас обоих. Через неделю Оглобличев продлил мне свидание с матерью на неделю, а когда истекла и эта неделя, продлил еще на неделю.
В первых числах октября, когда до конца свидания с матерью оставалось еще три дня, из УРЧ мне позвонили, что на меня пришел вызов из УРО с Медвежьей горы, куда я и должен отправляться. Само сообщение работника УРЧ о месте моей переброски показывало насколько к лучшему в течение года изменились понятия. При переброске с Соловков я никак, несмотря на весь мой блат, не мог узнать куда меня повезут, заключенным об этом было строжайше запрещено знать. А теперь, без всякой просьбы с моей стороны, работник УРЧ по телефону сам прямо назвал мне место переброски. Вызов в данный момент был мне некстати, так как лишал меня трех разрешенных мне дней свидания с матерью, а может быть и больше при продлении свидания еще на неделю. Русанов и мать очень расстроились от этого известия. Первый от потери работника и надежного младшего друга, вторая от досрочного конца свидания со мной и неизвестности, что меня ожидает на Медвежьей горе. Последнее меня не тревожило, а досадно было терять разрешенные дни свидания с матерью.
Помня приказ о назначении вместо меня заведующим КЭС Катульского, приказ, который мы так и не выполнили, я позвонил на «Вегеракшу» Катульскому, чтобы он принял от меня КЭС по акту. Я мог и так уехать, поскольку юридически я числился инспектором ЭМБ, где передавать было нечего, но из осторожности я все же хотел иметь акт сдачи КЭС на руках во избежание всяких недоразумений в будущем. На другой день явился очень недовольный Катульский и в присутствии Русанова, как начальника ЭМБ, подписал заготовленный мною акт приемки-сдачи КЭС в трех экземплярах, из которых один я взял с собой.
Явившись после этого в УРЧ к работнику, звонившему мне накануне, я застал там генерал-майора казачьих войск, с которым я лично знаком не был, но давно знал в лицо по Соловкам. Он был политзаключенный, посаженный в концлагерь ОГПУ на 10 лет по Войковскому набору 1927 года. Сидел он в концлагере восьмой год и с зачетом рабочих дней ему оставалось не так долго быть заключенным. Несмотря на столько лет проведенных в концлагере, генерал-майор имел бодрый вид и годы не сказывались в его военной выправке. Всегда он был подтянут, как-то очень складно его небольшого роста, но коренастую фигуру обтягивала хорошо пригнанное защитного цвета лагерное обмундирование на Соловках и черная гимнастерка и черное галифе с сапогами в Кеми. Неизменный кавказский ремешок с позументами дополнял его запоминающийся облик, еще более привлекательным лицом с голубыми, светившимися по-молодому глазами. Он брил всегда наголо череп, оставляя только длинные совершенно седые усы, тщательно расчесанные параллельно губам и выдававшиеся по обе стороны овала лица. Генерал был талантливым музыкантом и играл на Соловках в оркестре на флейте, состоя в музыкантской команде, а затем когда ее расформировали, перешел на должность делопроизводителя финчасти, продолжая по вечерам играть в оркестре, как и другие музыканты, разогнанные на разные работы. С Соловков в Кемь его перебросили раньше меня и в Кеми я застал его на какой-то канцелярской должности, сначала в управлении СЛАГа, а затем в управлении Кемского отделения ББК.
«Поедете вместе, - сказал мне работник УРЧ, указывая на генерала, - документы я передам ему. Договоритесь, чтобы ехать вместе, поезд идет в 11 часов вечера». Тут же генералу был вручен объемный пакет с его и моим личным делом, запечатанный пятью сургучными печатями и адресованный на имя начальника УРО ББК. Мы оба откланялись, генерал пошел в финчасть получить два литера на проезд по железной дороге от станции Кемь до станции Медвежья гора. По дороге я с генералом условился, что попытаюсь достать лошадь и заеду за ним в общежитие ответработников, где он жил, в девятом часу.
Разговор в УРЧ был для меня полной неожиданностью. Я ожидал получить распоряжение идти на «Вегеракшу» в роту (теперь колонну) в списках которой я числился и там находиться как рядовой заключенный, может быть даже испытать посылку меня на общие физические работы, пока не сформируют этап на Медвежью гору. В моем воображении также рисовалась мрачная картина предстоящего этапного пути в столыпинском вагоне, разделенном на купе-клетки со сплошными двойными нарами, в тесноте и духоте, зажатый со всех сторон вороватыми уголовниками. Затем мне предстояло бы на пересыльном пункте Медвежьей горы в таком же окружении словчиться сообщить о своем прибытии моим старшим друзьям, чтобы они поскорее вытащили меня на место, предназначенное мне. И вдруг … вдруг все тяготы заключенного отпали и я еду как вольный человек. Вероятно, в 3-й части Кемского отделения согласились с мнением УРЧ, что можно довериться двум политзаключенным, не опасаясь их побега, вследствие краткости срока оставшегося им быть в заключении. Мне оставалось сидеть в концлагере не больше полугода, генералу может быть еще меньше. И нас отпустили без конвоя.
Я тотчас же сообразил о возможности нашей с матерью совместной поездке на Медвежью гору, где с помощью моих старших друзей есть надежда на дальнейшее продление свидания с ней. Она очень обрадовалась и мы стали собираться в дорогу. Я притащил остаток своих вещей из занимаемой мною комнаты в управлении, сдав коменданту здания топчан и тюфяк и распрощавшись со своим однокомнатником – кассиром финчасти. По телефону я попросил заключенного начальника конного парка, помещавшегося в городе, дать мне лошадь на вечер для перевозки вещей на вокзал. Хотя я уже был не заведующий КЭС, телега запряженная лошадью и с возчиком была точно в 9 часов вечера подана к дому, где мы жили с матерью.
С присылкой и привозом матерью мне гражданской одежды, я очень оброс вещами в Кеми, к тому же и книг прибавилось. У матери было два пустых чемодана, привезенных ею с торгсиновскими продуктами. Уложив эти два чемодана, с мешком у нас получилось четыре места. Разместившись на телеге так, чтоб осталось место для генерала и его вещей, мы поехали на станцию железной дороги.
Повернув на главную улицу, на которой стоял Собор и управления концлагерем, я неожиданно увидел на досчатом тротуаре Виктора под руку со своей дамой. Я узнал их больше по ее белому берету, хорошо видневшемуся в темноте. Они пожелали нам счастливого пути, а Виктор на ухо шепнул мне о ближайшем его переводе на Медвежью гору, куда уже переведен на радиостанцию ББК его вольнонаемный кемский начальник, обещавший ему перевод.
С каждым поворотом колеса выплывали памятные места, связанные с тем или иным, приятным или неприятным случаем во время пребывания в Кеми. Они будили воспоминания о прожитом. Сколько раз я быстрым шагом ходил по улице к железнодорожной станции в депо при ремонте дизеля в этом и прошлом году. Вот здание Леспромхоза, куда я наведывался в связи с зарядкой здесь аккумуляторов для его радиостанций, а однажды даже с дипломатической миссией, оставивший глубокий след в моей памяти по впечатлениям полученным в ходе ее реализации.
Как-то в июне месяце 1934-го года я был вызван в кабинет начальника Кемского отделения ББК, к Иевлеву, доживавшему последние дни в Кеми. У него я застал растерянных заключенных начальников частей финансовой, общего и технического снабжения. Начальник финчасти изложил мне, что Леспромхоз предъявил ББК к оплате огромную сумму за занятую еще при хозяйничании СЛАГа пристань Леспромхоза в порту на Поповом острове. Начальники снабжения, перебивая друг друга, стали объяснять мне, что пристань теперь, когда на Соловках нет никакого производства и численность заключенных там незначительна грузооборот до того сократился, что пристань больше не нужна, но возвратить ее Леспромхозу не представляется возможным так как она завалена какой-то тарой, на уборку которой нет рабочей силы. Леспромхоз не принимает ее захламленной и продолжает считать ее в аренде концлагеря, пользуясь чем, хочет содрать большую сумму, которая не входит в утвержденную расходную смету Кемского отделения. Таким образом, заключили они, надо уладить конфликт с Леспромхозом, пообещав ему очистить со временем эту пристань и уговорить Леспромхоз не взыскивать арендной платы.
Казалось чего проще: послать рабов и очистить пристань. Но дело с использованием рабочей силы, труда заключенных с 1933 года стало значительно труднее. Гигантский рост масштаба и количества строек на подневольном труде, стремление как можно более эффективно использовать рабов, ОГПУ ввело в концлагерях «чековую» систему на затребования из УРЧ рабочей силы. Заключалась эта система в следующем. Каждому прорабу на стройке, руководителю промышленного предприятия выдавалась лимитированная в трудоднях чековая книжка. Лимит определялся промфинпланом, иначе говоря, сколько полагалось трудодней на изготовление продукции или эксплуатацию предприятия или выполнения объема строительных работ в месячном плане человеко-дней, столько и мог затребовать руководитель в течение месяца заключенных на работу во вверенном ему участке. И больше ни одного заключенного. У меня тоже была такая лимитированная книжка, из которой я ежедневно вырывал чек заполненный на девять заключенных, в том числе и на самого себя и отсылал его нарядчику колонны, в списочном составе которой состоял весь персонал КЭС. Нарядчики колонн ежедневно по полученным ими чекам от разных руководителей высылали заключенных на работу в соответствующие предприятия и стройки и затем по этим же чекам отчитывались перед УРЧ, а та в свою очередь перед УРО, об использовании заключенных. Естественно никакого промфинплана на уборку тары на пристани не было и в использовании труда заключенных на этих работах отчитаться было нечем. Поэтому с пристанью у концлагеря получалось безвыходное положение. Впоследствии, с 1935 года, чековая система в концлагерях была отменена «как сделавшая полезное мероприятие по укреплению финансовой дисциплины на стройках и предприятиях лагерей и не соответствующее возросшей сознательности руководящих кадров» (так гласил приказ по ГУЛАГУ ОГПУ). Попросту с чеками так запутались, что решили их отменить.
Я с недоумением посмотрел на всех присутствующих в кабинете – какое ко всему этому имели отношение КЭС или я? Сделав реверанс в сторону развалившегося в кресле Иевлева, начальник финчасти стал мне объяснять: «Гражданин начальник решил, чтобы Вы пошли к директору Леспромхоза, как заведующий электростанцией, и поставили его в известность о прекращении подачи электроэнергии Леспромхозу вследствие остановки двигателя на ремонт». Шантаж был налицо. Иевлев взглянул на меня торжествующе, мол вот какой я умный, как ловко придумал. «И не церемониться с ними, - повысив голос, сказал Иевлев, - пусть почувствуют, что имеют дело с ОГПУ»! Последнее слово он произнес напыщенно, растягивая буквы, и поднял указательный палец кверху. Я сказал: «Слушаюсь», а начальник техснабжения, обращаясь к Иевлеву, попросил, чтобы и я для лучшего ознакомления с создавшимся положением поехал бы с начальниками частей здесь присутствующими на пристань. «Пускай поедет», - милостиво разрешил Иевлев. Терять день в разгар ремонта дизеля мне очень не хотелось, но ехать на Попов остров все же пришлось.
Утренний поезд уже ушел и мы поехали в 4 часа дня, а пристани достигли около 6 часов вечера. У причалов стояли иностранные лесовозы, на них грузили лес и пиломатериалы с расположенного здесь же лесопильного завода концлагеря. Другие пароходы стояли на рейде, ожидая очереди принять лесной груз, идущий широким потоком заграницу за валюту, пропитанный потом и кровью заключенных. Нас обогнала вереница заключенных, шедшая под конвоем и несшая на палках на плечах огромные баки с дымящейся похлебкой из ржавых тресковых голов, издающих специфический запах, и мутной водичкой называемой кашей – обычный обед заключенных. Мы проследили как по сходням они вносили баки на стоявший под погрузкой лесовоз и разнесли их по палубе. На мачте парохода реял немецкий трехцветный флаг, а на корме был поднят красный флаг с белым кругом в середине, на котором отчетливо выделялась черная свастика. Германия тоже пришла к однопартийной системе и партийный флаг национал-социалистической партии был обязателен на всех немецких судах.
Когда мы почти миновали немецкий лесовоз послышался грохот с оттенком удара по железу. Мы обернулись и увидели как здоровенный немецкий моряк начал опрокидывать на палубе принесенные баки. Обед заключенных через клюзы выливался в море. От особо сильных пинков ногой некоторые баки падали на пристань, производя тот грохот, который заставил нас обернуться. На ломаном русском языке, как можно громче, немец кричал: «Таким обедом людей нельзя кормить, в Германии свиньи такого не едят»! Заключенные остановили погрузку, конвой на палубе прижался к надстройкам, опасаясь разбушевавшегося боцмана.
Как я потом узнал, сроки погрузки немецкого лесовоза оказались затянутыми и бригаде заключенных, занятой на его погрузке, был отдан приказ, не сходя с парохода, продолжать работу во вторую смену, благо круглые сутки светло. Процессия с обедом для этих заключенных, которые не ели и без отдыха работали уже почти двенадцать часов, нас и обогнала. Немцы в духе пропаганды Геббельса решили устроить «показуху», которую потом в нашей стране в таких масштабах переняли коммунисты. Пользуясь любым случаем, нацисты всегда подчеркивали превосходство их системы над коммунизмом. На пароходе они показали качество немецкого питания над русским. Когда все баки были опрокинуты, из пароходного камбуза появилась вереница немецких матросов с мисками, которые с ложками и хлебом они роздали заключенным. Обед был на славу, такого обеда заключенные давно не видали и он, конечно, ни в какой мере не мог быть сравним с концлагерной бурдой. Конвой растерялся и заключенные под торжествующие взгляды немцев, вкусно и сытно пообедали, после чего погрузка продолжалась. Факт с немецким обедом получил широкую огласку и на Кемперпункте и в Кеми и, по всей вероятности, был широко использован национал-социалистической пропагандой заграницей. Какое возмездие за допущение этого инцидента получили тюремщики от вышестоящего начальства мне не известно.
Пристань, которую мы должны были осмотреть, представляла собою дикое зрелище захламленности пустыми бочками, ящиками годными и ломанными и по своему прямому назначению не могла больше функционировать. Ни пробраться по ней, ни подойти к причальной линии не было никакой возможности. Очевидно тару привозимую с Соловков тут же бросали с пароходов и никуда ее не отвозили. Сердце щемило как гнили в повышенно-влажном климате все ценности созданные руками того самого рабочего класса «захватившего власть», от имени которого распоряжались в стране новые хозяева. Эти «богатые дяди», никогда не имевшие представления о повседневном труде создающем ценности, органически не могли беречь добро, которое пропадало зря. С таким хозяйничаньем любой богатый дядя давно вылетел бы в трубу, стал бы нищим дядей, но поскольку все было «общенародным достоянием», то никто и не заботился о его сохранности. С тяжелым сердцем я вернулся в Кемь из этой поездки. Картина глупого расточительства стояла перед глазами.
На другой день я пошел в Леспромхоз и дождался директора. Я кратко объявил о приостановке снабжения электроэнергией Леспромхоза вследствие ремонта главного двигателя. Директор мое известие принял очень остро. Действительно Леспромхоз попадал в безвыходное положение, так как коммунальная станция в светлые месяцы года вообще не работала, а без зарядки аккумуляторов прерывалась вся связь Леспромхоза с лесозаготовками. Директор униженно стал просить меня как-нибудь не срывать зарядки аккумуляторов. Мне было жалко директора, и в то же время в душе я смеялся, как коммунист Иевлев поставил своего партийного товарища в унизительное положение передо мной – «презренным заключенным контрреволюционером». Я заверил директора, что от меня ничего не зависит, и если начальник Кемского отделения прикажет подавать электроэнергию с запасного двигателя за счет абонентов лагеря, то мое дело маленькое, аккумуляторы у него будут заряжены и посоветовал позвонить Иевлеву. Директор сразу же ухватился за мой совет и позвонил Иевлеву, который только и ждал звонка. Телефон на новеньких сухоналивных элементах, которыми я снабдил механика городской телефонной станции, работал прекрасно и я слышал не только то, что говорил директор, но частично и то, что говорил Иевлев. Вначале Иевлев безоговорочно поддержал меня и наотрез отказал в электроэнергии. После долгих просьб директора, Иевлев как будто смягчился и между прочим упомянул о злополучном счете за аренду пристани. Директор сразу смекнул в чем дело и пообещал переговорить с управляющим треста «Кареллес». Я ушел от директора, а через несколько дней получил приказ снова подключить Леспромхоз. «Кареллес» больше не настаивал на оплате счета и передачи ему пристани. Так впервые в жизни я столкнулся с междуведомственными дрязгами, когда руководители организации выступали как частновладельцы их, забывая о принадлежности всех организаций одному хозяину – партийной верхушке.
Миновав Леспромхоз, мы подъехали к общежитию ответработников, которое светилось не всеми окнами, вследствие того, что все его обитатели находились еще на вечерней работе. Электрический свет наполнил меня удовлетворением за хорошую работу КЭС, ставшей моим детищем. Я был под впечатлением трогательного прощания со мной персонала опечаленного моим отъездом и желавшем, всяк по своему, но безусловно искренно, мне скорого освобождения. Особенно тронул меня заключенный-бытовик, слесарь-шорник, всегда замкнутый, скупой на какие-либо чувства. При известии о моей переброске он не удержался и дрожащим от волнения голосом, срывающимся на рыдание, объявил всем: «Нет, такого начальника в лагерях мне больше не встретить»!
Я зашел в общежитие за генералом, взял его маленький легковесный чемодан. Генерал через плечо взял вещевой мешок, в руку флейту в футляре. Она для него была самая ценная из вещей, в ней была его душа, все что у него осталось на склоне жизни. Я познакомил его с матерью, он щелкнул каблуками, назвав свою фамилию, которую, к сожалению, я не помню. Приехали на вокзал, внесли вещи в зал ожидания, генерал с матерью пошли в кассу за билетами, а я остался с вещами. Вскоре они вернулись с билетами. Прошмыгнул оперативник 3-й части в гражданской одежде, скользнув взглядом по нас. Он знал нас в лицо, я его. Возможно, он знал и мать, но не подошел проверить документы. Хорошо, что это был 1934 год и до 1-го его декабря. Иначе вряд ли он допустил нашу совместную с матерью поездку. В 1936 году, будучи еще заключенным, я ехал из Пушсовхоза в командировку на Медвежью гору без конвоя. Попутчиками в автобусе, отходившем из Повенца на Медвежью гору, оказались заключенный профессор-энтомолог и его жена. Свидание в Пушсовхозе у них было закончено и профессор выпросил себе командировку на Медвежью гору, чтобы проводить жену и на Медвежьей горе посадить ее в поезд. Перед отходом в автобус влез гроза всех беглецов заключенный работник 3-го отдела, бывший пограничник, еврей Вайнер и попросил у всех пассажиров документы. Дойдя до профессора с женой и установив общность их фамилий, немедленно высадил профессора, порвал его командировочное удостоверение, объяснив, что не может допустить отъезда заключенного с его женой, хотя бы и со свидания, так как не знает, может быть у его жены есть фальшивый паспорт для мужа и профессор собрался бежать из концлагеря. Профессору он не дал проститься с женой и отправил автобус. С такой точки зрения мое положение было более предосудительное, так как в Кемском отделении я убыл и никто не стал ждать моего возвращения, а на Медвежьей горе я еще не числился и если бы я захотел бежать, то пока с Медвежьей горы не было бы вторичного запроса, а Кемь не ответила бы, что я убыл, я бы с фальшивым паспортом был бы далеко. В действительности же никто не воспрепятствовал нашей совместной с матерью поездке.
К приходу поезда вышли на перрон. Все было как-то необычно для меня. Эта самостоятельная поездка в поезде на дальнее расстояние вселяла в меня страх схожий с тем страхом, который я испытал более пяти лет назад на Соловках. Тогда, после сидения в тюрьме, где меня водил тюремщик, после этапа, где я шел под конвоем направлявшим мое перемещение в пространстве, я впервые без конвоира самостоятельно боялся пересечь кремлевский двор. Тогда я не мог сделать ни шагу, теперь я не представлял себе как я подниму ногу на ступеньку вагона. И этот страх сразу рассеялся, как только я вспомнил, что рядом со мной стоит моя мать, самый надежный конвоир всей моей жизни, такой конвоир, которого я пожелал бы иметь всякому и каждому. Мне стало сразу легко и безбоязненно, своим присутствием она как бы управляла моем перемещением и на дальнее расстояние. Сразу все прошло, я храбро предъявил проводнице все три билета и подсадил в вагон мать, передал чемоданы генералу на площадку вагона и влез сам.
Вагон был полупустой, и мы втроем заняли одно отделение. Мать и генерал разместились на нижних местах, я занял полку над матерью. Вторая верхняя полка так и оставалась незанятой во все время нашего путешествия. Мы стали ужинать бутербродами с торгсиновской колбасой, привезенной матерью. Пригласили генерала. Сначала он отказывался, потом все же съел бутерброд. Генерала научили молчать, он отвык от общения с людьми своего круга, и мне показалось, что ему было неудобно в присутствии матери этого привитого ему порока. Я предложил устраиваться на ночлег и залез на свою полку. Долго не мог заснуть, вспоминая как по этой самой дороге более пяти лет назад меня везли на север под конвоем в кованом вагоне, как преступника. Сейчас я ехал как вольный человек в обратном направлении, на юг, хотя и не туда куда бы хотелось, потому что я все же был заключенным.
Ночью меня разбудили разговоры и яркий свет фонаря, направленный мне в лицо. Я поднялся на локте и увидел генерала сидящим на своем месте. Мать лежала с открытыми глазами. Перед генералом стоял оперативник 3-го отдела, с кобурой у пояса, в проходе стоял солдат ВОХРа с винтовкой. Генерал объяснил оперативнику: «Я и вот молодой человек (жест в мою сторону) мы оба заключенные, едем по вызову УРО на Медвежью гору, документы в моем чемодане на дне, хотите, достану пакет». «Ладно, не надо», - буркнул оперативник, свет погас и патруль удалился, не потревожив мать. Так мы прошли проверку, осуществлявшуюся 3-м отделом во всех поездах Мурманской железной дороги в пределах от Мурманска до Петрозаводска на территории ББК. От Петрозаводска до Волховстроя проверку осуществлял 3-й отдел «Свирлага», это была его территория. Проверка производилась на перегонах между станциями, чтобы не всякий беглец рискнул на ходу выброситься из поезда.
При подъезде к Медвежьей горе, куда мы прибыли около 9-и часов утра, я обнаружил пропажу своих галош, которые, ложась спать, я поставил на верхнюю полку над собой. Сквозь сон я слышал, как кто-то лазил по третьим полкам и, приоткрыв глаза, видел двух малолетних шпаненков в лагерном обмундировании. В вагоне вечером я видел нескольких таких типов, не то везомых куда-то под конвоем, не то освобожденных из концлагеря. Стало совершенно ясно, кто украл у меня галоши, но искать воров уже некогда было, поезд тормозил. И тотчас же я вспомнил о случае с заключенным начальником отделения общего снабжения управления СЛАГа Лапиным. Как-то возвращаясь в Кемь из командировки в одно из северных отделений концлагеря, утром приехал на станцию Кемь и принужден был выйти из вагона в носках. У него ночью украли ботинки. По его телефонному звонку в управление, его помощник выписал со склада ботинки его номера и отнес ему на вокзал, чтобы Лапин по городу не шел в носках. Я еще хорошо отделался, не сняв на ночь сапоги. Поезд остановился. На здании деревянного вокзала виднелась вывеска: «Медвежья гора».
НА МЕДВЕЖЬЕЙ ГОРЕ
На Медвежьей горе я пробыл всего четыре месяца из-за обстоятельств возникших после убийства Кирова, о которых я расскажу несколько позже.
Поселок Медвежья гора в Карелии (теперь переименованный в город Медвежьегорск) получил свое название от расположения на восточном берегу горы Медвежьей. Когда в 1929 году меня заключенного в кованом вагоне провозили из Москвы на Соловки через станцию Медвежья гора все склоны горы были покрыты густым бором исполинских сосен, который наряду с песчаной почвой представлял собой рай для проживания медведей. От обитателей этой горы, очевидно, она сама в прошлые века получила название «Медвежьей». Поднимаясь от берега Онежского озера довольно малым уклоном, который на небольшой высоте переходил в большую крутизну, гора заканчивалась на вершине ровным плато.
Эта особенность рельефа разделяла поселок Медвежья гора на два: нижний у берега и верхний на плато. Последний был незначительный, не более двадцати домов, в то время, как нижний насчитывал более ста, где преимущественно жили рыбаки. В нижнем поселке были почта, магазин, сельсовет со всеми официальными учреждениями. Станция Мурманской железной дороги расположена выше нижнего поселка у самого начала крутизны склона горы. Полотно железной дороги огибает поселок на довольно значительной высоте, поднимаясь на отроги Медвежьей горы, выдающиеся в озеро с обеих сторон поселка. Радиус закругления полотна в этом месте не выдерживает никаких норм железнодорожного строительства из-за своей малой величины. На это обстоятельство я обратил внимание еще в 1929 году, когда из окна кованого вагона, шедшего в голове поезда, я увидел хвост нашего длинного товарного состава двигавшегося в обратную сторону по отношению к движению нашего вагона.
На плато было расположено довольно большое озеро, под названием Китайское. Происхождение названия озера местные жители связывали с совершенно недавними временами, с эпизодом происшедшим весной 1919 года, когда части армии генерала Миллера, составлявшие вооруженные силы правительства Севера, возглавлявшегося социалистом-революционером Чайковским, стремительно теснили на юг красных. На станции Медвежья гора оказался красный полк, состоящий исключительно из китайцев, ударной части Красной армии. Отступление на юг ему было отрезано, и полк вынужден был отступать в спешном порядке на запад. Оторвавшись от противника, китайцы спокойно вышли на плато и предпочли маршу по заснеженным лесным склонам, продвижение по безлесной долине, за которую они приняли замерзшее озеро. Озлобленные на китайцев за их грабежи и бесчинства, местные жители не предупредили китайцев об опасности, весенний лед не выдержал и весь китайский полк утонул в озере.
Из Китайского озера вытекают реки Кумса и Вичка. Кумса с большой высоты низвергается севернее поселка в Онежское озеро. Несмотря на небольшой водный дебет эта река, благодаря крутизне русла, должна была дать достаточную энергию для гидроэлектростанции мощностью семьдесят тысяч киловатт. Такая станция была запроектирована уже в 1934 году гидротехнической лабораторией ББК. А пока все бараки концлагеря и поселок освещались дизельной электростанцией ББК мощностью в 600 киловатт. Река Вичка, делая сложные зигзаги, и имея один водопад, тоже впадала в Онежское озеро, но значительно севернее Кумсы. У водопада на Вичке был расположен сельхоз ББК «Вичка», куда временно была переведена из Кеми Зональная станция Академии наук.
С началом строительства Беломорско-Балтийского канала между Онежским озером и Белым морем в 1931 году в поселке Медвежья гора обосновалось управление Беломорско-Балтийского лагеря. Здесь Мурманская железная дорога выходит непосредственно к берегу Онежского озера в самой северной его части всего в полусотне километров от ст. Повенец, откуда начинается канал с берегов Онежского озера. Для доставки грузов на строительство канала с перевалкой из вагонов железной дороги на плавучие средства по озеру, место было выбрано удачно. Этого нельзя сказать для управления строительством, штаб которого оказался не только в центре строительства, но даже и в удалении от его начала.
Вблизи железнодорожной станции на вырубленных участках были построены лагерные бараки, двухэтажные для управления, одноэтажные для заключенных. Часть одноэтажных бараков была обнесена колючей проволокой, часть стояла между деревьями, образуя улицу, а некоторые даже вклинились в нижний поселок. Для начальства были построены коттеджи и многоквартирные двухэтажные дома, для войск ОГПУ казармы. Были построены также театр с кинопроектирующей установкой, баня, госпиталь, общая кухня, две столовые для вольнонаемных и заключенной элиты. На плато возвышалось здание радиостанции. Все постройки, в том числе и складские помещения, были деревянными. Исключение составляло строящееся в 1934 году из кирпича огромное четырехэтажное здание гостиницы для иностранных туристов на самом берегу Онежского озера. Соловецкий лагерь особого назначения построил гостиницу для иностранных туристов в городе Кеми. Беломорско-балтийский лагерь построил такую же гостиницу на Медвежьей горе. В строительстве концлагерями объектов такого назначения был какой-то парадокс. Внутри страны о существовании концлагерей все знали, но молчали, так как официально печать и радио тщательно обходили этот факт и за упоминания о нем в разговоре граждане платились заключением в концлагерь. И в то же время в районе расположения концлагерей открывались гостиницы для иностранных туристов, как будто специально, чтобы весь мир узнал о них, к тому же и подробно.
Как только мы вышли из вагона на станции Медвежья гора я был поражен сухостью воздуха, ароматом сосен. Воздух был теплый, несмотря на октябрь месяц, низкую облачность и присутствие вблизи огромного объема вод Онежского озера. Чувствовалось наше перемещение на юг на 250 километров. Под ногами был песок. Медвежья гора была каким-то оазисом среди сырой, болотистой, каменной Карелии. Недаром недалеко от станции железнодорожники открыли санаторий для своих работников больных туберкулезом. Климатические условия на Медвежьей горе были превосходные.
Оставив мать с вещами на вокзале, мы с генералом пошли в УРО. Из нелегальной переписки со своими друзьями на Медвежьей горе генерал знал о вызове его музыкантом в театр. Лично я ничего не знал о своей будущей должности и мог только предполагать, что вызов сделан Боролиным. Поэтому по дороге я договорился с генералом, что он один оформит документы в УРО, а сам пошел искать отдел главного механика. В поисках Боролина я обошел несколько управленческих бараков. Все они были построены по одному типу коридорной системы в обоих этажах с небольшими комнатами 14-16 квадратных метров с печным отоплением. В большинстве отделов комнаты были набиты до предела, рабочей площади для заключенных явно не хватало. В коридорах и комнатах я все время натыкался на знакомых мне заключенных по Соловкам и Кеми. Радостные возгласы, рукопожатия, расспросы. С каждым надо было перекинуться хоть двумя словами. Прошло много времени, а я никак с этими встречами, не мог дойти до цели своих розысков. В одном из бараков, в коридоре, когда я только приоткрыл дверь в одну из комнат, кто-то крепко ухватил меня сзади за плащ. Обернувшись, я увидел улыбающегося Лозинского. «Я Вас давно жду, где же Вы были?», - проговорил, весь сияя, Лозинский. Я объяснил о своем отбытии из Кеми только накануне и он повел меня в следующую дверь.
В комнате стояли четыре стола. За одним сидел знакомый мне в лицо еще в Кеми политзаключенный еврей Райц, работавший в Кеми в ПРО СЛАГа. Райц в бытность свою на воле в Москве владел обувной фабрикой, при НЭПе ее арендовал, а затем был посажен по 58 статье пункту 7 (вредительство) на десять лет в концлагерь. Он был специалистом по коже и обуви. Второй стол занимал политзаключенный офицер Русской армии Антонов Николай Николаевич сидевший в концлагере по 58-й статье пункт 10 (антисоветская агитация) и имел срок в пять лет. Лозинский представил меня обоим, как нового сотрудника, указал мне на свободный стол. Затем он мне объяснил все.
При ББК создана Инспекция Главного управления лагерей ОГПУ (сокращенно ГУЛАГа ОГПУ), на которую возложено управление и ответственность за работу тех предприятий ББК, которые выполняют заказы ГУЛАГа по материальному обеспечению всех концлагерей страны. Такими предприятиями были Пошивочная фабрика на «Вегеракше», Канатная фабрика на Беломорско-Балтийском канале в селе Сорока (теперь город Беломорск) и достраивающийся и частично пущенный в эксплуатацию Кожевенный комбинат, вырабатывающий кожу и кожаную обувь. Последний был расположен в нескольких километрах от Медвежьей горы по трассе на Повенец. Была еще войлочно-валяльная фабрика, изготовлявшая войлок и валенки, но о ней у меня сохранились смутные воспоминания и точное ее местоположение я не помню. Начальником инспекции был Лозинский, его заместителем Райц, делопроизводителем Антонов. Я был назначен на должность инспектора-электротехника. Весь штат состоял из четырех единиц.
Итак я был вызван не Боролиным, а Лозинским, по согласованию с Боролиным. Дальнейшее показало полную ненужность моей должности, и я совершенно уверен, что она была создана милейшим Всеволодом Федоровичем только для того, чтобы вытащить меня из Кеми, снять с меня ответственность по заведыванию КЭС и иметь около себя верного человека.
Однако назначение меня инспектором-электротехником Инспекции ГУЛАГа, как мне казалось, снова выставило меня в неприглядном виде по отношению к Боролину, моему наставнику и благодетелю. Я уже рассказывал, как в душе он остро воспринимал всякое покровительство тому, кого он опекал, со стороны иного лица. Теперь опять вышло, что меня облагодетельствовал вызовом из Кеми не он, а Лозинский. И еще хуже я выглядел со своей должностью ущемлявшей права Боролина, как главного механика ББК, подчиненных Инспекции. Я оказался главным энергетиком в миниатюре.
Лозинский позвонил в УРО и просил скорее оформить меня приказом на должность. Но я не пошел в УРО, меня очень мучило мое фальшивое положение и я все же отыскал кабинет главного механика. Боролин встретил меня очень радушно, усадил и сразу расспросил в какую колонну меня зачислили, какой паек я получил. Мне было не до бытовых удобств, не до пайка. Я начал с выражения благодарности Боролину за вызов на Медвежью гору, что очень понравилось ему, и напрямик сказал о своем нежелании работать у Лозинского на такой должности из-за отсутствия у меня достаточных знаний и главное из-за нежелания независимо от него, главного механика, распоряжаться энергетическим хозяйством предприятий Инспекции. У Боролина появилась еще более широкая улыбка, чудные его голубые глаза так и светились расположением ко мне. Я не мог заподозрить у него и тени недовольства мною. «Эх, дорогой мой (и он назвал меня по имя отчеству, что, впрочем, всегда делал) не принимайте свою должность всерьез. У меня для Вас просто места нет, вот мы и договорились с Всеволодом Федоровичем (Лозинским) в отношении Вас. Все Ваши предприятия остаются в подчинении у меня в области энергетики. Вы отдыхайте на этой должности, а когда Вы мне нужны будете, я буду Вас загружать работой на отдел главного механика. Ко мне обращайтесь, как и прежде, в любой момент. Впрочем Вам и в лагере осталось быть недолго?!». Я сообщил ему о своих подсчетах конца срока в апреле 1935 года. «Ну и хорошо, - обрадовался Павел Васильевич, - еще успеете кое-что сделать и для меня, а пока идите и устраивайтесь». С крепким рукопожатием, гора свалилась у меня с души. Все обстояло как нельзя лучше.
Я пошел в УРО, где сразу получил направление в колонну, номер которой испарился у меня из памяти. Колонна оказалась на лагерном пункте обнесенном проволокой, однако ворота оказались настежь распахнутыми и никакой стражи в них не было. Я разыскал канцелярию колонны и писарь, приняв от меня направление, предложил самому найти место в бараке. Барак имел вагонную систему двухъярусных нар. Я не придал значения словам писаря «найдите сами место», но постепенно зашел в тупик. Заглядывая в каждое отделение по обе стороны прохода, я убедился в отсутствии хотя бы одного свободного места. Ошеломленный таким обстоятельством, я, случайно, встретился с одним соловчанином, заключенным-бытовиком. В 1931 году он был заведующим и продавцом в магазине для заключенных. Запомнился мне он по заметке сопровождаемой карикатурой, поданной мне в стенгазету. Карикатура изображала его стоящим в ванне, а машинист электростанции тер ему спину. Заметка гласила о подхалимстве машиниста N, проводящего завмага в ванну электростанции и всячески прислуживающего завмагу в надежде поживиться дефицитными продуктами. Карикатура и заметка имели успех, машинист был посрамлен за свое подхалимничание.
Бывший завмаг указал мне на соседнюю с ним нару, сказав, что я могу на ней спать, пока ее владелец не приедет из командировки. Поблагодарив завмага, я пошел снова в канцелярию и доложил пришедшему командиру колонны о полном отсутствии свободных мест в бараке. Командир согласился со мной, что барак перегружен и добавил, что не я один без места, но все безместные все же где-то ночуют. Это был явный намек на полную незаинтересованность командира в моем присутствии в бараке даже ночью. Потом мне стало ясно, что многие заключенные только числились в бараке и без всякого риска ночевали у своих возлюбленных вольных гражданок в поселке. Я решил больше не надоедать командиру с местом и снять с матерью комнату в поселке, надеясь на продление свидания. Я еще раз переговорил с бывшим завмагом, обрисовав необходимость комнаты для матери, приехавшей на свидание. Он охотно дал мне адрес, очевидно своей возлюбленной, упомянув только ее имя отчество и, что живет он в поселке Лумбуши.
С этим адресом я зашел за матерью на вокзал. Генерал уже взял свои вещи. Наши мы сдали в камеру хранения и пошли отыскивать в Лумбушах эту Марию Васильевну.
Из-за незнания местности и, не предполагая такой большой протяженности нижнего поселка Медвежья гора, мы с матерью, пройдя каким-то леском, вышли к группе домов на открытой площади, которые приняли за Лумбуши и стали спрашивать дом Марии Васильевны. По счастливому стечению обстоятельств здесь оказался дом Марии Васильевны, конечно совсем другой, так как это была окраина Медвежьей горы, а не Лумбуши, и она сдала комнату. Только месяц спустя я побывал в Лумбушах, которые оказались километрах в пяти от Медвежьей горы по тракту в Повенец. При такой отдаленности я вряд ли мог бы приходить к матери в обеденный перерыв. Если бы я знал о существующих правилах свидания для заключенных-канцеляристов, то я не возвращался бы на вечерние занятия и проводил бы с матерью больше часов в день, все вечера. Но об этом мне никто не сказал, даже Лозинский, который через день выхлопотал мне продление свидания еще на неделю. Получалось, что к 9 утра я уходил от матери, в пятом часу приходил на обед, к 7 часам вечера снова шел в Инспекцию и в двенадцатом часу ночи возвращался к матери. Только когда накануне отъезда матери я попросил разрешение не приходить на вечерние занятия, чтобы хоть один вечер провести с ней, все хором спохватились, что это мое законное право на все время свидания. Было обидно до слез, но непоправимо.
Видя какой свободой я пользуюсь, оценив перспективы моего близкого, не позже апреля следующего года, освобождения из концлагеря, мать на этот раз уезжала со свидания спокойная за мою судьбу. Уверенность в моем освобождение придала матери новые силы и она решила выбраться из глуши в город, куда я мог бы к ней приехать после освобождения. Дружественная нам пара звала мать в г. Лугу, где у них была собственная зимняя дача. Но, несмотря на то, что Луга была дальше 100 километров от Ленинграда и таким образом не входила в запретную зону для высланных из Ленинграда, как моя мать, ее в Луге не прописали и теперь она решила попытать счастье в Новгороде на Волхове, который был почти в двухстах километрах от Ленинграда. Вскоре я получил от нее письмо с новгородским адресом.
С отъездом матери снова передо мной возник вопрос пристанища на ночь. На этот раз в том же бараке несколько ночей я проспал на месте временно отсутствующего в командировке заключенного в одном отделении с двумя молодыми политзаключенными, недавно посаженными в концлагерь на пять лет каждый. Они работали техниками в отделе главного инженера ББК, и возглавлявшегося политзаключенным инженером Карлштейном. К этому времени политзаключенный Вержбицкий, бывший главный инженер Белбалтлага, построивший канал, был освобожден, остался вольнонаемным и возглавил ПРО ББК. Коротая с ними часы дневного перерыва, я многое узнал от этих юношей о нравах царивших в Центральном Аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), об интригах ведущего конструктора Микояна, племянника вождя Анастаса Микояна, против тогда уже известного авиаконструктора А.Н. Туполева, в которого мои мальчишки были буквально влюблены. Бездарный Микоян, опиравшийся в конструировании самолетов «МИГ» на своего помощника Гуревича, пользуясь покровительством своего именитого дядюшки, перетаскивал нещадно в свое конструкторское бюро лучшие силы от Туполева, подрывая работу последнего и надеясь, таким образом, поправить свои дела. Сопротивлявшихся переводу ОГПУ сажало в концлагерь, как вредителей. Не избегли этой участи и мои новые знакомые.
Через несколько дней хлопотами Лозинского я получил карточку в столовую по категории пайка «АТП» (административно-технический персонал), где было трехразовое приличное питание. А еще через несколько дней я был переведен на жительство в один из бараков тоже вагонной системы на стоящих вне проволоки в двух шагах от бараков Управления. Эти бараки назывались общежитиями управленческих работников, и о существовании над ними командира я узнал только после 1-го декабря. Мне досталась верхняя нара, чему я был очень доволен, так как наверху было значительно теплее. Барак отапливался двумя железными печками с длинными железными трубами. В сильные январские морозы был случай, когда один заключенный, проспавший ночь с высунутыми из-под одеяла голыми ногами на нижней наре, отморозил себе пальцы. В бараке были почти все политзаключенные, симпатичная интеллигентная публика. Управлялся барак выборным из заключенных старостой, не освобожденным от основной своей работы. На таких же правах, через несколько дней я был выбран его помощником. На моей обязанности было хранить списки проживающих в бараке заключенных и отмечать выбывших и записывать прибывающих. Эта общественная нагрузка стоила мне много нервов в ночи террора после убийства Кирова. В этих бараках проживали сошки поменьше, вроде меня. Инженерный персонал и ответственные исполнители отделов Управления проживали в бараках комнатной системы и спали на топчанах. Многие из них имели право на совместное проживание с приехавшими к ним женами и жили в поселке на частных квартирах.
Моим соседом в отделении на верхней полке был член партии украинских национал-демократов, посаженный по 58 статье на 10 лет в концлагерь. Своим ростом (он не умещался на нарах и ноги его выдавались в проход), длинными конечностями он очень напоминал актера Черкасова и вначале я принял за него моего соседа, тем более, что он много рассказывал об актерах, главным образом киноактерах. Эндек (сокращенно от национал-демократ) работал в кинематографии. Рассказы его о киносъемках, о некоторых секретах в производстве фильмов, были всегда интересны и собирали кружок слушателей в нашем отделении. В рассказах об операторах он упомянул Посельского, который одновременно был и киноактером, снимавшимся в главной роли в немом фильме «Машинист Ухтомский». Посельского я знал по Соловкам, где он был политзаключенным. Иногда мой сосед портил мне настроение своим отсутствием на ночь. В случае ночной проверки мне пришлось бы как-то его покрывать. Он был весьма невоздержан в отношениях с прекрасным полом. У него была в поселке возлюбленная, а может быть и несколько, у которой он задерживался иногда и на ночь. Эта черта его натуры впоследствии была причиной неожиданной для меня встречи на Медвежьей горе с вольной гражданкой, дочерью директора профшколы, которую я закончил в Нежине и, которая состояла в нашей компании в том же городе Нежине. Это была первая и единственная встреча с человеком из моего, как мне уже казалось, далекого прошлого, которое в моих мыслях вообще никогда не существовало, для меня стало чем-то ирреальным.
В первый же выходной день после отъезда матери, я пошел с утра в сельхоз «Вичка» повидаться с Ней. Все заключенные, поприличнее одетые ходили беспрепятственно и по поселку и по окрестностям. Она потеряла меня из виду и мое появление было для Нее большой неожиданностью и радостью. Я был также очень рад, соскучившись без Нее за пять месяцев разлуки. Обещанное Ей освобождение пока что-то не приходило, но Она не теряла надежды и мы снова стали строить планы на будущее, в частности где Ей жить после освобождения, чтобы и я мог к Ней приехать на жительство (Москва вероятнее всего была для Нее исключена, да и для меня тоже). Я упомянул о намерении матери перебраться в Новгород, но этот намек у Нее не встретил сочувствия, Ей хотелось быть все ближе к Москве, к своим детям. После нескольких часов проведенных мною с Ней наедине в Ее лаборатории, где Она и жила, в дверь кто-то вежливо постучался. Она сказала «Войдите» и на пороге появился начальник Сельхозотдела ББК заключенный Лесли, Ее знакомый по Москве, тот самый Лесли, который на Соловках по дороге из Биосада с Ее имянин выпытывал меня о наших с Ней отношениях. Извинившись, не без ехидства, что прервал наш tête à tête, он обратился ко мне с просьбой, как к инженеру-электрику (это он подчеркнул в обращении ко мне) определить возможность постройки небольшой гидростанции для нужд сельхоза на водопаде реки Вичка. Какой я был инженер, какой я был гидротехник? Но из чувства самосохранения и чтобы не навлечь каких-нибудь неприятностей и на Нее, я с готовностью согласился осмотреть водопад и мы втроем пошли на него.
Водопад представлял собой красивое зрелище. С высоты нескольких десятков метров падала довольно мощная струя воды, разбивавшаяся внизу о скалы. Воздух был полон брызг, которые на выглянувшем солнце сияли всеми цветами радуги, дополняя красоту горного пейзажа с зеленью сосен и елей, красотой сосновых стволов. Вообще медвежьегорский пейзаж был очень красив и, глядя на него, как-то отходили все переживания, душа успокаивалась, наступало давно не ощущаемое состояние умиротворения. Политзаключенный инженер-экономист Иванов-Смоленский, ведавший в отделе главного механика отчетностью электростанций ББК, находился под впечатлением недавней своей поездке по Швейцарии и в одной из наших совместных прогулок по окрестностям Медвежьей горы уверял меня, что по красоте они нисколько не уступают швейцарскому ландшафту. Иванов-Смоленский был в концлагере новичком, попавшим на десять лет по 58 статье пункт 6 (шпионаж) непосредственно после командировки во Францию с заездом в Швейцарию.
Я высказал Лесли мнение, что если заключить водопад в трубу соответствующего диаметра, то принимая во внимание высоту столба воды, получится мощность достаточная для установки внизу гидротурбины с альтернатором. Но не зная дебета водного ресурса, я затрудняюсь определить мощность гидроэлектростанции и посоветовал ему обратиться в лабораторию гидротехнических сооружений ББК. Она подала мне руку, которую я поцеловал. В присутствии Лесли на большее я не мог рискнуть. Я понял, что мне надо уходить. Появление Лесли было более чем странным, точно ему кто-то стукнул из работников Зональной станции о моем приходе. Надо было остерегаться несмотря на такой либеральный режим.
Возвращались с «Вички» мы вдвоем с Лесли пешком. Разговор шел на нейтральные темы. Подходя к Медвежьей горе, он ошарашил меня, взглянув искоса на меня, какое впечатление на меня произведет его сообщение: на днях Зональная станция перемещается в Пушсовхоз, находящийся в трех километрах от села Повенец. Известие было крайне неприятное, но я не подал виду. Правда, пребывание Ее на «Вичке», отстоявшей от Медвежьей горы на десять километров, совершенно не походило на условия Кеми, где мы жили, можно сказать, бок о бок и виделись даже после происшедшей неприятности ежедневно. На «Вичку» я мог ходить только по выходным дням, но и это все же кое-что значило. А теперь снова наступала разлука и, уходя от Нее, я даже не попрощался как следует с Ней. Получилось, что вызов меня на Медвежью гору опоздал. Неужели мне надо снова ловчиться чтобы перебраться к Ней в Пушсовхоз, обижать Боролина, Лозинского вытащивших меня к себе? А сердце звало, сердце не давало покою, всей душой я стремился к Ней. Во всяком случае в данный момент, решил я, когда не прошло и трех недель после переброски меня на Медвежью гору, начинать сложную игру о моем переводе в Пушсовхоз нечего было и думать. Надо было смириться с неудачей, надеясь на скорое Ее освобождение, при котором надобность перевода в Пушсовхоз сама собой отпадет. Таков был ход моих мыслей.
На «Вичке» мне больше не удалось побывать. До следующего выходного дня я получил от Нее записку уже из Пушсвохоза. Передал записку тот же любезный бывший политзаключенный, оставшийся работать в концлагере вольнонаемным, заведующий Пушхозом на Соловках Туомайнен. Теперь он перебазировался со своими лисицами на материк, на берег Онежского озера в Повенецкий Пушсовхоз. Туомайнен был моим спутником в моей первой командировке с Соловков на материк и тогда он предупредил Ее о моем прибытии в Кемь.
И все же я с Ней повидался в середине ноября, повидался в Пушсовхозе. Я попросил Боролина дать мне командировку в Пушсовхоз «для проверки работы электростанции». Боролин мне не отказал, позвонил Лозинскому, прося меня на денек в свое распоряжение. Лозинский тоже не отказал и вот с командировочным удостоверением отдела главного механика без конвоя я прибыл на рейсовом автобусе в Пушсовхоз. Отметив командировку в общей части отдельного лагерного пункта «Повенецкий пушсовхоз», я бегло осмотрел электростанцию, произведшую на меня тягостное впечатление грязью и неприспособленностью помещения, представлявшего собою деревянный сарай, и явился на Зональную станцию. Мы провели чудный день, наговорившись вдоволь. Нам никто не мешал. Когда зажгли керосиновые лампы (дом не был электрифицирован) нам пришлось распрощаться. Однако я условился с Ней звонить Ей по телефону из инспекции каждый день точно в определенный час. Так мы и общались ежедневно в течение всего моего пребывания на Медвежьей горе.
Как Боролин, в разговоре со мной, обрисовал функции должности инспектора-электротехника Инспекции ГУЛАГа, так фактически я и работал, вернее бездельничал. Чтобы чем-нибудь заняться, я помогал делопроизводителю в писании отношений и радиограмм, то по заданию Лозинского проверял арифметику в таблицах отчетов предприятий, то переписывал проекты смет, промфинпланов титульных списков строек на следующий год. Процесс переписки последних мне много дал. Я ознакомился с методом и формой составления технической и финансовой документации, о чем я не имел понятия. И все же день был не загружен, за столом я порядочно скучал. После самостоятельной подвижной работы заведующего КЭС с ненормированным рабочим днем, высиживать 11 часов в сутки за канцелярским столом было невесело. Некоторым разнообразием и моционом было ношение посылаемых в ГУЛАГ и в отделения ББК радиограмм на подпись помощнику начальника ББК и заместителю начальника Белбалтлага чекисту с тремя ромбами в петлицах Павлову (одно лицо с двумя титулами), ведавшему сверху делами Инспекции. Радиограмма писалась в двух экземплярах с его подписью, но чекист не подписывал ее на перовом экземпляре, если на втором не было визы Лозинского или Райца. Второй экземпляр возвращался в Инспекцию, когда радиограмма была подписана Павловым и передана по радиотелеграфу. Обмен радиограммами с ГУЛАГом был очень оживленный, так как кроме распоряжений ГУЛАГа, в том числе и на отгрузку продукции предприятий Инспекции в разные концлагеря. От ГУЛАГа также приходили извещения об отгруженном по заявкам Инспекции сырье кожевенной и текстильной промышленностью страны в адрес наших предприятий. Получение этого сырья подтверждалось Инспекцией также радиограммами. Находясь в одной комнате, я невольно постепенно узнавал все больше о бесчисленном количестве существовавших к 1935 году концлагерей, которые покрыли густой паутиной всю территорию нашей страны от Чукотки до границы с Польшей, от Мурманска до Караганды. Точного числа их я так и не узнал, так же как многие из их названий испарились из памяти. Я помню, что на европейской части были такие концлагеря: Белбалтлаг, Севлаг (бассейн реки Северной Двины), Ухт-Печлаг (по р. Печоре), Котласлаг, Свирлаг, Вяземлаг, строивший стратегическую автостраду Минск-Москва, Дмитлаг (канал Волга-Москва), Волголаг (район Углич-Рыбинск), итого восемь концлагерей. В азиатской части Карагандинский, Алмаатинский, Актюбинский, Бамлаг (Байкало-Амурская железная дорога, в том числе строительство жилья и заводов города Комсомольска), Дальлаг, строивший порты на Охотском и Японском морях, Колымский лагерь в бассейне и устье реки Колымы, итого еще шесть концлагерей. Я не претендую на изложение полного списка концлагерей, в действительности их было значительно больше. Также неизвестно какое количество заключенных было в каждом концлагере и всего в стране. Косвенные же данные, которые мне были известны – это заказ ГУЛАГа на обмундирование Кемской пошивочной фабрике на 1935 год и выражавшийся цифрой двадцать миллионов комплектов ватного обмундирования. Поскольку такой комплект выдавался в носку минимум на год, а то и на два, минимальная цифра количества заключенных переваливала за двадцать миллионов человек, за двадцать миллионов живых людей, из которых каждый переживал свою индивидуальную трагедию. А сколько же заключенных перебывало в концлагерях за десятилетия их существования?! Сколько навсегда осталось лежать в безвестных могилах на территориях концлагерей?! Сколько освободилось из концлагерей и сколько из них было посажено вторично? На все эти вопросы вряд ли сохранятся какие-нибудь сведения.
В отсутствие Лозинского и Райца я с удовольствием разговаривал с Антоновым, оказавшимся очень милым и высоко порядочным человеком. Забегая вперед, надо сказать, что когда он освободился из концлагеря, отсидев полностью пять лет срока, то поехал по моему совету в Новгород (жена его была в Ленинграде, куда въезд ему, как бывшему политзаключенному был воспрещен) к матери моей, к которой я дал ему рекомендательное письмо. Пока он осматривался в чужом городе, он прожил у матери, а когда я был освобожден из концлагеря и тоже приехал в Новгород, я очень часто виделся с ним и его женой, переехавшей к нему. Разлучила нас чистка бывших политзаключенных в Новгороде в 1938 году. Антонов уехал в Боровичи Ленинградской области, где я и потерял его из вида.
Постепенно в должности инспектора-электротехника я втянулся в свою неопределенную работу, перемежающуюся с ничегонеделанием и примирился с ней, тем более, что 16 ноября в отделах Управления ББК и частях отделений был сокращен рабочий день с 11 часов до девяти. Теперь рабочий день начинался с 8 часов утра и продолжался без перерыва до 5 часов вечера. Были отменены вечерние занятия. Неофициально, как пояснил нам Райц, присутствующий на совещании у начальника ББК чекиста Раппопорта по поводу нового распорядка дня, разрешалось заключенным за своими столами позавтракать принесенной едой в течение рабочего дня.
Пообедав после окончания работы, заключенные канцеляристы имели свободный вечер, который, как гласил приказ по ББК, должен был быть использован для поднятия культурно-просветительной работы среди заключенных. Теперь представлялось возможным вечером сходить в кино и театр ББК, конечно за плату, причем на спектакли билеты были далеко не дешевые и не все заключенные могли себе позволить такое удовольствие даже еженедельно, чтобы просмотреть каждый фильм. Труппа была великолепная, почти исключительно из посаженных в концлагерь ленинградских оперных и драматических актеров и актрис, до которых дошла очередь побывать заключенными и притом в немалом количестве. Играли превосходно, и я получал большое удовольствие от этих спектаклей. В театре я встретил своего первого непосредственного по работе начальника на Соловках, бывшего в 1929 году кладовщиком Кремлевской электростанции, у которого я был рабочим при кладовой. Он был политзаключенный со сроком в 10 лет, посаженный в концлагерь по 58 статье, пункт 13 (служба в карательных органах царского режима и белых армий). Это был жандармский ротмистр Кудржицкий, после революции сделавшийся квалифицированным электромонтером. Как хорошего спортсмена конкобежца-фигуриста, Кудржицкого, несмотря на появившуюся седину, еще в 1930 году Культурно-воспитательная часть забрала его к себе и назначила заведующим спортивной площадкой на Соловках. Далее он и стал работать в КВЧ в разных отделениях на материке. Неожиданно я встретился с ним на несколько минут в 1933 году на Кемперпункте. Я прибыл с Соловков, его в этапе, как штрафника отправляли на Соловки. С Соловков он снова выбрался в общем потоке осенью того же года, когда Соловецкое отделение стало специального назначения, попал на Медвежью гору и теперь работал осветителем в театре. Он повел меня в свою будку возвышавшуюся над сценой за кулисами. Я поразился совершенству оборудования сцены Медвежьегорского театра и в осветительной части. Софиты были заменены мощными колоколами, которыми можно было пользоваться на любой высоте. В специальных ложах были установлены, для создания большей освещенности сцены по участкам, прожекторы с большим набором световых и декорационных фильтров, которыми можно было создать на сцене любой световой эффект разных цветов, на белом заднике любую декорацию. Как все это отличалось от убогой светотехники Соловецкого театра, где я одно время работал по вечерам осветителем. Работать на совершенной технике Медвежьегорского театра, которую я оценил по первому же виденному мною спектаклю, было одно удовольствие, и Кудржицкий пытался переманить к себе в помощники.
Захватил впервые в жизни виденный звуковой фильм, один из первых видовых советских фильмов. Мне как-то сразу пришло в голову какие неисчерпаемые возможности таит в себе соединение на пленке вида со звуком, дающее возможность довести заснятую оперу в исполнении лучших артистов до самых глухих уголков, откуда проживающие в них люди никогда не могли бы добраться до столичных оперных театров. Звуковое кино могло расширить зрительный зал до бесконечности. Следующий звуковой фильм, который мне удалось посмотреть, была кинокомедия «Веселые ребята», первый советский игровой звуковой фильм. Не балаган джаза Утесова, созданный Григорием Александровым, два года перед тем пробывший в «творческой» командировке в Голливуде и ничего не почерпнувшим там, меня разочаровал, а та направленность звукового кино в сторону озвучивания музыкой игровых фильмов, которые прекрасно пошли бы в немом варианте. Этот увод звукового кино в сторону игорных сюжетов за счет музыки, за счет музыки, которая в фильмах сопровождает действие, показался мне обеднением колоссального изобретения тридцатых годов.
Большой радостью для меня было появление в начале ноября месяца на Медвежьей горе моего друга Виктора, который меня сейчас же разыскал. Его поселили на радиостанции Управления ББК, стоявшую в верхнем поселке. Жил он в одной комнате с вольнонаемным механиком из технических частей войск ОГПУ, очень симпатичным юнцом Валентином Гориным. Последний не имел никакого предубеждения по отношению политзаключенных и относился к Виктору, а затем и ко мне, как к своим друзьям, учась у нас житейскому опыту, как у старших по возрасту. Впрочем, как потом он нам признался, и у него была нелегкая ранняя юность. Он происходил из зажиточной крестьянской семьи и ему пришлось много скрыть, чтобы прослыть классово-близким и по призыву в армию попасть в войска ОГПУ, где, имея хорошее среднее образование и природные способности, Валентин стал опытным механиком по двигателям внутреннего сгорания. Подверглись ли его родители раскулачиванию и репрессиям, он не говорил, а мы не расспрашивали. О местопребывании своих родителей он ничего не говорил. Может быть он скрывал, может быть и не знал, может быть их и не было в живых. Тем не менее в его присутствии мы с Виктором никогда не поднимали политических тем, а о Сталине говорили в почтительной форме.
Постепенно наша тройка стала неразлучна. В выходные дни мы гуляли вместе по окрестностям Медвежьей горы, посещали кино, спектакли. Почти все вечера от обеда до ужина я проводил на радиостанции с ними в их комнате, возвращаясь в барак только на ночлег. Приезд Виктора очень скрасил мое одиночество, скуку существования заключенного канцеляриста и если бы не тоска по Ней, умеряемая ежедневным телефонным разговором и надеждой на Ее скорое освобождение, мне лучшего в положении заключенного нельзя было и желать.
Проникнутый таким настроением, 1-го декабря 1934 года я несколько раньше, чем обычно, вернулся от Виктора в барак и из последних известий узнал о событии перевернувшим все, принесшим всем дополнительные страдания, многим смерть, годы заключения, Ей гибель, вместо освобождения.
РИКОШЕТОМ
Рикошетом пули попавшие в Кирова больно ударили по населению страны, особенно по жителям Ленинграда по месту происшествия и, вопреки всякой логике, по политзаключенным в концлагерях отдаленным сотнями и тысячами километров по своему местонахождению и уже изолированных колючей проволокой. Террор сталинской диктатуры развернулся стремительно.
Итак, пройдя в барак в 9 часов вечера 1-го декабря 1934 года, я как раз успел к началу вечернего выпуска последних известий. Из репродуктора послышался голос диктора: «Сегодня в Ленинграде злодейски убит член политбюро и секретарь Ленинградской партийной организации Сергей Миронович Киров; контрреволюция …» и так далее, затем следовала трафаретная уверенность в сплочении рабочего класса и призыв к беспощадной мести классовым врагам. У меня подкосились ноги. Не снимая тулупа, я сел на ближайшую нару. Все затаили дыхание, водворилась гробовая тишина. Каждый ушел в себя, боясь проявить какое-нибудь чувство, чтобы оно не было истолковано во вред ему. Также молча разошлись по своим нарам и легли спать.
Скорее инстинктом, чем разумом, я почувствовал всю непоправимость случившегося, следствием которого не сносить головы политзаключенным, главным образом «террористам» сидевшим в концлагере по пункту 8-у 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР, к которым принадлежал и я. До убийства Кирова по пункту 8-у в концлагерях сидели единицы, преимущественно только крестьяне, которым следователи ОГПУ приписывали намерение убить того или иного организатора колхоза или крестьянина-бедняка. Отношение концлагерных чекистов к политзаключенным с этим пунктом было снисходительное, «террористы», с точки зрения чекистов, по классовой принадлежности из крестьян не были такими «закоренелыми контрреволюционерами», как техническая интеллигенция, офицеры Русской армии, представители мелкой и крупной буржуазии, дореволюционные чиновники, на которых обращался весь гнев. Кроме того, в картотеках политзаключенных в 3-м отделе и его частях, в Учетно-распределительном отделе и его частях пункт 8-й 58-й статьи так мало мозолил глаза, что малограмотные работники этих служб Управления концлагеря плохо знавшие перечень преступлений в уголовном кодексе по статье 58 зачатую и не представляли, что скрывающийся за этой фамилией с пунктом 8 политзаключенный «страшный террорист». Наоборот другие пункты 58 статьи 2, 6, 7, 10, 13, которыми так и пестрела картотека, были хорошо известны самому последнему работнику, который досконально изучил состав вменяемых по этим пунктам преступлений. 2-й пункт – участие в вооруженном восстании против советской власти давался всем офицерам служившим в антибольшевицких армиях в гражданскую войну и вообще всем офицерам Русской армии. 6-й пункт – шпионаж давался по самым разным поводам, зачастую совершенно не связанным с знакомством с иностранцами. 7-й – вредительство был уделом почти исключительно инженеров и техников. 10-й – антисоветская агитация давался всем кто почему-либо не угодили работникам местных ГПУ или местным властям. 13-й пункт – служба в карательных органах царского режима и белых армий, по этому пункту сидели чины полиции и жандармерии, жандармские филлеры и офицеры военно-полевых судов. Многие политзаключенные сидели и не по одному пункту 58 статьи, причем сочетания пунктов не поддавались никакому логическому анализу и свидетельствовали не то о малограмотности следователей ОГПУ, не то об их безудержной фантазии при нанизывании изобретаемых для своего подследственного преступлений.
Если среди работников 3-й части или УРЧ заходил разговор о каком-нибудь политзаключенном с пунктом 8, то о нем говорилось с пренебрежительной к его опасности гримасой: «да что тут – крестьянская контрреволюция». Может быть именно благодаря незнанию многими работниками содержания 8-го пункта 58-й статьи и установившегося в карательно-надзирающих и распределительных органах концлагерей мнения о «неопасности» политзаключенных с этим пунктом по их социальному происхождению, я, в отличие от многих политзаключенных, меньше подвергался гнету, мне меньше ставили препятствий к выдвижению в концлагерную техническую элиту без наличия у меня даже среднетехнического образования, мне предоставляли командировки без конвоя.
С убийством Кирова, которое нельзя было рассматривать иначе, с точки зрения властей, как террористический акт, положение коренным образом менялось, пункт 8-й 58-й статьи становился гвоздем сезона и месть за Кирова должна была обрушиться в первую голову на политзаключенных сидевших по этому пункту. Как я поразмыслил, мое положение в концлагере стало очень опасным. Мой невеселый прогноз в дальнейшем подтвердился и даже в больших масштабах, чем я предполагал, так как террор был направлен против всех политзаключенных, а не только сидевших по пункту 8-у.
Ночь после услышанного известия я спал плохо и к утру окончательно убедился в неизбежности усиления террора со стороны сталинской диктатуры, не только в отношении политзаключенных в концлагерях, но и на воле. Я вспомнил о покушении на Ленина в 1918 году и последовавшем после этого события «красном терроре» прокатившемся по всей территории тогда подвластной большевикам и выразившемся в физическом, почти поголовном, уничтожении русской буржуазии и интеллигенции. Также я вспомнил убийство советского полпреда в Варшаве в 1927 году, после которого был издан декрет «Об усилении борьбы с контрреволюцией», следствием которого было проведение операции по всей стране под печальной памяти «Войковский набор». ОГПУ тогда арестовало десятки тысяч офицеров Русской армии и флота и интеллигентов верно служивших большевикам. Часть арестованных была расстреляна, десятки тысяч получили предельные сроки заключения в концлагеря. Теперь убийство Кирова, размышлял я, неминуемо должно повлечь еще более ужасную бойню. И возникал вопрос: являлись ли репрессии только следствием этих выступлений против представителей советской власти? Не была ли истиной причиной кровавых расправ, уже имевших место и предстоящей, воля большевицкого руководства, которое само создавало причину для расправ с неугодными ей гражданами, чтобы возбудить террористическими актами оболваненные массы на террор, получить поддержку масс для задуманных массовых репрессий? Не были ли искусственно созданы условия облегчившие покушение на Ленина, на убийство Войкова, а теперь на убийство Кирова? В отношении Кирова мои предположения намеками подтвердил Хрущев в своем докладе ХХ съезду коммунистической партии, пойдя даже дальше в своих намеках на Сталина, как на закулисного виновника убийства Кирова, убившего рукой Николаева сразу двух зайцев, физически своего самого потенциально-опасного соратника, а второго зайца – получив оправдание подготовленного им массового уничтожения неугодных и инакомыслящих лиц из верхушки партии, партийцев пониже и миллионов невинных людей из народа.
Утром 2 декабря в бараке мало кто говорил, разошлись на работу молча. Такая же атмосфера царила и в Инспекции. Лозинский, Райц, Антонов были подавлены, работа валилась из рук. Переживания их были отчетливо видны, хотя, по моему мнению, им беспокоиться надо было меньше, чем мне. День прошел спокойно без видимой реакции на убийство Кирова со стороны чекистов. Только Лозинский не мог попасть с докладом к Раппопорту, совещавшемуся целый день с начальником 3 отдела, что не сулило добра. После окончания занятий я не мог никак добиться Пушсовхоза, чтоб переговорить в назначенный час по телефону с Ней. Междугородняя не включала Пушсовхоз, очевидно связь с отделениями кроме как для чекистов была прекращена. Пообедав я, как и вчера, направился к Виктору, которого застал тоже в подавленном настроении. Мне казалось, что его положение не столь мрачно как мое, так как он имел пункт 10 и всего три года срока заключения. Валентин тоже казался подавленным. Все трое делали вид, что потрясены смертью народного трибуна, кто из каких соображений конечно не сказал. Пропустив ужин, я вернулся в барак поздно вечером. Никто мне не сказал, что была вечерняя поверка, которых до сих пор не было. Итак репрессии заключенных начались.
Ночь прошла спокойно. Не спавши предыдущую ночь, я крепким сном выключился из тяжелых дум, но с утра сердце снова защемило, тем более, что пробуждение было непривычно по свистку ворвавшегося в барак какого-то шального комвзвода. Он велел построиться всем в проходе между нар в две шеренги, пересчитаться по порядку номеров и потребовал от старосты письменный рапорт о списочном составе, наличии заключенных и количества отсутствующих с объяснением причин отсутствия (на работе, в госпитале, в самовольной отлучке). Удостоверившись в соответствии цифры «наличия» в рапорте с пересчитавшимися заключенными, комвзвод ушел. Такую процедуру «поверки» со вчерашнего вечера мы стали проходить ежедневно дважды, утром с подъемом, вечером в 8 часов. Пришедший нарядчик колонны, в которую входил наш барак, роздал нам пресловутые «сведения», в которых отмечались часы ухода и прихода в барак, прихода и ухода с работы. Режим стал соловецким. По дороге в Инспекцию я увидел патрули солдат войск ОГПУ и ВОХРа. Впрочем они никого не останавливали в гражданской одежде и документов не проверяли. Не остановили они и меня шедшего в виды видавшем тулупе, который я и носил и на котором опять спал. В Инспекции в «сведении» часы прихода на работу и ухода стал отмечать Антонов, Лозинскому, Райцу, мне и себе. Через несколько дней Лозинский и Райц получили круглосуточные пропуска. Антонов и я остались со «сведениями» рядовыми заключенными лишенные свободы передвижения в нерабочие часы.
В течение дня Райц, совершенно неожиданно, устремив глаза поверх Антонова и меня, предупредил ни к кому не обращаясь, что он не будет брать на себя ответственность покрывать кого-либо, якобы присутствием на работе, тех, кто не окажется в бараке на поверке. Мы с Антоновым переглянулись. Неужели, подумал я, ему уже стало известно о моем отсутствии на вчерашней вечерней поверке? Вообще Райц производил впечатление комиссара Инспекции приставленного к Лозинскому. Безусловно Райц был большой специалист по коже и обуви и делами кожевенного завода и обувной фабрики ведал он, но в то же время на все совещания у Раппопорта, не носивших производственного характера, ходил Райц, а не Лозинский, и в отношении последнего Райц вел себя так, как будто опирался на кого-то повыше Лозинского. В день похорон Кирова, когда гудок Лесопильного завода возвестил о моменте погребения, Райц встал из-за стола и скомандовал нам встать, чтобы пятиминутным стоянием почтить память Кирова.
Перед концом рабочего дня, Антонов шепнул мне о развертывании репрессий: предыдущей ночью из поселка были высланы все жены заключенных имевших право на совместное проживание. Ночью мужей вытащили из постелей и под конвоем отвели на жительство в бараки, а жен тоже под конвоем на вокзал и утренним поездом отправили в сторону Ленинграда. Через несколько недель жена Боролина вернулась, и он получил снова право совместного проживания, но это был, насколько мне известно, единственный случай. Эта льгота была прихлопнута.
После окончания рабочего дня я снова не мог по телефону добиться Пушсовхоза и в последующие дни и недели оставил эту попытку, очень мучась переживаниями Ее от неизвестности о моей судьбе и в то же время не желая тащить Ее, за знакомство со мной, в пропасть разверзавшуюся передо мною. После обеда я прошел в барак. Боясь патрулей, к Виктору я не пошел.
Вечером репродуктор сообщил о первом злодеянии диктатуры на воле после убийства Кирова. Был оглашен список сорока человек расстрелянных в Ленинграде. В числе их была фамилия двух Николаевских, которых все хорошо знали на Медвежьей горе. Оба брата были политзаключенными со сроком по пять лет, недавно были освобождены из концлагеря по окончании срока и уехали в родной Ленинград, где и нашли себе безвестную могилу.
В ночь на 4-е декабря в концлагере развернулись репрессии уже по-настоящему. Едва я уснул, как меня разбудили. У нар стояли два работника 3-го отдела, один вольнонаемный чекист с тремя шпалами в петлицах, другой заключенный и староста барака в белье с накинутой на плечи шинелью (он был на воле командиром Красной армии). Первой мыслю было, что пришли за мной. Оказалось им нужны были списки заключенных барака, хранившиеся у меня. Проверив списки и, не найдя нужной фамилии, они ушли. После потрясения я не мог долго уснуть. В эту ночь меня будили по тому же поводу еще два раза и каждый раз я считал, что пришли за мной. В эти два раза в списках пришельцы нашли нужного им политзаключенного и обоих увели с вещами.
Эта пытка бужения меня по несколько раз в ночь продолжалась еженочно недели три и каждый раз я думал, что это за мной, что наступил мой последний час. Приходившие чекисты то находили свою жертву и уводили с собой, то уходили ни с чем. Всего таким образом из нашего барака исчезло более десятка политзаключенных. Судьба их так и осталась невыясненной. Я лично не видел вырытых в лесу ям, о которых говорили будто они постепенно засыпались землей, не слышал по ночам и выстрелов. По-видимому все же на Медвежьей горе расстрелов в те дни не было, но точно было известно, об отправке многих политзаключенных в другие отделения концлагеря, больше всего в Кемское с переотправкой в СОСНУ на Соловки. В других отделениях расстрелы были не то привезенных с Медвежьей горы, не то содержавшихся и ранее в этих отделениях политзаключенных. По какому признаку шел отбор политзаключенных для расправы, для отправки в другие отделения концлагеря и в СОСНУ, кого расстреливали установить было невозможно, так как изъятию с Медвежьей горы подвергались политзаключенные сидевшие по разным пунктам 58 статьи. Вероятнее всего концлагерные чекисты руководствовались при этом какими-то секретными пометками в личных делах политзаключенных, предписывающих их физическое уничтожение или строгую изоляцию при возникновении каких-либо чрезвычайных событий. Возможно, что из Спецотдела ОГПУ были присланы готовые списки, по которым крошили безвинные жертвы не имевшие абсолютно никакого отношения к совершению убийства Кирова, находившиеся давно за проволокой в отдалении от Ленинграда в сотнях километров.
Практика массовых расстрелов политзаключенных и поголовное уничтожение их в отдельных концлагерях и по всем концлагерям страны при возникновении чрезвычайных событий является самой мрачной чудовищной страницей из истории советских концлагерей. Я уже рассказывал о подготовке уничтожения отравляющими веществами всех политзаключенных на Соловках в 1930 году на случай выхода финских войск на побережье Белого моря. В октябре 1941 года в концлагерях были сделаны приготовления для поголовного расстрела всех политзаключенных в случае захвата немцами Москвы. При выходе германской армии на реку Волгу у Сталинграда осенью 1942 года по всем концлагерям прокатилась волна массовых расстрелов политзаключенных. В дальнейшем родственникам расстрелянных пришли извещения о смерти их близких от … разного рода болезней в 1942 году. Известны поголовные расстрелы политзаключенных в Орловской и Курской тюрьмах перед взятием этих городов немцами. В Орловской тюрьме погибли ряд крупных астрономов, в том числе и Яшнов , посаженных на длительные сроки по клевете астронома Нумерова , женатого на двоюродной сестре сталинского генерального прокурора А.Я. Вышинского. Политзаключенных эвакуируемых из местностей, к которым приближался фронт в 1941-42 годах, уничтожали путем бомбежки с воздуха железнодорожных составов и барж на Мариинской водной системе. Обещание Льва Троцкого на одном из митингов в 1919 году, когда, казалось ничто не могло спасти большевицкую диктатуру от победоносного наступления с юга на Москву Добровольческой армии генерала Деникина: «Мы уйдем, но уходя мы так хлопнем дверями, что содрогнется вся Россия», - претворялось в жизнь в течение десятилетий и когда Троцкий был в вершине славы и когда попал в опалу и когда сам Троцкий стал жертвой сталинского террора и когда его труп давно сгнил.
Каждый день я с ужасом ждал приближения ночи, считая ее возможно последней для меня. Приходя утром на работу, я радовался, что в прошедшую ночь я остался жив и у меня не менее 12 часов жизни впереди до следующей ночи. Днем я считал себя в безопасности. Однако и это придуманное мною самим утешение уже через несколько дней рухнуло. Я понес в отдел технического снабжения заявку на материалы от Инспекции для наших предприятий и там, к своему ужасу застал сцену изъятия политзаключенного прямо с рабочего места. У несчастного дрожали руки, когда он складывал документы в папку. Стоявший над ним чекист из 3-го отдела с двумя шпалами в петлицах торопил свою жертву. «Куда меня?», - жалобным голосом спросил политзаключенный. «Это я не могу сказать», - вежливо ответил уполномоченный и повел вперед себя обреченного. Я понял, что и день не даст безопасности, что и меня могут взять прямо из Инспекции. С этого дня я чувствовал себя в безопасности только те несколько десятков минут, когда находился в пути от барака в Инспекцию и обратно с заходами в столовую. Мое нервное состояние дошло до такой степени, что когда через несколько дней в Инспекцию ввалился чекист с тремя шпалами, я чуть не потерял сознание, посчитав, что он явился за мной. Это оказался начальник лагпункта из-под села Сороки, на территории которого была расположена Канатная фабрика. Он зашел к Лозинскому ознакомиться с производственным планом Фабрики на следующий год.
Обеспокоенный моим отсутствием, через несколько дней вечером в барак ко мне пришел Виктор. Мы с ним немного походили около барака, и я ему поведал о моих опасениях. Он кратко сообщил, что судя по радиограммам из Спецотдела ОГПУ режим в концлагерях должен стать значительно суровее, но перевод политзаключенных в штрафное отделение касается не всех. Какие именно категории политзаключенных подпадают под изъятие он не знал, так как шифр ему не известен. Я просил Виктора не подвергать себя опасности общения со мной и больше не приходить. И все же он изредка мне звонил в Инспекцию.
С введением строгостей никто из заключенных не знал, что можно теперь делать, а чего нельзя, когда и где можно ходить после работы, а когда и где нельзя. Все опасались патрулей и, встретив их, старались обойти.
Еще через несколько дней ко мне в Инспекцию пришел Сампилон и вызвал меня в коридор, где передал устный привет от Нее. Ученый монгол Сампилон хорошо знал меня по Соловкам, где он работал в Биосаде. Теперь он работал на Зональной станции в Пушсовхозе. По словам Сампилона в Пушсовхозе никаких перемен в режиме нет и строгостей не чувствуется. Весь состав зональной станции по-прежнему живет в своих лабораториях. Я искренно порадовался за Нее и передал Ей привет. Запаздывание введения строгостей в Пушсовхозе вероятно объяснялось присутствием там начальником ОЛП самого либерального из всей концлагерной администрации чекиста Онегина. Он был единственный чекист в концлагере, который добровольно пошел на работу в концлагеря, в то время как все остальные попадали, как штрафники на определенный срок за совершенные ими преступления. Онегин был еврей, его настоящая фамилия была Гринберг. Его невеста была посажена в концлагерь по обвинению в шпионаже и Гринберг перевелся на работу в концлагерь, вслед за ней, чтоб быть вместе. Насколько последнее ему удалось сказать трудно, но в Пушсовхозе ее не было.
Кроме псевдонима Онегин, в Управлении ББК были еще Ленский и Пушкин. Остряки говорили о возможности поставить известную оперу.
В середине декабря я сделал вылазку в выходной день в артистический барак к своему единственному на Медвежьей горе «однодельцу» студенту Киевского художественного института Вовк *, с которым я познакомился в первый год пребывания на Соловках. Работал он, и не без успеха, декоратором в Медвежьегорском театре, был старостой комнаты в общежитии актеров. В этом бараке у каждого было по топчану с тумбочкой и в каждой комнате помещалось по пяти-шести заключенных. Вовка я застал в состоянии полной прострации, лежавшего на постели уткнувшись носом в подушку.
Я отлично понимал его состояние, как «террориста», но то что я узнал от него меня еще больше встревожило, в особенности за него. Из его комнаты совершил дерзкий побег из концлагеря молодой, веселый актер Михедка. У последнего тоже был пункт 8-й 58-й статьи, посажен он был на 10 лет и только начинал «разматывать катушку», то есть только начинал отсиживать данный ему срок заключения. У Михедки не выдержали нервы ждать когда за ним придут и он, надев свое шикарное красной кожи пальто с меховым воротником, взял в руки два своих шикарных больших чемодана, прошел на вокзал, взял в кассе билет и открыто сел в мягкий вагон поезда идущего в Ленинград. О Михедке мы больше ничего не слышали и его не видели. Но мы надеялись, что при его данных побег прошел удачно. У нас встречают по одежде и его шикарное кожаное пальто и чемоданы, проезд в купе мягкого вагона и актерский талант сыграть роль важной особы могли подавить всякое желание патруля проверить его документы в поезде. А в Ленинграде, да и в других местах, в том хаосе, который всегда сопутствовал массовым репрессиям из-за перегруженности работников карательных органов, Михедка мог легко затеряться. Впоследствии я узнал, что Вовк, как староста комнаты, из которой был беглец, отделался легко, всего пятнадцатью сутками КУРа (колонна усиленного режима, то есть по-простому карцером) и отстранением из старост комнаты.
В начале третьей декады декабря меня перестали будить по ночам, оперативники 3-го отдела больше не рыскали по баракам, операция по изъятию политзаключенных как будто кончилась, но меня это не успокаивало. Я слишком хорошо знал повадки ОГПУ и не мог допустить мысли, чтобы политзаключенных с 8-м пунктом оставили в покое, не причинив им зла. Противное было совершенно невероятно.
Нисколько меня не успокоил и разговор с Боролиным, имевший место в середине третьей декады декабря. Я совершенно случайно встретился с Боролиным на лестнице барака Управления. Боролин, очевидно, и сам сознавал какие страшные дни мы переживаем. Он знал, что у меня пункт 8-й и тоже ожидал наибольших репрессий для политзаключенных с этим пунктом. Оглянувшись, что нас никто не подслушивает, Боролин рассказал мне о своем демарше перед начальником 3-го отдела, спросив последнего не будут ли оголены внезапным изъятием политзаключенных с пунктами 8 и 6 (сам Боролин был посажен по пункту 6) аппарат главного механика и другие механические и энергетические участки его хозяйства в отделениях концлагеря и, если будут, то чтобы 3-й отдел предупредил его, как главного механика ББК, для своевременного подыскания замены. Начальник 3-го отдела ему ответил, что пункты 58 статьи не причем и, что Боролину не требуется искать замены. Появившийся заключенный не дал Боролину договорить, и для меня осталась неясна дата успокоительного заверения начальника 3-го отдела – в начале террора или после того, как перестали вытаскивать политзаключенных из бараков, то есть когда операция как будто была закончена? Боролин безусловно хотел меня этим сообщением успокоить, но ведь заверение чекиста, которому кроме всего прочего нельзя было полностью доверять, на меня не распространялось, поскольку я не работал в службах подчиненных главному механику. Смятение моей души продолжалось.
В начале я января 1935 года я случайно встретился на улице с Леонидом Антоновичем Даниловым, краткую биографию которого я уже рассказывал. Я не знаю точно был ли он в эти дни еще политзаключенным или уже вольнонаемным, так как на шинели у него не было петлиц, но занимал он должность заместителя начальника УРО ББК. В манерах он тщательно подражал полуинтеллигентам-чекистам и всячески подчеркивал, что он стал «свой». И все же у него, по-видимому, осталось то теплое чувство ко мне, которое он питал на Соловках, потому что на мой поклон он остановился и протянул мне руку. Оглянувшись и убедившись, что никто нас не видит, Данилов спросил меня когда у меня кончается срок? Не выдавая своего волнения, так как я не знал к добру ли я ему попался на глаза, я ответил, что с зачетом рабочих дней срок заканчивается через четыре месяца. «Не повезло Вам, сказал он мне, - с грустью посмотрев на меня, - с 58-й статьи все зачеты сняты»! Это известие было бальзамом на мою исстрадавшуюся душу. Я понял, что это, и только это, есть репрессии, которых я боялся, как неминуемые, в больших масштабах. «Значит жив, жив буду, расстрел сейчас мне не грозит», - чуть не выкрикнул я! Данилов с удивлением посмотрел на мое просиявшее лицо, ведь он не знал к чему я приготовился и, вероятно счел меня за ненормального. «Но у меня 8-й пункт», - почти выкрикнул я, делясь с ним своей радостью, что теперь я узнал об отсутствии опасности для меня расстрела. «Да и с 8-го пункта сняли зачеты, - с сожалением ответил мне Данилов, - всем пунктам 58 статьи сняли зачеты», - подтвердил он. Я с чувством пожал ему руку и, больше ни о чем не спрашивая, поспешил в барак. А внутри у меня все пело, вертелась только одна мысль: «Остался жив, жив, жив»! Мой сосед эндек, видя мою радость, даже спросил: «Вы что, освобождаетесь досрочно?»
И не только Данилов мог принять меня за сумасшедшего, но и всякий кто услышал бы как я обрадовался снятию зачетов рабочих дней, которое отодвигало мое освобождение из концлагеря в туманную даль годов. Распоряжение о снятии зачетов фактически означало прибавки мне срока в два года и это на пороге освобождения! А я радовался, так как считал эту прибавку срока легкой расплатой за неминуемую месть против ни в чем неповинных людей. Таков был парадокс концлагерей, так были вывернуты наизнанку мозги политзаключенных концлагерным режимом угнетения. А возможно, что я действительно за декабрь месяц стал психически-ненормальным. В концлагере не так уж мало было психически больных в разной степени.
Я уже рассказывал сколько признанных врачами психически больных было на Соловках, для которых был отведен целый этаж большого здания санитарно-следственного изолятора для больных заключенных находившихся под следствием по возбужденным против них новым делам уже в концлагере. На Медвежьей горе я видел этап более десяти заключенных жителей Средней Азии, так называемых басмачей. Они были психически ненормальными и их конвоировали фельдшер и санитары в белых халатах. Вероятнее всего это был вольнонаемный медицинский персонал и солдаты войск ОГПУ, скрывавшиеся в белых халатах. Маскировка белыми халатами мне стала понятно по разыгравшейся на моих глазах сцене. Этап расположился под соснами недалеко от вокзала. Басмачи с большими бородами были одеты в разорванные, пестрые, ватные, очень поношенные, среднеазиатские халаты с белыми чалмами на головах из госпитальных полотенец. У каждого на веревочке через плечо висел деревянный меч. Они расхаживали с довольным видом, не сознавая своего положения. И вдруг на беду в поле зрения попал проходивший стороной солдат войск ОГПУ с кроваво-красными петлицами. Азиаты издали потрясающий клич и, с возгласами на родном языке, перемежавшимися с отборными ругательствами на русском и выкриками «собака, красный, чекист», кинулась на солдата в форме. На ходу они вытащили из веревочных портупей деревянные мечи и если бы солдат стремглав не убежал, то басмачи «порубили бы» его, санитары перехватили разгневанных сумасшедших и стали их успокаивать.
После убийства Кирова репрессии в концлагере распространились не только на политзаключенных, но и на бывших заключенных оставшихся работать вольнонаемными. В начале третьей декады декабря я встретил Полозова, которого хорошо узнал по Соловкам, поскольку некоторое время я прожил с ним в одной комнате в общежитии Электропредприятий. Не окончивший в революцию гимназист, он занялся грабежами и, как бандит, был заключен в 1927 году в концлагерь на 10 лет. Опытный электрообмотчик, Полозов прошел на Соловках курсы Боролина, а попав на материк дорос до заведующего электростанцией. Полозов был в очень подавленном положении, в котором он, по его мнению, находился. После окончания срока заключения с зачетом рабочих дней, он остался по вольному найму на прежней должности заведующего электростанцией лагпункта «Оленья губа», самого западного лагпункта в самом северном Мурманском отделении ББК, расположенного на берегу Ледовитого океана. В начале декабря Полозова в числе очень многих вольнонаемных, бывших заключенных, несмотря на то, что он сидел в концлагере не 58 статье уволили без объяснения причины. Меня очень поразило распространение и на «социально-близких», как официально в концлагерях чекисты называли уголовников. Далее Полозов мне поведал о страшных мытарствах, которые он претерпел и в родном городе Курске и в других городах, в поисках работы. Нигде его не приняли на работу как бывшего заключенного, хотя он был освобожден «по чистой», то есть без всяких ограничений прав. По-видимому и партийное начальство на воле обезумело от страха репрессий и боялось как бы чем не привлечь внимание к себе ОГПУ, хотя бы взятием на работу бывшего заключенного. Проездив и прожив все деньги Полозов вернулся на территорию ББК, надеясь поступить на работу хоть здесь на лесозаготовки треста «Кареллес» электриком или в крайнем случае лесорубом. Больше я с ним не встречался и не знаю, удалось ли приткнуться куда-нибудь на работу, чтобы снова не заниматься грабежами, к которым он, безусловно, потерял вкус.
Практика массового увольнения заключенных оставшихся после освобождения работать по вольному найму в концлагерях во время чрезвычайных событий не ограничилась 1934 годом. В 1937 году поголовному увольнению из концлагерей подверглись бывшие политзаключенные оставшиеся работать по вольному найму, причем часть из них получила новые сроки и была переведена на положение заключенных. Сокращенно «вольнонаемный» в концлагерях назывался ВЭЭН (В/Н) и расшифровывался шутниками «Временно незадержанный». На скольких в/н оправдалось это сокращение! Коснулось ли увольнение 1937 года также и бывших заключенных сидевших не по 58-й статье мне не известно.
С конца декабря 1934 года через станцию Медвежья гора на север пошли большие этапы заключенных. Часть их разгружали на Медвежьей горе и пешком отправляли на запад в глухие леса на лесозаготовительные лагпункты и через Повенец на лагпункты вдоль трассы Беломорканала. Первые этапы состояли сплошь из уголовников и бытовиков, отсиживавших свои сроки заключения в тюрьмах различных городов. Места в тюрьмах понадобились для массы новых арестантов, хватаемых после убийства Кирова по всей стране. С конца января 1935 года пошли этапы с политзаключенными, жертвами террора развернутого после 1-го декабря. Из всех этапов частично заключенных оставляли для работы на Медвежьей горе и от этих «новеньких» мы и узнавали страшные новости о положении на воле. Характерно, что во все времена эта «миграция» масс постоянно держала заключенных, наглухо отрезанных колючей проволокой от внешнего мира, в курсе всех событий на воле, причем в значительно большем объеме и, конечно, в более правдивом освещении, чем давала вольным гражданам партийная печать и радио. Когда я был освобожден из концлагеря и стал жить на воле, я почувствовал себя совершенно слепым, я почувствовал полное отсутствие информации, в то время как в концлагерях я узнавал обо всем.
Прибывшие заключенные рассказывали о многочисленных арестах и расстрелах «осколков разбитого вдребезги» - уцелевших до этой поры мелких буржуа, интеллигенции, главным образом офицеров Русской армии. В Ленинграде, кроме многочисленных арестов и расстрелов, производилась массовая высылка в Казахстан и другие отдаленные районы страны целых семей, из которых ранее были посажены в концлагеря или расстреляны члены этих семей. Высылались семьи, члены которых и не были ранее репрессированы. На сборы давалось от двух до десяти суток. Такие семьи были обречены на полное разорение, бросая движимое имущество, и были обречены влачить жалкое существование в необжитых местах. Такие же высылки коснулись и других городов, но в несколько меньшем масштабе. В Ленинграде, как потом мне рассказывала мать, было много случаев, когда доведенные до отчаяния, высылаемые кончали жизнь самоубийством. Толпы высылаемых осаждали на вокзалах билетные кассы, поезда уходили переполненными, дома пустели, обстановка высланных расхищалась.
Высылка целых семей в необжитые места практиковалась сталинской диктатурой и раньше, при ликвидации казачьего населения Дона и Кубани и «раскулачивания» при проведении коллективизации сельского хозяйства. Но впервые городского населения эта, не имеющая равного по жестокости, операция, коснулась после убийства Кирова. Эта операция была еще более жестокой потому, что высылка производилась пожизненно и распространялась фактически и на последующие поколения высылаемых. Если у заключенного, получающего, пусть и безвинно, определенный срок, теплится какая-то надежа выжить его и вернуться в родные места, у высылаемых и этой надежды не оставляли.
Совершенной новостью в истории большевицких репрессий явилось, после убийства Кирова, истребление старых большевиков, руководящих партийцев. Принято думать, что эти репрессии развернулись лишь с 1937 года, в действительности в 1937-39 годах они приняли поголовный характер, но начало было положено сразу же после убийства Кирова и организация СОСНЫ еще в 1933 году – специального концлагеря на Соловках, куда свозили партийцев и постепенно физически уничтожая среди Белого моря, только говорит о том, что расправа Сталина с большевиками была задумана заранее и тщательно спланирована. Вслед за эсерами, меньшевиками, анархистами, большевиками-ленинцами (как называли себя троцкисты-оппозиционеры) на Голгофу революции пошли с 1934 года и большевики-сталинцы. Такой всеобъемлющей, глубокой и жестокой действительной контрреволюции, какую стал проводить Сталин, не могла и присниться самому махровому монархисту, открыв в 1934 году огонь на два фронта и «вправо» и «влево», Сталин по-настоящему мстил всем активным и пассивным участникам Октябрьской революции, активным – большевикам, пассивным – буржуазии, интеллигенции, офицерам Русской армии за то что они не выступили с оружием в руках во время гражданской войны против большевиков, вели себя пассивно и тем самым сохранили свою жизнь.
Живым экспонатом – жертвой сталинского огня налево оказался в нашем бараке красный директор одного из ленинградских заводов с Выборгской стороны Чуканов. Он получил по 58 статье десять лет концлагеря, по его словам жена по той же статье три года срока. Красных директоров-жуликов, грабивших государство, обогащавшихся на общем фоне скудной зарплаты рядовых рабочих, я встречал в концлагере и раньше, но чтобы красный директор сел по 58 статье было и непонятно и еще непривычно. В январе 1935 года Виктор мне сообщил об обмене радиограммами между начальником Белбалтлага Успенским и начальником Кемперпункта по поводу отправки воздушным путем с Попова острова на Соловки Зиновьева и Каменева. Бывшему политзаключенному морскому летчику Свидерскому, оставшемуся работать вольнонаемным на гидросамолете, поддерживающим связь с Соловками, Успенский пригрозил судом Коллегии ОГПУ, если он не доставит на Соловки немедленно Зиновьева и Каменева. Свидерский отказался вылететь, ссылаясь на нелетную погоду. Начальник Кемперпункта, стараясь скорее избавиться от столь высоких большевиков, предупреждал, что не может отвечать за умонастроение заключенных, если будет раскрыто при длительном пребывании на Кемперпункте инкогнито бывших вождей. Получив угрозу, Свидерский с ними вылетел и доставил в СОСНУ Зиновьева и Каменева.
Обширную информацию о развернувшемся терроре в Ленинграде мы получили не от Чуканова, который был совершенно сбит с толку, попавши в контрреволюционеры, и молчал, переваривая случившееся с ним, и все еще по инерции преклонявшегося перед Сталиным. В курсе всех событий оказался другой заключенный, попавший к нам в барак из ленинградской тюрьмы «Кресты», где он отбывал срок в 5 лет за грабежи. Это был молодой, интеллигентный сын профессора Горной академии, Башилов. Его отец был коммунистом, вступившем в партию при НЭПе. В те времена ученые-коммунисты были вороной среди профессорско-преподавательского состава учебных заведений и, это положение отца, отворившего ему дверь в Смольный, позволило Башилову через мать, приходившую к нему на свидание в «Кресты», быть в курсе таких политических новостей, которые были доступны не многим. Только по ходатайству отца Башилова и всю его банду, состоявшую из сыновей, племянников, дочерей и племянниц профессоров и старой интеллигенции не отправили после суда в концлагеря, а оставили под боком у родителей в ленинградской тюрьме, где они успели отсидеть более двух лет и, если бы не убийство Кирова, так бы и не попали в концлагеря. Башилов занял место на нарах подо мной и охотно по вечерам делился с нами накопленными им до вывоза его из тюрьмы сведениями. По его утверждению, подтвержденному впоследствии чекистами, попавшими в концлагеря несколько позже, убийство Кирова произошло при весьма таинственных обстоятельствах, о чем, кстати сказать, весьма прозрачно намекнул и Хрущев в своем докладе на закрытом заседании ХХ съезда Коммунистической партии в 1956 году, даже дав понять о причастности закулисно самого Сталина. За две недели до убийства Кирова, по приказу из ОГПУ, был отозван старший охранник Кирова, а чекисту ответственному за безопасность всей ленинградской верхушки было предложено самому заменить отозванного. Это был ловкий ход, так как ответственный чекист разрывался между основной должностью и сопровождением Кирова и не мог в полной мере обеспечить безопасность ни Кирова, ни остальных. Зная ревность Николаева, с женой которого Киров имел любовную связь, Николаеву дали возможность пронести через все посты оружие и никто не поинтересовался почему он самовольно приехал в Ленинград из Мурманска (в 1934 году Мурманской области не было и Мурманск с Кольским полуостровом входил в состав Ленинградской области), куда Киров отослал Николаева на должность секретаря комсомола, чтоб он не мешал любовным похождениям с его женой. Затем следствие по делу об убийстве Кирова вел сам Сталин, во время которого также таинственно погиб при автомобильной катастрофе везомый на допрос единственный свидетель убийства, второй охранник Кирова. Но устранение свидетелей, хотя и косвенных по этому делу, на этом не закончилось, и было довершено в 1937 году расстрелом в Ленинграде и СОСНЕ полномочного представителя ОГПУ при Ленинградском военном округе Медведя, ответственного за безопасность чекиста и других чекистов из Ленинграда осужденных в 1934 году на разные сроки заключения в концлагеря. С расстрелом наркома внутренних дел Ягоды со всеми членами коллегии ОГПУ-НКВД в 1938 году, которые безусловно были в курсе истинной подоплеки убийства Кирова, Сталин мог окончательно вздохнуть свободно, считая тайну погребенной окончательно. Новое следствие об убийстве Кирова, начатое по постановлению съезда Коммунистической партии, неизвестно к каким выводам пришло и материалы его никогда не будут опубликованы, так как или не осталось никаких документов и живых свидетелей или доказано прямое участие в подготовке убийства самого Сталина.
Тяжело больной, или объявленный таким, председатель ОГПУ Менжинский ко времени убийства Кирова был уже полностью отстранен от возлагавшихся на него обязанностей и все репрессии по указанию Сталина проводил заместитель Менжинского Генрих Ягода сосредоточивший в своих руках громадную власть, которая в конце концов привела его к гибели, поскольку даже сам Сталин стал опасаться его. По поводу власти Ягоды и заключения в концлагерь полномочного представителя ОГПУ при Ленинградском военном округе (ПП ОГПУ при ЛВО) Медведя сразу в концлагере распространился анекдот: «Какая разница между лесом и Ленинградом? В лесу медведь ест ягоду, а в Ленинграде Ягода съел Медведя». Помимо ленинградской партийной верхушки в концлагерь были посажены почти весь состав Ленинградского ГПУ с начальниками отделений. Прибытие этапа с чекистами вызвало на Медвежьей горе сенсацию. Такого еще не видели и бывалые заключенные. Медведь и высшие чины на Медвежьей горе пробыли недолго, их разослали по отделениям на высшие чекистские должности, а Медведь, получивший три года срока за «непринятие должных мер по охране Кирова» очень скоро был назначен начальником Нижнеколымского концлагеря, где он был снова арестован, привезен в Ленинград и там расстрелян. Но на Медвежью гору попали не все ленинградские чекисты. Связанных с охраной партийной верхушки сразу же отвезли в СОСНУ. Они все имели по 10 лет заключения и в 1937 году были расстреляны на Соловках.
Оставленные на Медвежьей горе политзаключенные из этапов прибывших в январе 1935 года обратили наше внимание на закон от 1-го декабря 1934 года, по которому смертный приговор приводился в исполнение в течение 24-х часов. Так как Военной коллегии Верховного суда и Коллегии ОГПУ предоставлялось право рассматривать «контрреволюционные» дела и в порядке этого закона и не применяя его, становилось очевидным еще раз о направленности террора. Этот закон облегчал отправку на тот свет в спешном порядке всех неугодных Сталину лиц, приклеивая им пункт 8-й 58-й статьи и приговаривая их к расстрелу по местам их жительства. Положение мое, имевшего уже 8-й пункт 58-й статьи, по всем данным продолжало быть весьма рискованным.
Башилов, имевший иммунитетом от преследований за распространение политических новостей свою уголовную статью, был очень интересным для нас политзаключенных рассказчиком. То о чем не смел и помыслить политзаключенный, у Башилова вслух выходило очень все хорошо. За правду об обстоятельствах убийства Кирова любому политзаключенному сразу же снесли голову, а с Башилова, как с гуся вода. И о своем отце профессоре-коммунисте он говорил с иронией, как о человеке продавшем за чечевичную похлебку, то есть вступление в партию, свободу мышления даже в кругу своей семьи. Мать свою он обожал. Значительно позже, в один из своих приездов в командировку на Медвежью гору, я видел эту высокоинтеллигентную даму, приехавшую к сыну на свидание. Башилов был не совсем обычным бандитом. Он сам и его банда были для меня первыми и вообще, пожалуй, первыми молодыми людьми из высших слоев советского общества, ставшими на путь преступлений, как будто исключавшими потребность в нем в силу материальной обеспеченности родителей, а для некоторых и в силу происхождения, образования, воспитания. Это скатывание сыновей и дочерей высокопоставленных и высокообразованных родителей не стало единичным случаем в преступлениях Башилова с компанией, а получило широкое распространение в разных городах, в особенности в пятидесятые годы, когда об этом явлении вынуждены были заговорить «лакировщики» на страницах центральных газет, где эти молодые преступники были окрещены «Плесенью». Происхождение этой «Плесени» трудно объяснить отсутствием воспитания своих детей высокопоставленными родителями. Скорее тут действовал фактор наследственности у детей ответработников и общее падение моральных ценностей. Все на чем морально держалось дореволюционное общество было низвергнуто, страх наказания Божьего за совершение преступлений в массах отпал под натиском антирелигиозной пропаганды, а новой морали большевики не смогли привить, будучи прежде всего политиками, а потому и аморальными людьми. И если еще в первые годы революции кто-то имел какие-то идеалы, то уже второе поколение их не имело. Да и глядя на своих отцов, современная молодежь могла ли что-нибудь почерпнуть духовно хорошее, когда их отцы засевшие в результате революции на командные тепленькие места совершенно переродились и, используя свое положение, увлеклись лозунгом Бухарина «Обогащайтесь», кстати, официально отвергнутого Сталиным? Вина за преступность молодежи лежала исключительно на их родителях. Сыновья ответственных работников унаследовали преступность от отцов, грабивших буржуев в годы революции, и чем же были виноваты дети, если они опоздали родиться? В 1917 и первых последующих годах грабеж и личных вещей у буржуазии, а вернее у всех граждан что-то имевших, у так называемых кулаков в 1929-30 годах не только не преследовался, но являлся делом «чести, доблести и геройства». А когда выросли дети тех, кто занимался грабежами в 1917-22-х и 1929-30-х годах эти же действия детей отцов-грабителей стали уголовным преступлением, нарушающим закон об охране личного имущества. Конфликт отцов и детей оказался налицо.
Компания Башилова занялась грабежом своих родственников весьма оригинальным способом, так сказать, включившись в корыстных целях в ограбление граждан советским государством и его карательным органом ОГПУ. Агенты ОГПУ производили начиная с конца 1929 года и в начале тридцатых годов обыски на квартирах в городах и деревнях у мелкой буржуазии, семей дореволюционных чиновников с целью реквизиции золотых изделий, царских монет, серебра и драгоценных камней. При безрезультатных обысках граждан и гражданок арестовывали, морили в горячих, холодных, световых и фекальных карцерах, мучили конвейерными допросами, запугивали длительными сроками заключения в концлагерь, арестами подростков пока подозреваемые в сокрытии ценностей либо не превращались в инвалидов, либо не откупались от мучителей драгоценностями, если таковые действительно имели. Башилов со своей компанией раздобыли форму ОГПУ в виде двух шинелей с военными ремнями и пустыми кобурами и две буденовки, бланк ордера на обыск. Компания разузнавала предварительно о месте хранения ценностей у близких и дальних родственников и хороших знакомых членов компартии, в том числе и девушек, а затем двое из компании являлись в форме ОГПУ, предъявляли безымянный ордер на право обыска, переворачивали для отвода глаз все и находили в указанном месте ценности. После этого составлялся акт на изъятие ценностей и грабители уносили их с собой. Принцип всех планируемых операций заключался в том, что непосредственно с обыском являлись только те из компании, кого в лицо данная семья не знала. Так например если член банды А выведывал у своих родственников а1, а2, а3 и т.д., то с обыском к а1, а2, а3 и т.д. шли члены банды В и С (если конечно их не знали в лицо а1, а2, а3). Если выведывал В у своих родственников в1, в2, в3 и т.д., то при том же условии не зная их в лицо шли А и С и так далее и тому подобное. Награбленные ценности сдавались в Торгсин, за что грабители получали часть деньгами, часть торгсиновскими бонами. На последние в магазинах Торгсина приобретались дефицитные продукты и вещи, а деньги шли на развлечения и кутежи.
Так Башилов со своей бандой ограбил большое количество семей родственников и хороших знакомых членов банды и почти два года самозваные чекисты прожили припеваючи. Попались они случайно. В разгар производимого ими обыска у одного родственника, к последнему с той же целью нагрянуло несколько действительных уполномоченных ОГПУ. Последние сначала удивились нечеткости своего управления, пославших в одну квартиру с обыском две группы, а потом сразу разобрались что это за «группа» опередившая их, что это за липовые чекисты и задержали Башилова с дружком. Маскарад Башилова был хорош только для напуганных обывателей, которые от страха и не думали присматриваться к деталям формы и безымянному ордеру на обыск с плохо подделанной печатью. Всю банду выловили, включая и девиц, которые тоже попали на Медвежью гору, и судили, как грабителей.
Действие компании Башилова с одной стороны принесли пользу советскому государству, передав ему золото, серебро, драгоценные камни, которые без помощи Башилова и его дружков, может быть так и не попали бы в казну, а лежали бы спрятанными у частных лиц. С другой стороны банда Башилова нанесла убыток государству, которое через Торгсин покупало, хотя и по дешевке, эти драгоценности, в то время, как при их реквизиции действительными уполномоченными ОГПУ, если только их часть не прилипла бы к рукам последних, государство забрало бы их даром. И хотя банду судили за уголовное преступление, в действительности такие относительно большие сроки за грабеж у частных лиц, Башилов с дружками получили за обладание формой ОГПУ, возможность использования которой в других целях очень напугала чекистов.
Бахвальство Башилова, проскальзывавшее в его рассказах о совершенных ограблениях, погасило во мне ту симпатию к нему, как к умному, наблюдательному, с независимым мышлением незаурядному человеку, принятому сначала мною за политзаключенного. Его откровенность в повествованиях о содеянных им преступлениях, без тени раскаяния, показала полное отсутствие у него понятия честности, на аморальность его самого и его друзей. Так как будто он ничего плохого не делал. Сравнивая компанию Башилова с другой бандой молодых людей, курсантов Киевского военного училища, среди которых были сыновья высшего командного состава Красной армии, и, которые попали на Медвежью гору несколько раньше, со сроками по 10 лет каждому за вооруженные ночные ограбления прохожих и квартир, я не знал у кого осталось больше крупиц совести? Киевляне могли при ограблении убить человека, угрожая ему наганом, башиловцы грабили своих же родственников! Абсолютное отсутствие врожденной и привитой честности было и у тех и других и все же какая-то разница между ними была. А в чем? Это я никак не мог определить. Разница между мной и другими молодыми политзаключенными с одной стороны и молодыми грабителями с другой была и весьма ощутимая. Мы ни за что не расстались со своей честностью, у них ее не было и не потому ли им в концлагере было значительно лучше жить чем нам. Эти грабители-уголовники совершившие преступления против людей и заслуженно посаженные в концлагерь пользовались всеми привилегиями у чекистов как «социально-близкие», а мы, в том числе и я, не совершившие никакого преступления ни перед государством, ни перед людьми, но оставшись честными людьми, испытывали гнет начальства, и даже, как я, который целый месяц ждал расстрела опять-таки невинным, ни в коей мере не находился в безопасности от дальнейших репрессий, чтобы избежать которых надо было снова ловчиться в перемене места заключения, с малой надеждой на успех в сгустившихся тучах концлагерного режима.
НА ДВУХ И МЕЖДУ ДВУХ
На двух и между двух стульев длилось мое сидение в концлагере на Медвежьей горе первые два месяца 1935 года. В переносном смысле слова стул для сидения на Медвежьей горе ходом событий медленно но верно из-под меня ускользал, а другой стул готовился для меня в отдаленном лагпункте какого-нибудь лесозаготовительного отделения концлагеря в лучшем случае, в худшем я мог угодить с открытием навигации в СОСНУ, назад на Соловки, такие знакомые мне, но теперь с еще более жестоким режимом. После молниеносно проведенной в декабре 1934 года операции по изъятию политзаключенных с Медвежьей горы наступило внешнее затишье в терроре. Во время операции непосвященным нельзя было определить по каким признакам были выделены политзаключенные для особых дополнительных репрессий. Когда наступило внешнее спокойствие и 3-й отдел и УРО Белбалтлага приступили к детальной перетряске всей картотеки на политзаключенных можно было с большей уверенностью догадываться об изъятии политзаключенных в декабре по готовым спискам спущенным Спецотделом ОГПУ. С начала 1935 года начали формировать из политзаключенных этапы для отправки с Медвежьей горы в глубинные лагпункты концлагеря, очевидно, как результат просмотра личных дел и сделанных по ним выводов уже не по приказу свыше, а по злой воле концлагерных чекистов. Впрочем, такие отправки политзаключенных на лесозаготовки производились не только с Медвежьей горы из работавших в управлении ББК, но и из других отделений концлагеря, в частности несколько позже из Пушсовхоза. Переброска меня с Медвежьей горы, о которой я расскажу ниже, опередила темпы рассмотрения личных дел по алфавиту, меня спасла начальная буква моей фамилии, до которой не успели добраться. По всей вероятности, только этим я и избег участи быть отправленным на лесозаготовки.
На двух стульях в прямом смысле слова, это же время я просидел на одном в Инспекции ГУЛАГа, на другом в отделе Главного механика. В начале января Боролин осуществил свою мысль, высказанную им мне при первом нашем свидании на Медвежьей горе. С согласия Лозинского он поручил мне работу по составлению проекта реконструкции электрического освещения на Медвежьегорском лесопильном заводе ББК. Завод был не то построен заново, не то расширен и модернизирован какой-то английской лесной фирмой в период гражданской войны при занятии Карелии десантом британских войск и частями армии генерала Миллера. Обилием лесорам, фуговочных и других деревообрабатывающих станков завод произвел на меня внушительное впечатление, в особенности после скромного монастырского завода на Соловках всего в одну пилораму. Мощный локомобиль приводил в движение одним шкивом систему трансмиссий, к которым были подключены пилорамы и часть станков. С другого шкива ременная передача шла на шкив мощной динамо-машины, дававшей электроэнергию для освещения завода и вращения электромоторов других станков. Освещение цехов было недостаточное в смысле размещения светильников и высоты их подвески. Освещенность рабочих мест не соответствовала нормам IX ВЭС (Всесоюзного электротехнического съезда), заменявших в те годы не существовавший еще ГОСТ.
На Лесопильном заводе меня радушно встретил мой старый знакомый по Соловкам политзаключенный Белецкий. На Кремлевской электростанции на Соловках он был старшим механиком, а при последнем заведующим соловецкими электропредприятиями, политзаключенным Пестове, фактическим заведующим электростанцией. Очень пожилой, Белецкий без всякого образования, но с громадным опытом, обладавший большими техническими способностями, мог заткнуть за пояс любого молодого инженера, не имевшего практики. На Лесопильном заводе он имел вес больше заведующего, будучи одновременно и главным энергетиком и главным механиком завода. Белецкий обошел со мной весь завод, дал мне планы цехов и я засел за работу.
Мне пришлось полностью перестроиться, так как работа не только по масштабу, но и по исходным данным отличалась от проектирования освещения помещений, которое я выполнял на Соловках, будучи контролером и заведующим электрических сетей. Во-первых, площадь цехов была несоизмерима с канцелярскими комнатами и жилыми бараками на Соловках, где в основном только переносились световые точки при изменении назначения помещения или переезда учреждения с другой расстановкой столов. Во-вторых, проект должен был соответствовать нормам IX ВЭС, как по освещенности площадей, так и по максимально допустимой токовой нагрузки сечения проводов. В-третьих, к проекту надо было приложить смету руководствуясь сметным справочником по затратам рабочей силы и материалов в соответствии с существующими нормами, причем рабочая сила расценивалась в рублях и копейках, как если бы работы производились не заключенными. На Соловках все было проще, только материал указывался по объему работ, рабсила вообще не указывалась, стоимость в рублях не обсчитывалась.
Передо мной открылась совершенно новая страничка технических знаний – составление смет. Работа порученная мне Боролиным много дала в повышении моих знаний и осваивать их, учиться приходилось снова на практике, одновременно и познавая и работая. Впервые в жизни я взял в руки сметные справочники, по ним и начал работать. Таким образом у меня появился второй стул в отделе Главного механика. Поэтапно мою работу проверял и давал указания помощник главного механика, молодой инженер-электрик Давыдовский, застенчиво щуривший близорукие глаза несмотря на постоянно носимые очки. Он оказался очень милым, тихим, скромным человеком и работать под его руководством было одно удовольствие. Давыдовский был политзаключенным с десятилетним сроком, отсидевшим около двух лет. У него, как и у меня, был 8-й пункт 58-й статьи, он был такой же «террорист», как и я. «Мы оба с Вами, - шутил Давыдовский, - по «мокрому делу». На уголовном жаргоне мокрым делом называется убийство человека. Работал я с увлечением. Работа отвлекала от тяжелых мыслей, от предчувствия расправы за убийство Кирова. После окончания сметы я вернулся в Инспекцию ГУЛАГа, но ненадолго.
Очевидно я настолько удовлетворительно справился со сметной работой, что Боролин снова через несколько дней меня вызвал и прикомандировал меня в помощь к политзаключенному инженеру-электрику Катульскому, которому я сдал в Кеми КЭС. Боролин временно отозвал его из Кеми в командировку на Медвежью гору с оставлением его заведующим КЭС. Нам было поручено полностью переделать проект и смету по электрическому оборудованию строящейся на Медвежьей горе гостиницы «Интурист».
Кроме явных технических ошибок допущенных в проекте, «Гипрогор», спроектировавший гостиницу полностью, очень размахнулся в величине потребления гостиницей электроэнергии равной почти всей мощности Медвежьегорской электростанции ББК. Таким образом, нам предстояло уменьшить количество и мощность токоприемников в целях экономии в потреблении электроэнергии, а по существу сделать новый проект. Катульский взялся за силовые установки, мне поручил освещение. Катульский сократил число электромоторов, а с ними и ряд подъемников для хозяйственных нужд, я сократил количество светильников в коридорах, залах и количество точек в номерах, доведя в общей сложности нагрузку до заданного предела. Сделав уже проект по освещению Лесопильного завода, я хорошо стал разбираться в сметных справочниках и не ударил лицом в грязь перед инженером Катульским, который почти никаких поправок у меня не сделал. Работали мы с ним дружно и проект со сметой быстро сдали без возражений со стороны проверявшего Давыдовского. Монтажники также никаких претензий нам не предъявили.
И еще раз на Медвежьей горе я понадобился как электротехник, но не по знаниям, а по занимаемой должности в Инспекции ГУЛАГа. Это был мой единственный выезд на подведомственное предприятие за все четыре с лишним месяца моей работы в Инспекции. На Кожевенном заводе случилась авария и Боролин позвонил мне чтоб я с ним ехал. В легковой машине поехали трое – Боролин, я и следователь 3-го отдела, сумрачный чекист с удивительно тупым выражением лица. По дороге мне не понравилось поведение Боролина. Мне показалось, что Боролин уж слишком очекистился. Боролин инструктировал следователя как надо допрашивать машиниста электростанции Кожзавода допустившего в ночную смену выплавление коренного подшипника локомобиля. Может быть такой инструктаж и нужен был, чтобы глупый следователь не раздул дела по привычке хватать всех подряд виновных и невиновных и я был не прав в оценке поведения Боролина?
Встретил нас и показал аварию и дежурившего машиниста заведующий электростанцией политзаключенный Васильев. Боролин и я хорошо его знали по Соловкам и Боролин ценил его как способного своего ученика на курсах. На Кремлевской электростанции на Соловках Васильев работал сначала слесарем, а потом электрообмотчиком по ремонту электромоторов под руководством Полозова и теперь дошел до заведывания электростанцией предприятия. Васильев политзаключенным был только по данной ему статье уголовного кодекса 58-й, пункт 6-й (шпионаж). На самом деле он был крупный бандит и, очевидно, прельстившись деньгами, стал по-настоящему шпионом. Расстрел ему заменили десятью годами заключения в концлагерь поскольку он был «социально-близкий», иначе его не оставили бы в живых.
С Васильевым я уже раз виделся по прибытии на Медвежью гору. Узнав об учреждении в Инспекции ГУЛАГа должности инспектора-электротехника, он поспешил представиться мне. Улыбка так и расплылась на его лице, когда в роли инспектора он увидел меня. Васильев решил увидеть на этом месте чекиста, если не вольнонаемного, то заключенного и страшно обрадовался, что инспектор безобидный политзаключенный, его хороший знакомый. Еще большую радость в нем вызвало мое сообщение о том, что ничего не изменилось и он по-прежнему будет подчиняться только Боролину, который вытащил его с лесозаготовок на материк после отправки Васильева с Соловков и назначил его заведующим электростанцией Кожзавода.
Боролин дал распоряжение разобрать локомобиль и немедленно заменить подшипник. Следователь снял допрос с Васильева и дежурившей при аварии смены. После этого в машину с Боролиным и следователем село еще два чекиста приехавших на Кожзавод раньше нас. Мне места не осталось и я отправился в обратный путь пешком по Повенецкому тракту. Десять километров я прошел за три часа, не торопясь, радуясь побыть в одиночестве, лицом к лицу с природой. Был чудный, правда очень холодный, зимний солнечный день. Заснеженные горы красиво контрастировали с голубым небом и необъятною далью замерзшего Онежского озера, которая на горизонте совершенно сливалась с белесоватым небесным сводом и было непонятно где проходит линия горизонта. Дорога проходила на значительной высоте над уровнем озера и потому лед озера и небо казались одной гигантской бело-голубой сферой начинающейся за линией берега, равномерно закругляющейся вверх по мере удаления от меня и заканчивающейся надо мной и сзади и сбоку где-то за горами. Было настолько красиво, что я не пожалел об этой вынужденной прогулке. Вначале я делал попытки автостопа, но попутные грузовые автомашины проносились мимо меня, и ни один автобус не обогнал меня. Затем я втянулся в ходьбу и, захваченный умиротворяющим воздействием на душу красивой природы, решил дойти пешком. На Медвежью гору я пришел в сумерки, усталый физически, но отдохнувший душой. И еще одно интересное наблюдение сделанное во время путешествия врезалось мне в память. По количеству встречных и обгонявших меня грузовых автомашин я понял насколько возросло за годы моего заключения количество автомобилей, если не в стране в целом (об этом я не мог судить из-за проволоки), то в системе концлагерей ОГПУ. Постепенный рост автопарка был скрыт от меня изоляцией на Соловках, в Кеми концлагерь тоже не имел ни одной автомашины, а здесь, очевидно, осталось наследие от строительства Беломорканала, хотя и много машин было отправлено в БАМЛАГ сразу же после окончания строительства.
Работая над проектами в отделе Главного механика, я стал посещать занятия научно-технического кружка управления ББК. Возглавлял кружок политзаключенный профессор Осадчий, тот самый Осадчий, который выступал общественным обвинителем на судебном процессе по «Шахтинскому делу» в 1928 году, обвиняя вслед за прокурором своих коллег инженеров-горняков в неслыханных злодействах, во «вредительстве» на шахтах Донбасса. Возмездие настигло Осадчего в 1931 году, когда он сам был обвинен во вредительстве по делу Промпартии и заключен в концлагерь на десять лет. Мне говорили, что до него кружок возглавлял тоже политзаключенный, профессор Сатель, проданный ОГПУ на строительство Сталинградского тракторного завода, который фактически его и построил. Занятия в кружке проводились по вечерам один раз в шестидневку. Особенно мне запомнились два занятия. На одном Боролин выступил с большим докладом о строительстве на Кольском полуострове на реке Тулома гидростанции силами заключенных ББК. В докладе много места было посвящено обоснованию необходимости форсировать механизацию работ для завершения строительства в срок. «Объем скальных работ на Туломе, - докладывал Боролин, - нисколько не меньше, чем был на строительстве Беломорканала, но сосредоточен на малой площади в большую глубину. Если Беломорканал был построен в такой короткий срок клином, кувалдой и тачкой, то только потому, что вся колоссальная рабочая сила могла быть рассредоточена на сотни километров по всей трассе. Такое же количество людей сосредоточенное на пятачке стройки Тулогэс не может дать той же производительности, так как люди только мешают друг другу, наносят друг другу увечья. На клине, кувалде, тачке далеко не уехать, нужна хотя бы простейшая механизация, хотя бы хайдерики, иначе наше отставание от графика все больше будет увеличиваться: я прошу вас поддержать меня резолюцией со справедливым требованием перед главным инженером ББК о механизации работ на Туломстрое». Главный инженер ББК, бывший политзаключенный Карлштейн, выдвинувшийся на строительстве Беломорканала, где темпы строительства определялись только мускульной силой рабов, так привык к бездушному чекистскому обращению с заключенными, что и не помышлял о каком-нибудь облегчении рабского труда, совершенно забывая о неминуемой затяжке в сроках строительства ведомых доисторическими методами труда. Боролин, всегда ясно представлявший далекое будущее, не зря забил тревогу, ополчившись против таких погонщиков, как Карлштейн, застывших в косности, в своем личном благополучии, не видевших необходимости перемен в организации труда заключенных, которые властно диктовались с развертыванием строительства во все больших и больших объемах.
Другое занятие кружка, происходившее в великолепно организованной и посильно оснащенной измерительными приборами гидромеханической лаборатории ББК, также произвело на меня большое впечатление. Здесь группа энтузиастов-политзаключенных, в основном, талантливых конструкторов из бюро А.Н. Туполева из ЦАГИ, переквалифицировавшихся в гидротехников, проводила по заданию ГУЛАГа большую работу по изысканию наиболее эффективных конструкций плотин для гидроузлов, разрабатывая вопросы просачиваемости воды под основания плотин, через тело плотин, устойчивости плотин на грунте. Бесчисленные протоки воды, разной ширины и профиля дна, разной скорости течения прорезывали бетонный пол громадного деревянного сарая. Чувствительные датчики, вмонтированные в миниатюрные плотины перегораживающие протоки, давали картину просачивания воды в зависимости от комбинации материала плотин, степени деформации тела плотины под давлением столба воды на разных уровнях и при разных скоростях течения. В начале 1935 года лаборатория уже спроектировала Угличский и Рыбинский гидроузлы и я за несколько лет до их постройки, на макетах, в уменьшенном виде ознакомился с этими сооружениями, видел на бетонном полу отрезок русла Волги с устьями ее притоков «протекавшей» в скромной лаборатории на Медвежьей горе, так далеко расположенной на севере от мест будущего строительства. Обо всем виденном нами и был зачитан подробный доклад. Эти посещения научно-технического кружка не только расширяли мой технический и общий кругозор, но и давали возможность отвлечься от неприглядных будней в обществе научно-технической высокоинтеллигентной публики. С большим удовлетворением я констатировал неистребленную во мне жажду знания, потребность познавать новое, интересоваться всем. Все это было хорошим указателем на несломленность моей натуры. Я всегда был убежден, что пока хочется учиться, значит живешь, а не прозябаешь, несмотря ни на какие угнетения, ни на какой низкий уровень жизни.
Между проектными работами мне блеснул солнечный луч сквозь низко нависшие свинцовые тучи ожидания своей судьбы. Сампилон в свою очередную командировку на Медвежью гору передал мне на словах от Нее о ближайшей командировке в Сельхозотдел на один день с точным указанием даты Ее прибытия. В этот день я явился на работу в Инспекцию с поднятым воротником тулупа, представился очень больным. Я попросил разрешения у Лозинского пойти в амбулаторию. Добрейший Лозинский сразу меня отпустил, добавив, чтобы я полежал остальную часть дня в бараке, а вышел бы на работу в последующие дни только тогда, когда почувствую себя здоровым. Я поспешил к приходу рейсового автобуса из Повенца и встретил Ее. Была большая удача: Она приехала без конвоя. Конечно на глазах других я даже к Ней не подошел, но мимоходом мы условились о месте встречи в поселке через два часа, которые Ей были достаточны для совершения дел в Сельхозотделе. Просидев в бараке положенное время, я пошел также с поднятым воротником тулупа в условленное место, где мы и встретились, пожав только друг другу руки. Мы прошли на квартиру к той хозяйке, где я жил с матерью во время свидания по приезде нашем из Кеми. Хозяйка встретила меня радушно, пригласила в ту комнату, которую мы занимали. Комната пустовала, так как после убийства Кирова ни одному заключенному свиданий с родными не разрешали. Оставшись с Ней наедине мы дали волю нашим взаимным чувствам и не могли наговориться друг с другом. Хотя в Пушсовхозе никаких изменений режима в худшую сторону не произошло, Она отдавала себе отчет в остроте момента. Она очень беспокоилась и за меня и за себя. О снятии всех зачетов рабочих дней Она уже знала. Итоги обсуждения нашего положения были очень печальны. Стало ясно, что о ни каком досрочном Ее освобождении сейчас не может быть и речи, так как если бы всесильный Ягода и хотел бы выполнить данное им обещание, даже ему нельзя было идти в разрез с разгулом террора после убийства Кирова, когда никого не освобождали, а наоборот сажали в концлагеря и расстреливали. В мое положение лучше было и не вдумываться. Отсюда возникал вопрос как нам быть в дальнейшем, имеет ли смысл что-нибудь предпринять, чтобы продолжая оставаться в концлагере быть по крайней мере вместе? Сердце подсказывало «да», осторожность говорила «нет». Находясь на территории одного и того же лагпункта, мы не удержались бы видеться друг с другом, а это наверняка при строгом режиме привело рано или поздно к ухудшению уже и так не блестящего положения в концлагере нас обоих. Если все же попытаться нам соединиться, то надо было мне попасть в Пушсовхоз, а не Ей на Медвежью гору, так как я был уверен в абсолютной непрочности моего пребывания здесь. Кроме того с Ее переводом из Пушсовхоза Она лишилась бы удовлетворительных бытовых условий и посильной работы. Со мной дело еще осложнялось и тем, что хлопотами о моей переброске с Медвежьей горы можно было напомнить о себе и угодить вместо Пушсовхоза на лесозаготовки в штрафное отделение, и тем, что у меня просто не было сил теперь ловчиться с переброской. И еще было одно обстоятельство тоже связанное с остротой момента: никто бы не пропустил меня на заведывание электростанцией Пушсвохоза, а только на такую ответственную должность мог быть направлен персональный вызов на меня. Таким образом, о нашем соединении не могло быть и речи.
Однако, как Она мне сообщила, о вызове меня в Пушсовхоз имел место, правда, ни к чему не обязывающий, разговор. Зональная станция была переведена в другой барак с электрическим освещением, но работники ее продолжали пользоваться керосиновым освещением и включить электрическую аппаратуру не могли из-за очень плохой работы электростанции, что вызывало справедливые нарекания всех. Зональную станцию посетил после ее переезда в новое помещение помощник по производству начальника ОЛП «Пушсовхоз» политзаключенный Павел Владимирович Дробатковский, офицер Павлоградского гусарского полка, сын помещика и агроном с незаконченным образованием. Ученые мужи набросились на него так, как когда-то на меня в Биосаде на Соловках. Дробатковский объяснял плохое снабжение электроэнергией отсутствием в совхозе знающего электрика. На это Сампилон и Вадул-Заде-Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы] выдвинули мою кандидатуру. Она в разговор не вмешивалась, очевидно считая мое присутствие в Пушсовхозе, в связи с обострившейся обстановкой, нежелательным. Дробатковский никак не реагировал на предложение ученых, хотя мы с ним и были знакомы по Соловкам, где он заведовал Сельхозом до переброски на материк, а я тогда был контролером электросетей. Но будет ли проводить в жизнь поданную ему идею и как в душе Дробатковский отнесся к предложению ученых, Она не знала. И если Дробатковский начнет действовать, то напоминанием о моем существовании поможет или повредит мне, добьется моего перевода в Пушсовхоз или ускорит отправку в штрафное отделение? Нам можно было об этом только гадать.
Единственно о чем мы договорились с Ней, в этот Ее приезд, было условие возобновления ежедневных телефонных переговоров в определенный час после окончания рабочего дня в Управлении. Это я неукоснительно и делал вплоть до вывоза меня с Медвежьей горы. Радость встречи сменилась горечью расставания. Я проводил Ее до автобуса. Оба мы не знали увидимся ли когда-нибудь.
Время шло. К поверкам утром и вечером заключенные привыкли. На патрули постепенно перестали обращать внимание и после работы заключенные снова стали бродить между бараками, по поселку и ходить в театр и кино. Я стал после обеда до поверки ходить к Виктору на радиостанцию почти ежедневно, а выходные дни, как и до 1-го декабря, с ним и с Валентином ходил на прогулки и по окрестностям поселка. Наступившую после декабрьских арестов и отправок политзаключенных тишину ничто не нарушало, но тишина была явно зловещая, чувствовалось тяжелое дыхание притаившегося за углом зверя, согнувшего спину для нового жестокого прыжка на политзаключенных.
И день прыжка наступил. Заранее он не был запланирован чекистским начальством, его вызвало стихийное бедствие и прыжок, минуя Медвежью гору, пришелся на Кемь, приостановив даже на время плановый пересмотр картотеки политзаключенных Белбалтлага.
27-го января в Кеми произошел грандиозный пожар. Сгорели дотла прирельсовые склады частей технического и общего снабжения на 90-м пикете. Сгорел и склад, с которого начался пожар, с ватой для пошивки зимнего обмундирования на Вегеракшенской пошивочной фабрике подчиненной Инспекции ГУЛАГа. Помимо миллионных убытков, срывался план пошивки обмундирования, заключенные во всех концлагерях остались без теплой одежды. Бедняга Лозинский еще более сгорбился, больше засеребрилась его голова. Все высшее начальство ББК с армией следователей и оперативников 3-го отдела выехало в Кемь. Приехали чекисты из Москвы, представители из Спецотдела и ГУЛАГа ОГПУ. Лозинского тоже вызвали в Кемь. Лично мое положение тоже было не из приятных. Из немногочисленного состава Инспекции только у меня одного был 8-й пункт статьи, и на меня должен был в первую очередь обрушиться гнев чекистского начальства обозленного нахлобучкой сверху за «расхлябанность дисциплины в концлагере» якобы приведшей к таким убыткам государству, да еще с уничтожением дефицитной ваты, которая тогда в подавляющем большинстве была из импортного хлопка. Да и состряпать дело против всех политзаключенных работников Инспекции легко было по трафаретному рецепту: «мол знали когда склады на 90-м пикете были до отказа набиты ватой и дали сигнал своим подручным в Кеми о поджоге». Попробуй доказать обратное! По горькому своему опыту все политзаключенные знали о невозможности последнего.
Хотя следствие установило причину пожара, состоявшую в том, что маневровый паровоз Наркомата путей сообщения не закрыл поддувало, проходя мимо склада с ватой, и вата загорелась от искры попавшей из паровоза, Кемь был «очищена» от политзаключенных. Кого в СОСНУ, кого в другие отделения на лесозаготовки с дополнительными сроками, а кого и расстреляли. В числе кладовщиков, сторожей и пожарников был расстрелян и начальник городской пожарной охраны политзаключенный офицер Русской армии Клодзинский, так много мне помогавший во время моего заведывания КЭС. Совершенно справедливо Катульский радовался своевременному отозванию его Боролиным на проектную работу из Кеми. «Если бы я там в это время был, - говорил мне Катульский, - мне несдобровать бы». «А Вы, - обращался он ко мне, - прямо в сорочке родились, что Вас тоже отозвали из Кеми». И он был тысячу раз прав и мне оставалось еще раз мысленно благодарить Лозинского и Боролина за своевременный перевод меня из Кеми, где неминуемо я погиб бы при тех разгулявшихся там страстях.
На Медвежьей горе, на другой же день после пожара, перепуганное начальство ввело ночные дежурства работников отделов Управления, чтобы не оставлять без людей помещения ни на минуту и чтобы были виновные в случае возникновения пожара Управления. Дежурные назначались по одному на этаж в каждом управленческом бараке. Отдежурившему ночь предоставлялся на следующий день отдых до 12 часов дня, после чего заключенный был обязан являться на работу. Мне пришлось раза три дежурить и это было очень мучительно. Январь и февраль месяцы 1935 года были очень морозны и в бараках было холодно. Для дополнительного обогревания помещений в дневное время почти во всех комнатах были установлены временные железные печки. Ночью, когда мороз еще больше крепчал, топить их воспрещалось и приходилось дежурить при минусовых температурах в комнатах. И все же и при таких условиях держаться на Медвежьей горе было неописуемым счастьем по сравнению с отправкой в дремучие леса, лесозаготовительные отделения.
Почти на другой день после окончания моей работы над вторым проектом и моего возвращение на свой постоянный стул в Инспекцию, у нас прибавился новый работник, помощник начальника Инспекции ГУЛАГа еврей Меер Львович Дич, заключенный (заключенный по уголовному делу) чекист-следователь ленинградского ГПУ. Он не был из тех ленинградских чекистов арестованных после убийства Кирова, обвиненных в контрреволюции, этап с которыми пришел в концлагерь на Медвежью гору в марте месяце 1935 года. Дич был посажен значительно раньше и тем избег участи своих прочих сотрудников. На последних было несмываемое пятно контрреволюционеров, хотя ими они никогда не были, а Дич ходил гоголем, как принадлежащий к категории уголовников, самой почетной части подневольного населения концлагеря. Дич, хапнувший десять тысяч рублей за прекращение дела крупного бандита, который поэтому был освобожден, теперь нес за это наказание сроком на 10 лет, а семья его была с деньгами. Чекисты ничего не хапнувшие, но оказавшиеся козлами отпущения, попали в концлагерь наравне с Дичем, но их положение было неодинаковым, все преимущества перед ними имел все же Дич. Концлагерное правило, введенное чекистами, состоявшее в облегчении участи настоящих преступников и угнетении невинных политзаключенных, теперь, после убийства Кирова, распространялось и на чекистскую среду.
Если Лозинскому удалось создать должность для меня, то нет ничего удивительного в том, что и для Дича была специально создана совершенно ненужная должность помощника начальника. Ведь он кроме того, что был чекист, он приходился дальним родственником начальнику ББК еврею Раппопорту. Теперь в Инспекции оказались три начальника (Лозинский, Райц, Дич) на двух подчиненных (Антонов и я).
Высокого роста, с большой гривой черных с проседью длинных вьющихся волос, выпученными нахальными глазами, большим крючковатым носом, грубым смехом, Дич своей внешностью производил неприятное впечатление, но вел он себя в Инспекции довольно безобидно, не понукая ни Антонова, ни меня. Впрочем и сам он ничего не делал, даже не имел стола и больше толкался в 3-м отделе среди чекистов, где ему было по душе в знакомой обстановке сыска и следствий. Заходя в Инспекцию Дич садился на стул у стола Райца и иногда записывал в записную книжку какое-нибудь поручение изредка даваемое ему Лозинским или Райцем. Поручения выполнял добросовестно, обнаруживая смекалку в совершенно до этого не знакомых ему делах. Дич обладал умом, но в еще большей степени он обладал профессиональной наблюдательностью в изучении психологии окружающих его. Но душонка его, как я потом убедился, вполне соответствовала его наружности. Вероятнее всего его способности психоаналитика и повели к установлению им со мной особых отношений, совершенно отличных от его сдержанности с остальными работниками Инспекции. Дич не то что лез ко мне в дружбу, но уже через несколько дней, когда очевидно ему стало известно о выдвижении его на чекистско-административную должность и он остановился на мне, как на человеке, который среди чужого враждебного окружения, его не подведет, я заметил какой-то покровительственно-дружелюбный тон по отношению ко мне. Все остальные, хотя я им всем годился в сыновья, звали меня по имени отчеству, Дич, хотя и был старше меня только лет на десять, начал меня звать просто по имени в уменьшительной форме. Я продолжал звать Дича, естественно, по имени отчеству. Но на «ты» Дич никогда меня не называл, ни сразу, ни впоследствии и ко мне относился всегда вежливо. При знакомстве с Дичем я никак не предполагал, что этот чекист-уголовник сыграет такую решающую роль в моей дальнейшей судьбе, к лучшему или к худшему сказать трудно, но если и к лучшему, то только объективно, так как субъективно Дич не сделал бы мне добра, пылая, как и все чекисты, лютой ненавистью к политзаключенным, да еще как еврей к русским, в особенности к интеллигентам.
Вне поля моего зрения события решившие мою дальнейшую судьбу в течение февраля разворачивались стремительно. В конце второй декады февраля Дич ездил осматривать Пушсовхоз, после чего он объявил нам о его назначении начальником Отдельного лагерного пункта (ОЛП) «Пушсовхоз» вместо чекиста Онегина-Гринберга. Для заключенного, хоть и чекиста, но с десятилетним сроком, занять такую должность, на которой вольнонаемный чекист носил в петлицах один ромб (комбриг) была большая удача. Дича безусловно выдвинуло родство с начальником ББК Раппопортом и его повседневное толкание в 3-м отделе, где он завел дружков. Начальник ОЛП не подчинялся, как другие начальники лагпунктов какому-нибудь начальнику отделения, а непосредственно начальнику концлагеря. Да и превращение ОЛП «Пушсовхоз» в отделение «Пушсовхоз» было делом только времени. Слух о назначении Дича быстро дошел до заключенных, а в свой приезд для осмотра Пушсовхоза Дич так себя там показал, что Она по телефону мне с ужасом говорила о назначении какого-то очень жестокого начальника. Особо распространяться по телефону нельзя было, но я Ее успокаивал короткими фразами, что это очень хорошо, втайне надеясь, без всякого риска для себя, через Дича попасть в Пушсовхоз и чувствовать там себя и с Ней рядом и в безопасности под крылом Дича, как его хороший знакомый по совместной работе в Инспекции.
Через несколько дней Дич распрощался с нами и уехал принимать Пушсовхоз. Еще через два или три дня Дич мимоходом зашел в Инспекцию уже с весьма важным видом концлагерного начальника. На нем была все та же шинель, только на ней теперь были нашиты грязно-серые петлицы, которые носили заключенные чекисты административного состава, работники 3-го отдела и его частей и солдаты ВОХРа, такого же цвета на буденовке появилась пятиконечная звезда и он был подпоясан ремнем, на котором сбоку висела кобура с пистолетом. Впоследствии Дич с пистолетом уже не расставался никогда. Снимая ремень с шинели и шинель, он немедленно подпоясывал ремнем китель и пистолет в кобуре снова был у него на боку. Дич рассказал о наличии в Пушсовхозе черно-бурых лисиц, кроликов, пахотной земли, коров, лошадей, но прибавил о необходимости подтянуть дисциплину среди заключенных. От последнего замечания у меня сжалось сердце, подумав о Ней. Как-то на Ней отразится власть Дича, как бы с его натурой он не завел бы соловецких порядков?
На другой день после посещения Дича Боролин вызвал меня к себе по телефону. Я немедленно вышел на лестничную клетку, чтобы подняться к Боролину и увидел его спускающимся с лестницы. Я застыл в недоумении, посчитав, что Боролина неожиданно вызвали по делу, и он мне скажет когда к нему зайти. Но Боролин, подойдя и поздоровавшись, обернулся и, убедившись что никого нет, сообщил о просьбе Дича, обращенной к нему, не препятствовать моему назначению заведующим электростанцией Пушсовхоза. Это было для меня неожиданно и указывало на то, что подвергся со стороны Дича не только, так сказать, визуальному наблюдению в Инспекции, но он детально ознакомился с моим личным делом в 3-м отделе через своих новых приятелей там. Мое предположение впоследствии подтвердилось, когда Дич мне говорил: «Какой же Вы контрреволюционер, Вы же ничего не делали против Советской власти!» и «Вы же самый дисциплинированный из заключенных». Но возвращаюсь к разговору с Боролиным. Смотря мне прямо в глаза, Боролин продолжал: «Я считаю это для Вас лучше и безопаснее в данный момент. На Медвежьей горе не стоит Вам оставаться, мозолить с Вашим пунктом глаза начальству, лучше подальше быть от Управления, а Пушсовхоз не так далеко, притом в лесу и перевод туда сойдет за Вашу ссылку, соглашайтесь, когда Дич Вам предложит. Он о Вас высокого мнения, а с его связями никто не будет чинить препятствий в Вашей переброске в Пушсовхоз. Опыт заведывания у Вас есть, справитесь, поезжайте, здесь оставаться, по моему мнению, не стоит, мало ли что может быть еще. В чем нужно я всегда Вам помогу, звоните, запрашивайте, все сделаю для Вас». Боролин крепко пожал мне руку и добавил: «Не упустите этой возможности»!
Милый, дорогой Павел Васильевич (Боролин) всегда заботился обо мне и его совет, потому что я верил ему безгранично, всегда был для меня приказом. И если он специально меня предупредил, вышел ко мне на лестницу, чтобы без свидетелей дать мне совет, значит переброска в моих личных интересах. В Пушсовхозе я безусловно буду в безопасности под покровительством Дича, размышлял я, стараясь переварить такую неожиданную новость, теперь меня с Медвежьей горы не загонят в штрафное отделение на лесозаготовки! Я буду с моей любимой вместе и это предстоящее соединение с Ней происходит без всяких усилий с моей стороны. Что могло быть лучше на будущие года заключения в концлагере?! Однако вызывал недоумение поступок Дича. В его филантропию я не верил. В его хозяйственную смекалку – получить хорошего заведующего электростанцией – тоже не верил. Ходатайство Дробатковского – возможно? И все же мне казалось, что Дичу я понадобился для чего-то другого. Для чего? Чем мне придется расплачиваться с ним за его любезность? Не лучше ли мне все же отказаться наотрез ехать в Пушсовхоз, когда Дич мне будет это предлагать? Такие вопросы обуревали меня, когда, после разговора с Боролиным, я вернулся в Инспекцию, не подав никому и вида о сообщенной мне новости.
Чем больше я думал о возможной причине, побудившей Дича взять меня в Пушсовхоз, тем более я склонялся к мысли, что я понадобился Дичу, как троянский конь, которого он задумал ввести в среду политзаключенных Пушсовхоза, проще говоря, сделать меня неофициальным стукачом, использовав не мою подлость, в отсутствии которой его подход ко мне, а развитое у меня чувство товарищества, на которое он решил претендовать, поскольку мы вместе работали в Инспекции. Дичу, как и всем чекистам в концлагере, всегда мерещилась опасность групповых действий против них политзаключенных и, совершенно ошибочно, чекисты, отравленные идеей классовой ненависти, не понимая характеров политзаключенных, которые сплошь были запуганными обывателями, считали себя сидящими на вулкане. Дич рассчитывал, что это чувство товарищества по отношению к нему не только не позволит принять мне участие в каких-либо действиях политзаключенных против него, но и заставит стать меня на сторону Дича и даже продиктует сообщить ему о готовящемся каком-либо заговоре против концлагерного начальства. Придя к такому выводу, я твердо решил отказаться от предложения Дича перевести меня в Пушсовхоз, как бы такой перевод и не был бы заманчив во всех других отношениях.
В последних числах февраля Дич снова появился в Инспекции. Стремительно сел на стул и снова стал делиться впечатлениями о Пушсовхозе. Говорил с юмором, легким презрением к захолустью, пожаловался на недостаток специалистов. Я напряг все душевные силы, чтобы твердо и решительно отказаться от предложения принять электростанцию в Пушсовхозе, которое по ходу речи Дича должно было последовать сейчас. Но Дич перескочил на другую тему. У меня отлегло от сердца, я подумал о перемене решения Дича в отношении меня. Прощаясь с Лозинским, Дич, бросив взгляд в мою сторону, весело сказал, назвав меня по имени: «Забираю к себе»! Глаза Лозинского округлились, Райц вытянул лицо и еще более стал похож на крокодила, на которого лицом он очень смахивал. Антонов как-то побледнел и с участием взглянул на меня. Я съежился, как от сильного удара. Дич, обращаясь ко мне, продолжал: «Наряд в УРО есть, я согласовал с начальником 3-го отдела, до скорой встречи, снова поработаем вместе»! Пожал мне руку и вышел.
Я был ошеломлен тем, что Дич даже не спросил моего согласия. Чекист оставался чекистом, в его глазах я был прежде всего раб, которым распоряжается хозяин так, как он считает нужным. Дич вышел и водворилось неловкое молчание. Лозинский явно обиделся, считая о наличии предшествовавших моих переговорах с Дичем за его спиной. В его сознании никак не укладывалось такое нахальство Дича и мой перевод в Пушсовхоз без какого-либо предварительного согласия с моей стороны. Я попал в глупое положение и выглядел просто неблагодарным по отношению к Лозинскому, сделавшему для меня так много с вызовом меня из Кеми и учреждением специально для меня должности, на которой, получая хороший паек, я отдыхал от принудительного труда. Опасения за свою дальнейшую судьбу, неприятный осадок от наглости Дича, показавшего свою звериную натуру, отступали перед ощущением крайней неловкости моего положения перед Лозинским. Я улучил момент когда Лозинский вышел из комнаты Инспекции, выскочил за ним и с глазу на глаз рассказал ему все и свои сомнения в отношении безопасности моего пребывания на Медвежьей горе в связи с данным мне 8-м пунктом 58 статьи, предупреждение, которое мне сделал Боролин и перевод меня без единого слова согласия с моей стороны. Добрые глаза Лозинского затуманились. Он выразил глубокое сожаление по поводу вынужденного расставания со мной, но признал свое бессилие драться за меня с Дичем, обладающим силой в концлагерных верхах значительно большей, чем он сам, Лозинский. Лозинский просил меня все же давать о себе знать и, если я не сработаюсь с Дичем, обещал сделать все возможное для моей обратной переброски. Мне оставалось еще и еще раз благодарить Лозинского за все, что он сделал для меня. По дороге в столовую Антонову я тоже все рассказал. Он меня стал утешать, что все что ни делается, делается к лучшему, но заклинал не доверять Дичу и вести себя с ним крайне осторожно. В этот день по телефону я сообщил Ей о моем скором прибытии заведующим электростанцией Пушсовхоза. Известие встретило у Нее неодобрение. Чувствовался Ее большой испуг хозяйничьем Дича, от которого Она хотела меня уберечь. Сам я был бессилен что-либо предпринять для отказа от Пушсовхоза и решил положиться на Волю Всевышнего.
Прошло еще несколько дней. О моей переброске ничего не было слышно. Я по-прежнему отсиживал положенные часы в Инспекции, переписывал бумаги, ходил к Виктору, который, как и Валентин, был огорчен моей переброской и обещали навещать меня в Пушсовхозе. Забегая вперед надо сказать, что оба обещание свое сдержали и иногда по-одиночке или вдвоем наведывались в Пушсовхоз под видом осмотра аппаратуры радиостанции ОЛП и со мной проводили большую часть дня. Чекистские петлицы на шинели Валентина, а затем и Виктора, когда в конце года он окончил свой срок без зачета рабочих дней и остался вольнонаемным радиотехником на радиостанции ББК, производили большое впечатление на заключенных придурков 3-й части ОЛП. Тем более, что лицами я с Валентином был похож и кто-то пустил слух о нашем кровном родстве. Тогда мои «фонды» поднялись особо высоко и эта подхалимная мразь даже стала заискивать передо мною.
В середине первой декады марта днем в Инспекцию явился щупленький, пожилой человек в потертой шинели и буденовке со споротыми петлицами и звездой, от которых остались знаки менее выцветшего сукна. Он спросил меня и представился как начальник общей части ОЛП «Пушсовхоз». Показал мне конверт с моим личным делом запечатанный пятью сургучными печатями и объявил, что он пришел за мной, имея приказ Дича сегодня же доставить меня в Пушсовхоз. «Лошадь ждет у подъезда», - добавил он.
Итак все свершилось. Стул для сидения в концлагере на Медвежьей горе из-под меня выскользнул, я пересаживался на аналогичный стул в Пушсовхозе. Попрощался с Лозинским, с Антоновым (Райца в комнате не было), вышел с моим конвоиром на крыльцо, здесь стояла запряженная в маленькие финские саночки упитанная лошадка. «Для вещей Ваших места не найдется, - сказал конвоир, - я их привезу Вам после». Мы заехали в барак, я сложил вещи и оставил у дневального. Ехали молча. Резвая лошадка за два часа доставила нас в Пушсовхоз. Свернув на проселочную дорогу, где в 300-х метрах от тракта Медвежья гора – Повенец, мимо нас промелькнула сторожевая будка, откуда вслед нам высунулся солдат ВОХРа, мы подкатили к крыльцу управления ОЛП «Пушсовхоз». Я стал заключенным в списочном составе ОЛП «Пушсовхоз» Белбалтлага.
ПУШСОВХОЗ
Пушсовхоз* Белбалткомбината был расположен в трех километрах на юг от села Повенец на западном берегу самого восточного глубокого залива, по местному губе, Онежского озера в его северо-восточном углу. Сплошной хвойный лес, преимущественно сосновый, окружал территорию совхоза. В более низких местах росла ель. Прибрежная полоса, на которой располагались здания совхоза имела песчаную почву, но далее на северо-запад, где начинались пахотные земли много мест заросло кустарником, почвы были заболочены и переходили в торфяные болота. До возникновения совхоза здесь была глухая тайга и место для усадьбы совхоза было расчищено трудом заключенных путем лесоповала и корчевки пней. Все строения совхоза были деревянными на деревянных стульях воздвигнуты тоже трудом заключенных. Строения были барачного типа под железной кровлей, с печным отоплением преимущественно одноэтажные. Двухэтажных домов было только четыре. Кое-какое строительство продолжалось и при мне в 1935 году.
Управление Отдельного лагерного пункта (ОЛП) «Пушсовхоз» помещалось в длинном одноэтажном бараке коридорно-комнатной системы. В нем располагались кабинет начальника ОЛП, две комнаты занимала 3-я часть, остальные части финансовая, плановая, учетно-распределительная, общего и технического снабжения, общая часть. Последние три занимали столь малого размера комнаты, что в них помещалось лишь по столу начальников, из которых состояла и вся часть. Впрочем в штате частей общего и технического снабжения были еще агенты, которые в столах для себя не нуждались и постоянно были в разъездах, доставляя грузы в Пушсовхоз. Все управление было миниатюрным и насчитывало едва 20 работников. Вокруг здания управления, образуя даже нечто вроде улиц, стояло шесть жилых бараков для заключенных, одноэтажные с вагонной системой нар, два двухэтажных с комнатно-коридорной системой с топчанами. Для начальника ОЛП был построен трехкомнатный особняк, в котором кроме Дича жил холостой вольнонаемный чекист начальник 3-й части с тремя шпалами в петлицах еврей Марк. Были еще жилые бараки, один для взвода ВОХР под командованием вольнонаемного старшины войск ОГПУ, второй с сараем для пожарной упряжки и бочки для проживания пожарной команды.
Кроме жилых зданий были производственные здания: тракторные мастерские с гаражом, с отдельно стоящей от них кузницей, три коровника, конюшня, свинарник и несколько сараев для хранения сельскохозяйственных орудий, телег, саней и линейки, и предназначенные под склады кормов, удобрения, продуктов питания и обмундирования. Был клуб со зрительным залом на 100 мест (по количеству внесенных скамеек помещалось и до 150 заключенных) и двумя комнатами, в одной из которых помещался радиоузел, в другой парикмахерская. Лавочка помещалась в жилом бараке.
Совершенно обособленно от усадьбы совхоза, ближе к озеру располагалось собственно Пушное хозяйство, состоявшее из большой территории обнесенной высоким деревянным забором с дополнительным сверху него покрытием проволочной сеткой с уклоном внутрь, чтобы затруднить побег лисиц, большого двухэтажного дома, единственного в Пушсовхозе обшитого снаружи вагонкой и красивой архитектуры, одноэтажного крольчатника, звериной кухни, где готовился корм для лисиц и соболей, и склада продовольствия для зверей. Двухэтажный дом занимал вольнонаемный заведующий Пушхозом, бывший политзаключенный Туомайнен, его помощник большой специалист по разведению пушного зверя заключенный кореец Ким, два заключенных врача-ветеринара и Дробатковский. И у Туомайнена и у Дробатковского при квартирах были служебные кабинеты. В этом же доме помещалась звериная амбулатория и лаборатория.
За Пушхозом было расположено маленькое здание радиостанции ОЛП.
Также на отлете, только в другом направлении от центра усадьбы стояли здание электростанции, хлебопекарня, баня и прачечная. Территория Пушсовхоза не была огорожена ни колючей проволокой с вышками, ни простым забором, не имела каких-либо знаков границы и переходила в поле и дремучий лес. Этой особенностью ОЛП «Пушсовхоз» совсем не походил на обычный лагерный пункт, непременным признаком которого было огороженная колючей проволокой территория с вышками для часовых по периметру ограждения и единственными запирающимися воротами с вахтой у них. Поэтому вахта стоявшая у въезда в Пушсовхоз с проселочной дороги скорее имела символическое значение, так как для входа в ОЛП и выхода из него любой заключенный мог спокойно в обход вахты идти лесом, пользуясь сухостью песчаной почвы. Да и на вахте, хотя и круглосуточно по 8 часов, дежурил всего один страж, либо солдат ВОХР, либо оперативник 3-й части. Только иногда этот дежурный страж останавливал меня для проверки документов, когда я направлялся в командировку либо в Повенец, либо на Медвежью гору.
Водопровода и канализации в Пушсовхозе не было. Воду брали из колодцев. Помойные и выгребные ямы очищали два ассенизатора, вывозя на поля. Электрическое освещение было не во всех строениях.
В шести километрах от Пушсовхоза в лесу был построен одноэтажный досчатый барак на месте лесозаготовок для нужд ОЛП. В бараке жило 15-20 заключенных лесорубов под охраной одного солдата ВОХР. Утверждали будто бы этот солдат имел при себе только незаряженную винтовку, чтобы не вооружить ею заключенных.
Структура управления Пушсовхозом была довольно своеобразна и вытекала из производственного профиля ОЛП. Пушсовхоз был совершенно автономной единицей и его заведующий Туомайнен лишь номинально подчинялся начальнику ОЛП. Попытки Дича вмешиваться в производственную деятельность Пушсовхоза встретили сразу такой отпор Туомайнена, что первый умерил свой пыл и ограничился лишь подписью отчетов и заявок. Никаких перемещений заключенных, работавших в Пушсовхозе, Туомайнен также не давал производить ни Дичу, ни Марку, ни начальнику УРЧ. Помощник начальника ОЛП по производству политзаключенный Дробатковский никогда не вмешивался в дела Пушхоза и ведал исключительно производством совхоза в сельскохозяйственной его части. Дробатковский постепенно тоже умерил пыл Дича вмешиваться и в сельское хозяйство и Дичу остались лишь чисто административные и чекистские функции и хотя с мнением Дробатковского он и считался, тем не менее Дробатковскому с Дичем было трудно работать, в особенности тогда, когда Дич снимал или перетасовывал политзаключенных на занимаемых ими должностях, вредя производству. В этих случаях загибы Дича Дробатковский не мог ни предупредить, ни отменить.
Сельское хозяйство состояло из растениеводства и животноводства. Первое в свою очередь делилось на открытый и закрытый грунт. 800 гектаров отвоеванных у леса и болот засаживались картофелем, овощами и засевались рожью, овсом и ячменем. Расширение посевной площади проводилось и при мне за счет корчевки пней на вырубленных участках леса, вырубки кустарника и его корчевки. Картофель шел на питание заключенных строго по нормам, на корм скоту и свиньям и лишь в небольшом количестве отправлялся в адрес Отдела общего снабжения ББК на Медвежью гору. Овощи целиком шли на внутреннее потребление, в том числе и кормовая свекла. Урожай зерновых, за исключением овса, шедшего на корм лошадям и отчасти свиньям, после засыпки семенного фонда, полностью отправлялся на Медвежью гору. Туда же в подавляющей части урожая отправлялась и продукция второго подразделения растениеводства – теплицы и парников, в которых выращивали редис, огурцы, помидоры, салат, зеленый лук. Никаких плодоягодных растений в Пушсовхозе не культивировалось.
На подзолистой и болотно-кислой почвах урожаи были не велики. 15 центнеров картофеля с гектара, 5-6 центнеров злаков. Кислые почвы требовали известкования, и те и другие удобрений. Несмотря на подневольный бесплатный труд хлеборобов, стоимость удобрений, горючего, износ тракторов, особенно на корчевании, делали земледелие нерентабельным, себестоимость продукции была высока, но начальник ББК чекист Раппопорт давал все новые и новые задания по освоению все больших площадей под посевы. Он с пользой для себя доносил в ГУЛАГ о расширении земледелия на Севере.
Более рентабельным было животноводство на базе выпаса рогатого скота летом и кормления сеном зимой заготовленного бесплатным трудом заключенных. Около 40 коров давали молоко и мясо, 30-40 голов свиней на откорме давали весомый вклад в пропитание чекистского начальства во всем ББК. Почти вся продукция животноводства также отправлялась в адрес отдела общего снабжения. Молоко в бидонах отвозилось на лошадях ежедневно на Медвежью гору. В летний период часть молока отправлялась в пионерский лагерь «Вой-губа» расположенный на мысе между Пушсовхозом и селом Повенец. В этот лагерь приезжали только дети чекистов со всех северных областей страны.
Зональная станция, занимавшая полностью двухэтажный барак с комнатной системой, в производственно отношении ОЛП не подчинялась, получая задания от Сельхозотдела ББК, который получал их в свою очередь частично от Академии наук через ГУЛАГ ОГПУ. Зональная станция для совхоза выполняла анализ молока на жирность. Во власти Дича был только персонал станции из девяти политзаключенных.
Всего заключенных в ОЛП «Пушсовхоз», когда я прибыл, было около трехсот. Примерно около 100 заключенных были женщины работавшие коровницами, свинарками, в Пушхозе, теплице, на парниках, в прачечной, хлебопекарне, столовых. В этих предприятиях производственного и коммунального характера подневольный труд был почти исключительно женским. Однако отдельные женщины встречались и в «мужских» предприятиях. Так была одна трактористка и затем на электростанцию я принял для обучения двух женщин и они хорошо справлялись с работой дежурной у распределительного щита. Уголовники и уголовницы составляли в Пушсовхозе меньшинство и главным образом были из «малолеток» обоего пола, то есть в возрасте от 15 до 18 лет, которые пользовались льготами, предоставляемые им чекистами в надежде их перевоспитать. Ничтожное количество уголовниц, растворившихся в массе крестьянок, не могло способствовать развитию такого разврата, который имел место на Соловках, где почти все женщины-заключенные были уголовницами. При соотношении одной женщины на двух мужчин в Пушсовхозе, при отсутствии какой-либо изоляции полов друг от друга, будь здесь одни уголовницы, не известно до каких пределов мог дойти разврат. На самом деле ничего предосудительного не было и кроме нескольких образовавшихся постоянных пар, все остальные женщины вели монашеский образ жизни. В частности Дробатковский жил с одной заключенной в своей квартире с разрешения Онегина-Гринберга по-семейному и у них был трехлетний ребенок. Молодой политзаключенный Морозов, механик тракторного парка с аналогичного разрешения жил с одной молодой заключенной в маленькой комнатке. Дич не решился отменить эти неофициальные разрешения своего предшественника. Остальные пары виделись тайком и начальники колонн (бывшие комроты) не преследовали их. Большую группу заключенных составляли бытовики, в их числе многие коммунисты, выдвинутые от станков на хозяйственные должности и проворовавшиеся на них. Такими были начальник Культурно-воспитательной части (КВЧ) еврей Крупняк, бывший директор какой-то фабрики из Минска, машинист на электростанции, выдвинутый из паровозных машинистов в директора мельничного треста и так успешно моловший зерно в собственный карман и карман своей жены, что оба были посажены на десять лет каждый. Бывшим директором и коммунистом-вором был и начальник УРЧ. Политзаключенных, то есть заключенных по 58 статье посаженных в концлагерь, было мало. Несколько интеллигентов, как Дробатковский и другие интеллигенты в частях финансовой и снабжения управления, на производстве, на Зональной станции и десятка два крестьян, так называемых кулаков трудившихся на земле, составляли весь контингент политзаключенных. Наибольший контингент заключенных, превышающий по численности перечисленные группы уголовников, бытовиков и политзаключенных, были «указники», главным образом женского пола. По принятой мною классификации заключенных в начале моих рассказов, «указники» не подходили ни под одну из вышеперечисленных групп не только потому, что эта группа заключенных по составу совершенных ими преступлений не подходила к перечню преступлений вменяемых трем группам, но и возникла позже в развитие репрессий применяемых верхушкой большевиков против крестьянства, уже колхозного, и частично против чистопородного рабочего класса.
В августе 1932 года был издан указ ЦИКа СССР о наказании лиц совершивших кражу колхозной собственности и социалистической промышленности. Десять лет заключения в концлагерь по этому указу (отсюда «указник») получал рабочий, пытавшийся вынести с завода или стройки болт, гвоздь или доску, чтоб, продавши ее, несколько повысить нищенский жизненный уровень, крестьянин, а в еще большем количестве крестьянки, середняки и бедняки насильно загнанные в колхозы и умирающие с голоду от неразберихи в колхозе и непосильных поборов продуктов, выращенных колхозниками, в государственные закрома, за сорванный колосок, с которого растертые в ладонях зерна смогли хоть немного утолить мучительный голод, за несколько картофелин, выкопанных с поля. Эти «воры» и составляли главный контингент заключенных честно трудившихся в Пушсовхозе, в животноводстве и растениеводстве, ухаживая за лисицами и кроликами.
Совершенные указниками преступления и отношение к ним чекистского начальства концлагерей не подводили их ни к одной из категорий заключенных. Безусловно указники не были ворами, любителями чужой собственности и ворам, даже рецидивистам, давали не более трех заключения. К бытовикам указники также не могли быть причислены, так как их преступления, хотя и вытекали из существующего государственного устройства, но расценивались властями как политические и потому срок заключения давался указникам десять лет концлагеря, не меньше. Однако в концлагере чекисты их не рассматривали как «опасных контрреволюционеров» и отношение к указникам было снисходительное, не то что к политзаключенным. Таким образом эти безобидные, запуганные рабы, понесшие за пустяк суровое наказание, в концлагерях жили почти также вольготно, как и уголовники. Поэтому их приходится считать ни политзаключенными, ни бытовиками, ни уголовниками, а какой-то вновь возникшей четвертой группой подневольного населения концлагерей.
Бытовые условия заключенных в Пушсовхозе были сравнительно неплохими. Бараки были только с вагонной системой нар, а следовательно в них не было той скученности, которая царила в бараках с двухъярусными сплошными нарами. Труд большинства - земледельческий на хозяина – был не изнурительным. Питание было средним, так как все категории работ в сельском хозяйстве концлагерей считались легкими и потому паек полагался 2-го списка. Работа по производству продуктов питания самим производителям-заключенным не прибавляла к пайку ничего, потому что весь урожай и продукция животноводства строго учитывалась и сдавалась государству. Разве только коровницы украдкой попивали молоко от коров, обслуга лисиц на ходу съедала котлетку из конины или лисятины, которыми кормили лисиц, да в поле кто-нибудь сгрызал морковку. Заключенные почти не видели конвоя, никаких патрулей по территории не ходило и не контролировало передвижение заключенных по Пушсовхозу, утренняя и вечерняя поверки производились самими начальниками колонн и только формально, отнимая несколько минут у заключенных на стояние в строю. Даже Дич в этом отношении никаких строгостей не ввел. В целом заключенные Пушсовхоза жили намного лучше, чем миллионы и миллионы рабов в других отделениях и лагпунктах концлагерей.
Постепенно численность заключенных в Пушсовхозе уменьшилась за счет освобождавшихся из концлагеря уголовников и бытовиков. Новые этапы поступали редко, были малочисленны и состояли из инвалидов, потерявших свое здоровье на непосильном принудительном труде на стройках социализма ведомых концлагерями ОГПУ. Их присылали на «легкие» работы, какими считались сельхозработы, а физически крепких, еще не перемолотых машиной каторги, посылали во вновь открывающиеся концлагеря на север и северо-восток, а если и попадали в Белбалтлаг, то этапы с ними шли на стройки Туломы, Нивы и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.
Нехватка рабочей силы с началом посевной кампании 1936 года вынудило начальство ББК обратиться к использованию «спецпоселенцев». Под таким хитрым названием от непосвященных были укрыты самые несчастные, самые обездоленные крестьянские семьи, так называемых, кулаков. Прилагательные «специальный», «особый» неразрывно связаны со всей историей большевизма с момента захвата власти. Этими с виду безобидными определениями зашифровывались все чудовищные злодеяния проводимые верхушкой правящей партии и органы предназначенные для их проведения. «Грузы спецназначения» на наглухо закрытых товарных вагонах, в которых перевозили заключенных, скрывали от населения массовость репрессий. Той же цели служили надписи «Спецстройка» на заборах территорий, внутри которых закапывали трупы заключенных и производились массовые расстрелы. «Часть особого назначения», более известные в сокращении ЧОН были войска ОГПУ-ВЧК для расправы с населением. «Особый отдел» в частях Красной армии и флота осуществляющий слежку за личным составом и карательные мероприятия в войсках. И таких примеров можно привести много.
В период насильственной коллективизации крестьянских хозяйств в 1929-30 годах было произведено массовое выселение из деревень семей, так называемых, кулаков. Везли их с плодородных земель Поволжья, Украины, Дона и Кубани в не отапливаемых товарных вагонных и даже на открытых железнодорожных платформах огороженных колючей проволокой с малыми детьми под дождем и в стужу за тысячи километров на медленную смерть в лесах Севера. В девственном лесу им отводились делянки и до весны на семью выдавался мешок картофеля. Хочешь ешь, хочешь сажай весной. Семья должна была свались лес, выкорчевать пни, живя на участке, питаясь тем, что уродит отведенный участок. Спецпоселенцы жили в выкопанными ими самими землянках. Сначала расчищали снег, затем оттаивали кострами промерзлую землю и счастливы были те кому дали возможность захватить с собой из разоренного дома лопату. Остальные рыли землю сучками. Холодные голодные спецпоселенцы вымирали семьями, в первую очередь дети, что и требовалось для выполнения лозунга «ликвидация кулачества, как класса». Бежать с детьми в мороз было невозможно, летом засасывали болота. На дорогах стерегли патрули войск ОГПУ и возвращали обратно в лес. Если кто и добирался до населенных пунктов, их, лишенных паспортов, вскоре обнаруживали и также возвращали в лес.
Только немногие выжили благодаря черноземной силе впитанной хлеборобами в течение многих поколений, благодаря своему трудолюбию унаследованному от предков, приумножавших наследственное достояние, которое и погубило пострадавших, вызвав зависть односельчан раздутую большевицкой пропагандой классовой ненависти. Я видел в Пушсовхозе этих молодых изможденных героинь, похожих на старух, и старух высохших в мумии, голодных костлявых детей, похожих на затравленных волчат, глаза которых выражали немой упрек за беспощадное отнятие детства, за непоправимо сломанную почти с пеленок жизнь. Около 50 спецпоселенок с уцелевшими одним, двумя детьми, а некоторые и потерявшие в тайге детей, были поселены на сплошных двухъярусных нарах в отведенном им бараке. Их кормили наравне с заключенными на общей кухне, выдавая ту же норму хлеба и сахара, что и заключенным. Паек полагался и на детей. За крышу над головой, за питание удерживалось из их заработка, причем в таком размере, что имевшие двух детей не могли заработать на троих, отказываясь от третьего пайка, оставаясь втроем на двух пайках. И все же они были очень счастливы попав в концлагерь, переселившись из землянки в барак, с голодного рациона на полусытый. В концлагере они постепенно становились людьми, дети начинали играть, концлагерь оживился детскими голосами и стал не похож на самого себя.
О спецпоселенцах-мужчинах я слышал еще на Соловках от моего «однодельца» Холопцева, который по своей работе на рыболовецком карбасе побывал на острове Жужмуй на Белом море.
Там принудительно работали донские и кубанские казаки на тяжелой работе по драгированию йодистых водорослей, которые сушились, затем сжигались и из полученной золы добывался йод. Они были сосланы, как спецпоселенцы на остров пожизненно и это само сознание пожизненности ссылки, помимо тяжелой работы, еще более разрушало их психику. Всякий заключенный, даже десятилетник, всегда старался иметь надежду окончить срок и выйти на волю. И признака надежды на освобождение, на соединение со своими семьями погибающими в дебрях карельских лесов, у этих несчастных не было. Свою пожизненную ссылку психически женщины воспринимали легче. Им некогда было об этом задумываться, глубина этого ужаса как-то не доходила до их сознания занятого одной думой выжить, только выжить и спасти своих детей умиравших от лишений на их глазах. И тогда я ощутил весь ужас положения спецпоселенцев. До этого я считал заключение в концлагерь, тем более для политзаключенных, самым большим несчастьем (кроме расстрела) какое может случиться с человеком при диктатуре большевиков. На поверку оказалось, что мы, политзаключенные, были еще не на низшей ступени жизни – на низшей стояли спецпоселенцы, вот кто действительно был в последнем кругу сталинского ада! Нам спецпоселенцы могли безусловно завидовать!
Все сведения о Пушсовхозе, безусловно я собрал не в момент моей доставки в него, а в течение моего пребывания там. Начальник общей части (ОЧ) ввел меня в кабинет начальника ОЛП. Дич изобразил улыбку на лице и протянул мне через стол руку. Я сделал шахматный ход и поблагодарил Дича за перевод в Пушсовхоз. Наша встреча выглядела как встреча хороших знакомых, даже друзей. Начальник ОЧ вышел и мы остались с Дичем наедине. Почти тотчас же вошел приземистый начальник 3-й части ОЛП Марк, блеснув красными петлицами. Дич представил меня Марку, впервые назвав меня по имени отчеству, и добавил мою фамилию. Конец фразы меня ошеломил: «… вступает в нашу чекистскую семью». Мои худшие опасения оправдались – Дич уже считал меня стукачом (секретным работником). Я придерживался всегда того мнения, что в острых ситуациях надо сразу вносить ясность, иначе потом все недомолвки и обращаются против слабой стороны, какой был я. Я напряг все душевные силы, чтобы сразу дать бой – наотрез отказаться быть стукачом, чем бы это мне не грозило. Марк явно не разделял восторга Дича, по поводу моего прибытия, зачисления в списочный состав ОЛП еще одного политзаключенного, за которым, в особенности как за новеньким, надо установить усиленную слежку, взвалить на себя дополнительную работу. Марк ответил на мой поклон, едва кивнув головой, безучастно отнесся к декларации Дича о прибытии «стукача» и уставился куда-то в окно, как бы давая понять Дичу о своем желании остаться в стороне от затеи Дича. Заплывшее жиром лицо Марка, с маленькими свиными глазами, мало что выражало и теперь и впоследствии, когда мне приходилось его видеть. Трудно было сказать была ли это выработанная маска или естественное выражение полного безразличия ко всему, появившееся под влиянием многих лет работы в концлагерях. Дич пригласил меня сесть и начал излагать свои затруднения по управлению Пушсовхозом в связи с опасением враждебной деятельности каэров (сокращенно от слова «контрреволюционер» - политзаключенный), о мыслях и намерениях которых он ничего не знает. «Вам придется жить, - перешел Дич, конкретизируя мою «обязанность», в одной комнате с каэрами и я очень Вас прошу, по дружбе, внимательно прислушиваться к их разговорам, чтобы самим Вам быть в курсе их замыслов и вовремя предупредить меня». Я возразил Дичу, что он глубоко ошибается опасаясь каэров, которые, по моим наблюдениям за долгие годы моего сидения в концлагере, составляют наиболее надежную и дисциплинированную категорию заключенных, причиняющих меньше всего неприятностей начальству, а потому вряд ли можно что-либо предосудительное заметить за ними. «К тому же, - выпалил я, - Меер Львович, в стукачи я не гожусь, что хотите со мною делайте»! Дич обозлился, но сдержался. Марк повернулся и вышел. Дич отошел и мягко сказал: «Ну к этому мы еще вернемся, а пока идите и отдыхайте». Мне казалось, что первую стычку я все же выиграл. Я слышал, как при вербовке стукачей их заставляют «совершенно добровольно» давать подписку «о сотрудничестве в органах ОГПУ». Дич был не плохой психолог и отлично понимал, что я никогда не соглашусь дать какую-либо подписку о вступлении в стукачи, но что от меня информацию можно получить из дружеских чувств, которые, как он надеялся, я питаю к нему и из чувства благодарности за перевод в Пушсовхоз. И, по-видимому, Дич никак не ожидал, что я отброшу присущую мне деликатность и назову все своими именами, тем самым сведя на нет весь его хитроумный подход.
От своей идеи, сделать меня стукачом, Дич не отказался сразу и решил брать меня измором на протяжении последующих месяцев, не угрозами, а покровительством. Специально для получения от меня информации, на что Дич так надеялся, он меня не вызывал, но со стереотипным вопросом: «Что говорит такой-то или такой-то», Дич обращался ко мне каждый раз после моего доклада по производственной линии или согласования с ним производственного вопроса, само собой разумеется, если мы с ним были в кабинете наедине или присутствовал один Марк. Не натягивая вожжей, я отделывался всякий раз или шуточкой или пересказывал разговор о заботах производственного характера моих однокамерников, одновременно выставляя их в хорошем, с точки зрения чекистов, свете. Однажды Дич, смотря на меня в упор, спросил, что говорят о нем персонально. «Знаете, Меер Львович (я никогда, ни наедине, ни при посторонних не называл его гражданин начальник, а всегда по имя отчеству, и Дич этому не противился), - ответил я ему, - есть латинская пословица: о мертвых или ничего не говорят, или говорят только хорошее. Ну кому, сами посудите, вздумается сказать о Вас что-либо плохое, ведь это же опасно»!? Дич метнул на меня сердитый взгляд: «Что же я, по Вашему, покойник»?! «Нет, - мягко ответил я, - Вы начальник». Дич был обозлен, но гадости мне не сделал и больше вопросов о себе не задавал.
Спрашивал меня Дич о моих однокамерниках не только в кабинете, а при любом удобном случае. Он редко ходил по территории ОЛП один. Почти всегда его сопровождали начальник 3-й части Марк и начальник Культурно-воспитательной части (КВЧ) заключенный коммунист Крупняк, бывший директор фабрики в Минске, посаженный в концлагерь на 10 лет за крупные хищения с завода и жульнические махинации. Три еврея сразу спелись. «У нас в Пушсовхозе, - говорили заключенные, - нет единоначалия, а правит президиум, вернее трижидиум». А проставляя фамилии трижидиума в такой последовательности: Марк, Крупняк, Дич, добавляли «Марк крупная дичь». Когда на территории эта тройка встречала меня, Дич неизменно приглашал меня присоединиться и мы шли вчетвером, причем Дич тут же задавал мне стереотипные вопросы о поведении моих однокамерников. И как только Дичу было невдомек, что этой демонстративной прогулкой он только вредил, мне на радость, своей идее сделать меня стукачом. Политзаключенные только опасались меня и если бы действительно что-либо говорили «антисоветское», то только не в моем присутствии. С таким поведением Дича, меня первое время очень опасались, как потом мне признался мой сосед по койке Гриша Марченко, считали действительно стукачом специально привезенным и подосланным к ним Дичем. Я это отлично чувствовал, но не обращал внимания, считая главным, чтобы совесть у меня была чиста.
Эта пытка продолжалась около трех месяцев, после чего Дич от меня отступился и «передал» меня Марку, так сказать, по прямому назначению в 3-ю часть (информационно-следственную). Улучив момент, когда в коридоре кроме нас двоих никого не было, Марк предложил мне зайти к нему в кабинет. Тут и начался новый разговор: «Вы с Дичем (Марк так и назвал его по фамилии, очевидно, чтобы я понял какого он, Марк, невысокого мнения о начальнике ОЛП) что-то совсем не работали, теперь будете со мной иметь дело, вот меня интересует такой-то и такой-то, пишите о них свое мнение, отдельно на каждого». Я встал, посмотрел в глаза Марку и наотрез отказался, мотивируя отсутствием обязанности о ком-нибудь что-либо писать. Марк никак не реагировал. Затем сказал, чтобы я подумал и он всегда будут рад меня видеть у себя. Выпустил он меня через другой ход, в который входили прямо со двора и выходили таинственные личности в полной темноте. Так как при этом внутри здания свет не гасили и он падал на лица посещавших 3-ю часть, я вскоре знал в лицо почти всех стукачей, которых было не много. Конечно, я больше к Марку не пошел ни с официального, ни с неофициального хода и меня и Дич и Марк оставили в покое.
Но на этом наши особые отношения с Дичем не кончились и продолжались до его перевода из Пушсовхоза. Я ненавидел Дича, он как-то благоволил ко мне, что выражалось в легкости с какой я получал от него разрешение на командировки на Медвежью гору и притом без конвоиров, в отсутствии каких-либо придирок ко мне по работе, чего нельзя было сказать о других начальниках служб, боявшихся Дича как огня. В отделах управления ББК, благодаря отзывам Дича, обо мне укрепилось самое высокое мнение. И все же две пакости Дич мне сделал.
Еще в период, когда Дич не оставлял мысли сделать меня стукачом, он не допустил в Пушсовхоз на свидание со мной мать, о чем подробнее я расскажу потом. Затем лишил меня переписки с матерью, ничего не сказав об этом мне. Я писал матери, а от нее ничего не получал и сходил с ума от беспокойства за судьбу матери, причем сделано это было в самый напряженный для меня момент – производства капитального ремонта локомобиля электростанции. И неизвестно сколько бы времени этот запрет продолжался сверх тех трех месяцев, что просуществовал, если бы я по совсем другому поводу не зашел бы, находясь в командировке на Медвежьей горе, к прокурору при управлении Белбалтлага. Возможно оба эти выпада против меня были инспирированы Марком, совершенно мне не доверявшем и первое время устроившим за мной тщательную слежку, притом до того явную, что надо было только удивляться грубости приемов его оперуполномоченных, молодых заключенных, почти мальчишек, бегавших за мной поочередно и неумело сталкивавшихся со мной в самых невыгодных для них положениях. Пока в Пушсовхозе был Марк, при каждом отключении абонентов ко мне на электростанцию прибегал начальник пожарной команды заключенный-бытовик, квалифицированный электромонтер. Он был несколько старше меня, очень милый малый и вскоре признался мне о задании полученном им от Марка проверять меня.
В начале 30-х годов все пожарное дело в стране было подчинено ОГПУ, в составе которого было организовано Главное управление пожарной охраны, а на местах пожарные команды стали подчиняться местным ГПУ. Соответственно в концлагерях пожарные команды подчинили 3-у отделу и его частям, выполнявших обязанности ОГПУ в концлагерях ОГПУ. Как я уже сказал, начальник пожарной команды ОЛП был квалифицированный электромонтер и в то же время непосредственный подчиненный Марка, как начальника 3-й части. Совпадение этих двух качеств моего «ревизора» и предопределила вмененную ему обязанность прибегать на электростанцию при выключении, хотя бы и частично, электроэнергии. И как он сиял каждый раз, констатируя объективные причины выключения абонентов выражавшиеся в недостатке давления пара вследствие малой паропроизводительности локомобиля. Он успокаивался за меня, видя причину не в аварии электрической части оборудования. А однажды, когда я произвел частичное отключение потребителей вследствие искрения щеток одной динамо-машины, принял участие вместе со мной в притирке щеток, чем очень помог мне.
И все же одного крупного столкновения с Дичем я не избежал в первый же месяц моего пребывания в Пушсовхозе. Накануне Она меня предупредила об осведомленности 3-й части о наших долголетних отношениях. Будто бы Марк дал выговор Дичу за совершенную им оплошность, привезя меня в Пушсовхоз, соединив два любящих сердца каэра с каэркой. Дич вызвал меня и впервые набросился на меня по-настоящему, обвиняя, что я «путаюсь» с закоренелой каэркой, известной буржуйкой. Я так обозлился, что забыв всякую осторожность, сам закричал на Дича: «Не Ваше дело, замолчите»! На Дича подействовало не столько необычно разозленный мой тон (я всегда улыбался, разговаривая с ним, имитируя большую симпатию к нему), сколько мой взгляд впившийся в него. Тогда я не знал о своем очень неприятном, колючем взгляде в разозленном состоянии. Значительно позже, уже на воле, я как-то поймал свой взгляд в зеркале, когда находился в разозленном состоянии, и сам испугался его. До ареста его у меня не было, я приобрел его в концлагерях. Дич сразу отпрыгнул в глубину кресла и нажал кнопку звонка, вызывая конвой. Постепенно Дич успокоился, видя, что я стою на прежнем месте и не кидаюсь на него физически. Я молчал и тоже успокоился. В кабинет ввалились два солдата ВОХРа, стуча прикладами винтовок. Дич их отослал, пригласил меня сесть и начал хвостом вилять. По всему было видно какой он испытал испуг за свою особу. Дич начал тихо говорить о том, что очень даже хорошо, что я вхож на Зональную станцию и потому могу сообщать ему ценные сведения о внутреннем мире ученых, а что касается Ее, то я должен узнать теперь от него, Дича, о Ее происхождении из крупной буржуазии, что Ее два брата находятся заграницей и потому Она мне не пара. В длинной речи Дича ясно боролись желания с одной стороны поощрить меня в моих посещениях Зональной станции, чтобы расширить круг сыска через меня, так как тогда он все еще надеялся получить от меня стукаческую информацию, с другой стороны Дичу не хотелось, чтобы я продолжал бывать у Нее, чтобы утереть нос Марку, доказать последнему вздорность обвинений, его, Дича, в факте моего привоза в Пушсовхоз на радость и мне и буржуйке. Я выслушал и, холодно простившись, ушел. Никаких последствий ни для меня, ни для Нее, после этой стычки не было. От Нее, чтобы Ее не волновать, стычку с Дичем я скрыл, но посещать Зональную станцию стал реже, хотя никто мне в этом не мешал. Тогда оперативники от меня уже отстали. В отношении местопребывания Ее двух братьев я знал давно, знал и того более. Один из них был депутатом Государственной думы от партии «Союз Русского народа» и московским фабрикантом, пионером автомобилестроения в России.
Итак, в день приезда, из кабинета Дича молодой оперуполномоченный 3-й части, исполнявший обязанности холуя у Марка и Дича, отвел меня на второй этаж жилого барака и показал мне комнату для жительства, в которой из шести топчанов один был не занят и предназначался для меня. Дождавшись его ухода, я направился на Зональную станцию. Встреча с Ней была не похожа ни на одну из предыдущих и только добавила горечи к моему и так нелегкому положению, в которое я попал с переводом в Пушсовхоз. Она не одобрила мой перевод, Она была уже очень запугана загибами Дича по введению жестокого режима и считала себя висящей на волоске и с проживанием и с работой на Зональной станции. Она просила меня не садиться, а стоять на расстоянии от Нее и сама встала у стола. И эта предосторожность оказалась своевременной, так как почти тотчас же без стука в лабораторию ворвался второй молодой оперативник. Он тоже не сел, а стоя вступил в разговор. Оглянувшись и заметя на столе и шкафах колбы, реторты, пипетки, стал уверять, что учился в химическом и очень любит химию. Я перевел разговор на качество подачи электроэнергии Зональной станции, осведомился о работе термостата и пообещал наладить зарядку лабораторных аккумуляторов. Продолжать оставаться у Нее в такой обстановке было бессмысленно и я, попрощавшись с Ней издали, ушел. В первом этаже я задержался и тотчас же услышал топот ног спускавшегося по лестнице оперативника. Я стал под лестницу и в темноте он проскочил мимо меня. Через несколько минут я вышел и столкнулся с ним. Мне ясно стало, что он потерял меня и снова побежал, не вернулся ли я к Ней. Оперативник проводил меня до комнаты.
Сумерки сгустились, я, не зажигая света, снял сапоги, подстелил тулуп и лег на топчан. В комнате никого не было и я мог наедине с самим собой обдумать свое положение. И намерение Дича в отношении меня и Ее недовольство моим переводом усугубленная обстановкой посещения Ее лежали тяжелым камнем на сердце. Раздумывать долго не пришлось. Вошел начальник ОЧ, зажег свет и пригласил меня идти с ним ужинать в столовую административно-технического персонала заключенных.
Начальник ОЧ от имени начальника ОЛП (Дича) приказал меня накормить и я получил такой же ужин, как и начальник ОЧ, как вся, столовавшаяся в этой столовой заключенная элита. Есть мне очень хотелось, так как утром на Медвежьей горе до работы я выпил только кружку чая с хлебом. Аппетита я никогда не терял, даже при самых тяжелых переживаниях (в этом было мое счастье) и я с удовольствием съел маринованную кильку с большой порцией, довольно обильно подмасленной растительным маслом, горячего отварного картофеля. Запил все стаканом молока. Вообще в этой столовой кормили вкусно и сытно.
Когда мы заканчивали ужин стали сходиться остальные столовники, абсолютно мне еще не знакомые. Вдоль длинного стола по обеим сторонам стояли две скамейки, на которые приходившие садились за стол, перекидывая через них ноги. Пришли и работники Зональной станции, в том числе и Она. Сампилон и Вадул-Заде-Оглы [Кази-Заде Керим Вадул оглы] приветствовали меня как старого знакомого. Заканчивая ужин я заметил, помимо общего интереса проявленного ко мне, как к новичку, особо пристальные взгляды обращенные на меня трех заключенных. Как я потом узнал впоследствии, это были начальник и помощник начальника учетно-распределительной части (УРЧ) и следователь 3-й части, носивший значок университетского образования вопреки концлагерному уставу запрещавшему заключенным носить какие-либо значки. Два из них были заключенные чекисты, третий помощник начальника УРЧ политзаключенный «террорист», с которым потом я ближе познакомился и о котором еще расскажу. Сампилон впоследствии мне рассказал, как столующиеся, после нашего с начальником ОЧ ухода, видя, что Сампилон и Вадул-Заде-Огды знакомы со мной, стали расспрашивать о месте нашего знакомства и как сразу повысился ко мне интерес, когда узнали, что я старый соловчанин. Марка соловчанина высоко стояла в концлагерях и интерес ко мне в первое время моего пребывания в Пушсовхозе был явным, у каждого из столующейся элиты выражавшийся по-разному.
Уходя из столовой с начальником ОЧ, я сделал общий поклон ученым мужам, но из осторожности к Ней попрощаться не подошел.
После ужина в нашу комнату на ночлег сошлись все остальные пять обитателей ее. Перемещены они были в эту комнату из своих коморок, в которых они жили при своих производствах, как только Дич воцарился в Пушсовхозе. Это была политзаключенная элита Пушсовхоза. Три «шпиона» - заведующий закрытым грунтом барон фон Притвиц, начальник части технического снабжения Евгений Сорокин и старший плановик Пушсовхоза, фамилию которого я забыл. Вылетела у меня из головы фамилия и четвертого обитателя нашей комнаты «террориста» ветеринарного фельдшера животноводства совхоза, носившего редкое имя Анемподист. Пятый интернированный был тоже «террорист» большевик-ленинец (троцкист) зоотехник животноводства совхоза Гриша Марченко и шестым был я, тоже «террорист». Поскольку политзаключенных с другими пунктами 58 статьи Дич в эту комнату не интернировал, вырисовывалась направленность острия террора в концлагерях после убийства Кирова. Оно было направлено против пунктов 6-го и 8-го 58-й статьи, о чем мне намекал Боролин еще в декабре 1934 года при разговоре на Медвежьей горе.
Кончался первый день моего пребывания в Пушсовхозе. Еще утром этого дня я встал со второго яруса нар вагонной системы в бараке на Медвежьей горе, а теперь я ложился спать на голый топчан, не раздеваясь, так как простыня, одеяло и подушка остались с моими вещами там. Я хотел и лечь на тулуп, который во все годы моего заключения служил мне на ночь матрацем, и им же укрыться, но это мне не удалось. Мои сокамерники пришли мне на помощь. Кто-то подложил мне под голову связку белья, Гриша накинул на меня свой длинный бушлат и все это несмотря на подозрение в презренной цели, с которой Дич поместил меня вместе с ними.
Утром следующего дня с Сорокиным и плановиком я сходил в столовую напиться чаю с хлебом, который равными порциями на утро, обед и ужин, в пределах нормы пайка, подавался на стол каждому. Из столовой, еле волоча ноги (так не хотелось идти к Дичу) я пошел в кабинет начальника ОЛП за приказом о назначении. Кабинет был закрыт, я зашел к начальнику ОЧ и обратился к нему по тому же вопросу. Начальник ОЧ поставил меня в известность о необходимости личного распоряжения Дича, который будет в 11-12 часов дня в своем кабинете. Впоследствии я выяснил стиль работы Дича, привыкшего к ночной работе следователя, «аки тать в ночи», как говорилось в древности про злодеев использовавших темноту ночи в преступных целях. Дич уходил из служебного кабинета в 2-3 часа ночи и выходил на работу в 11-12 часов дня. Наиболее интенсивно работал, то есть дергал своих подчиненных по пустякам всегда вечером, чем позже, тем больше и зачастую по телефону или с оперативником 3-й части вызывал к себе в кабинет и после полуночи.
Имея, таким образом, время, я отправился посмотреть, как я думал, свое будущее хозяйство – электростанцию, она произвела на меня тягостное впечатление своей неустроенностью и грязью. В сарае исполнявшем обязанности машинного зала стоял холодный локомобиль с нечищеными поверхностями деталей, малые окна до того были запылены, что почти не пропускали света. Сумрак усугублялся черным от грязи асфальтовым полом. У локомобиля, расставив вокруг табуретки, сидела группа кавказцев, ела что-то из общей миски и горячо спорили на родном языке друг с другом. Увлеченные перебранкой они не только никак не реагировали на мое появление, но и не ответили на дважды заданный мной вопрос, где старший механик электростанции. Очевидно услышав мой голос, из комнаты, пристроенной к машинному залу, вышел заключенный, лет 30-35 и пояснил, что такой должности нет, а что он ее заведующий Жуков. Меня он принял за инспектора из отдела Главного механика. Я оторопел, так как мне было известно, что заведующий азербайджанец, которого Дробатковский давно собирался снять с заведывания, а Жуков никак не походил на кавказца, хотя был брюнет с черными глазами. Я осторожно выяснил сколько времени он заведует электростанцией. «Да всего несколько дней», ответил Жуков поморщившись.
СТАРШИМ МЕХАНИКОМ
«Старшим механиком Пушсовхоза назначаю Вас», - радостно объявил мне Дич, когда я только успел переступить порог его кабинета. Мене чем за 24 часа Дич меня вторично огорошил своей новой выдумкой. По крайней мере она не касалась моей совести. Я как-то сразу понял невозможность отделаться от этого решения Дича, неподходящего ко мне ни с какой стороны. До сих пор я был уверен, со слов Боролина, в вызове меня в Пушсовхоз на должность заведующего электростанцией. Правда эта уверенность несколько поколебалась еще утром, когда на электростанции я увидел нового заведующего. Но назначения меня старшим механиком всего Пушсовхоза я никак не мог ожидать и стоял растерянный, почти с открытым ртом.
Глубоко в кресле около стола Дича, перекинув нога на ногу в суконных, хорошо сшитых, защитного цвета, галифе и до блеска начищенных сапогах, сидел помощник начальника ОЛП по производственной части Павел Владимирович Дробатковский *, которому ученые мужи с Зональной станции предлагали мою кандидатуру на заведывание электростанцией. Хорошо подогнанная по фигуре суконная, тоже защитного цвета, гимнастерка с военным ремнем дополняла облик фактического начальника производства совхоза. Слева на груди поблескивал значок с надписью «Ударник ББК ОГПУ». Буквы в данном случае означали не Беломорско-Балтийский комбинат, а Беломорско-Балтийский канал. Этот значок полученный Дробатковским при окончании строительства канала имели немногие заключенные. Как-то Дробатковский рассказал мне почти анекдотический случай, как он этим значком нагнал страху на вольных граждан: Дробатковский без конвоя ехал в командировку по железной дороге с Медвежьей горы до Расть-Наволоки. Вольные граждане не обращали на него внимания и, подвыпив, стали довольно холодно говорить о достижениях строительства социализма. И вот кто-то заметил на груди Дробатковского значок с магическими буквами «ОГПУ». Разговор затих, все со страхом уставились на Дробатковского. Один из собеседников решил подбодриться: «У меня двоюродный брат тоже работает в ГПУ»!
Я не видел Дробатковского около четырех лет с тех пор как его вывезли с Соловков на Беломорканал и я был потрясен как изменилось его такое красивое лицо под влиянием все прогрессирующего туберкулезного процесса в легких. А в этот день ему особенно нездоровилось, благодаря наступлению предвесенней сырой погоды. Лихорадочный румянец на щеках, блеск больших голубых глаз говорили о повышенной температуре. Он часто покашливал и сплевывал мокроту в носимую им с собой баночку. Но безупречный пробор, офицерская выправка, когда он встал, говорили о несломленном духе в борьбе с болезнью.
Дич представил ему меня, назвав меня по имя отчеству и фамилии. Дробатковский ответил, что мы знакомы и как-то нехотя, взглянув на меня косо, протянул мне руку, холодную и липкую. Мне до боли стало его жалко, неминуемо обреченного в концлагерных условиях на гибель. И все же он дожил до освобождения из концлагеря и остался вольнонаемным на той же должности помощника начальника отделения ББК «Пушсовхоз» по производству. Освободились мы с ним почти одновременно и мне удалось через мать, у которой оказалась подруга по институту, работавшая в канцелярии Ленинградского туберкулезного института, поместить Дробатковского на излечение в этот институт. Конечных результатов лечения я не узнал, так как тогда уже наступил 1937 год, в котором справляться о бывших политзаключенных было просто опасно.
В этот же день плохое настроение Дробатковского можно было объяснить даже не столько обострением болезни, сколько идеей Дича назначить меня старшим механиком. Это я почувствовал сразу и Дробатковского нисколько не винил. Ведь он знал меня только по Соловкам, когда я был только контролером электросети, считавшем лампочки в Сельхозе. Да если бы он и знал о моем заведывании Кемской электростанцией, он был бы тысячу раз прав в совершенном несоответствии моей кандидатуры на должность старшего механика, необходимого ему помощника по механизации полевых и других сельскохозяйственных работ. Безусловно до моего прихода Дич уже объявил Дробатковскому о своей выдумке, последний возражал, но не мог переубедить Дича и теперь на его упорство просто промолчал. Как бы показывая свое желание остаться в стороне от такого распоряжения Дича, Дробатковский сложил в папку какие-то лежавшие на столе таблицы, захлопнул папку, встал и молча ушел из кабинета так, как накануне из кабинета Дича ушел Марк, когда я наотрез отказался быть стукачом.
Я немедленно отказался от назначения, чем вызвал гнев Дича: «Не буду, не буду, - передразнил он меня, - Вы в лагере ОГПУ, не забывайте!» «Да я все провалю, - не унимался я, в тракторах я ничего не понимаю»! Дич смягчился и с чисто еврейским самомнением продолжил наш диалог: «А Вы думаете, что я что-нибудь понимаю в лисицах и кроликах? Назначили меня, вот я и сижу, смотрю таблицы корма и справляюсь! А Вы в механике разбираетесь, ну не поспите лишнего, возьмете книги почитаете и будете великолепным механиком. Мне надо освободить от этой должности … (и он назвал фамилию начальника ОЧ). Он не справляется и тут и там». Далее в пререканиях с Дичем я сделал оплошность, сказав ему: «Вы перевели меня заведующим электростанцией, а назначаете старшим механиком Пушсовхоза». Дич отпарировал: «Так и электростанция будет в Вашем подчинении и там надо произвести капитальный ремонт локомобиля», - утешил меня Дич. Вышло так, что во-первых я выдал Боролина, с которым Дич говорил на эту тему, мне же он вообще ничего до перевода не говорил на какую должность забирает меня в Пушсовхоз, во-вторых я сам напросился на дополнительную нагрузку. Дич вызвал начальника ОЧ, велел ему дать подписать приказ о назначении меня старшим механиком и передать мне дела.
До революции начальник ОЧ был телеграфистом и около двадцати лет уже его рука не ложилась на телеграфный ключ. Конечно я больше понимал в механизмах чем престарелый телеграфист и с точки зрения пользы дела я и мог больше принести пользы, но все же какой из меня был старший механик совхоза?!
С начальником ОЧ пошли в гараж, где он меня представил механику Морозову и бывшим там трактористам, как нового их начальника. Гараж, в котором стояли шесть колесных тракторов марки «ХТЗ» (35-сильные Харьковского тракторного завода) и один, тоже колесный, маленький 25-сильный «Форзон-путиловец», своей чистотой произвел на меня благоприятное впечатление. Тракторы были отремонтированы и могли выехать в поле хоть сейчас. Порядок в инструментальной кладовой, смазанные, хранившиеся в порядке на стеллажах, запасные части, несгораемые ящики для промасленной ветоши, огнетушители на местах также производили хорошее впечатление и являлись полной противоположностью электростанции. Морозов с трактористами занимался ремонтом двигателя внутреннего сгорания марки «Катерпиллер» для рыболовного «Кавасаки», которым Пушсовхоз с наступлением навигации собирался открыть сезон рыбной ловли неводами. Большой порядок был и в кузнице, где ремонтировались сельскохозяйственные орудия и делались поковки некоторых деталей тракторов, которыми совхоз снабжался скупо. Так как при гараже был только сверлильный станок, для токарной обработки поковок, приходилось их возить в механические мастерские Повенецкого отделения ББК в село Повенец. По всему было видно, что механик Морозов на месте и я работник здесь лишний.
Морозову было лет тридцать, он был потомственный крестьянин; после окончания 1-й ступени советской трудовой школы, учился и закончил агро-механическую профшколу, где получил теоретические и практические знания по сельскохозяйственным машинам и орудиям, но попал в концлагерь сроком на 10 лет вместе с братьями и отцом, так называемым кулаком. Практику Морозов прошел уже в концлагере, проработав механиком в Пушсовхозе со дня его основания и был правой рукой Дробатковского. Морозов имел покладистый, мягкий характер, но дисциплина механизаторов была на высоте. Трактористы, человек 15 были почти все колхозники-указники, за исключением двух слесарей, которые были истинными пролетариями, тоже указниками. Было еще два уголовника, как-то растворившихся в этом коллективе и не выдававших своих преступных качеств. Были они все молоды и, натренированные Морозовым, квалифицированными водителями тракторов и хорошими ремонтниками. В кузнице с подручными крестьянами работал почтенный деревенский кузнец, причисленный к кулакам, все политзаключенные. И в кузнице можно было положиться на них, тем более что и они беспрекословно подчинялись распоряжениям Морозова, имевшему у них большой авторитет.
Фактически старшим механиком совхоза был Морозов, а начальник ОЧ был при нем комиссаром, не вмешивавшемся в производственную деятельность. Мое назначение Морозов встретил с некоторой обидой, но после разговора с Дробатковским, при котором присутствовал и я, отношения у меня с ним стали сердечными. Я просил его работать также как он работал и распоряжался до меня, взяв на себя канцелярщину по гаражу и кузнице и обязанности толкача по снабжению запасными частями, инструментом и горючим через начальника части технического снабжения Пушсовхоза политзаключенного Сорокина, с которым мы были интернированы в одну камеру. Когда Сорокин не мог справиться, я сам выезжал в командировку (Сорокина Дич не пускал в командировки) на Медвежью гору и через Главного механика ББК Боролина, по-прежнему мне покровительствующего, добивался всего, что было остродефицитно. В частности Дробатковский и Морозов были удивлены и обрадованы, когда мне удалось достать в изрядном количестве материал «Феродо» для тракторных дисков сцепления. И все же Морозов ежедневно втягивал меня в производственную деятельность, посылая за мной, когда он при ремонте устанавливал на место какой-нибудь узел в тракторе.
Неотложной задачей после вступления моего в должность старшего механика была приемка и капитальный ремонт шести гусеничных тракторов «ЧТЗ» с 60-сильными двигателями (40 л.с. на крюке) Челябинского тракторного завода. С окончанием зимних лесозаготовок, когда от таяния снега карельские болота становятся непроходимыми не только для машины, но и для человека, эти шесть тракторов были переданы из лесозаготовительных отделений ББК на пахоту в Пушсовхоз. Дотащились они своим ходом еле-еле до нас, настолько оказались изношенными и двигатели и ходовая часть. Особенно изношенными оказались диски сцепления, на которых обтяжка материалом «феродо» висела обрывками. Хотя я вполне надеялся на Морозова, но на приемке, по должности, и мне надо было что-то знать и как-то показать себя в определении объема ремонта тракторов. Перспектива этой приемки, о которой мне сказал Дробатковский почти на другой день после моего вступления на должность, все время меня беспокоила. Для изучения по учебникам трактора у меня времени хватало даже в рабочее время, хотя этому я посвящал и вечера, отрывая часы и от сна. В то время марок тракторов в мире было не так еще много и пособия по ним оказались в библиотеке Пушсовхоза. С изучением колесных тракторов у меня было больше успехов, так как ходовая их часть не отличается от устройства автомобиля, которое, правда, больше теоретически я знал по курсам шоферов на Соловках, на которых я занимался. Но ходовая часть гусеничных тракторов в корне отличалась от колесных. В учебниках было описание иностранных марок, колесного английского «Монарх», американского гусеничного «Клетрак», и ни слова о советских тракторах: «Форзон-путиловец», «ХТЗ», «СТЗ» и «ЧТЗ». Я это себе объяснил неповоротливостью бюрократического аппарата не удосуживавшегося отпечатать литературу по советским тракторам или задержку их в пути до концлагерей. Впоследствии я узнал о том, что печатные упоминания с описанием советских тракторов могли привести к международным трениям, так как советские трактора были слизаны до мельчайших подробностей с заграничных и соответствующие фирмы на основании печатных описаний могли предъявить крупный иск за воровство патентов. А у нас патенты в прямом смысле не крали, а покупали иностранный трактор, разбирали его, с деталей делали чертежи и по этим чертежам стали выпускать советские трактора с марками заводов их изготовлявших. Несмотря на то, что я тщательно изучил по учебнику гусеничный трактор, я все же перед приемкой волновался. С большой опаской, я присутствовал на разборке первого трактора «ЧТЗ». И каково же было мое удивление, перешедшее в радость, когда на блоке двигателя, стоявшего на «ЧТЗ» я увидел выпуклые буквы латинского шрифта, обозначавшие «Клетрак». Во всех шести тракторах «ЧТЗ» оказалось очень много деталей, в том числе и ходовых с этой маркой. Вечером я перечитал все о «Клетраке», а на другой день, осмотрев уже раздельно лежавшие детали, установил полную идентичность «ЧТЗ» «Клетраку». Детали без надписи «Клетрак» выпускались по чертежам, сделанным после обмера разобранного трактора «Клетрак», Челябинским тракторным заводом и там же собирались вместе с запасными частями американского производства в трактор «ЧТЗ». Так гусеничным трактором мне удалось овладеть.
В конце первой декады мая на полях почти не осталось снега и тракторы вышли на вспашку. Дробатковский, Морозов, в особенности последний, и я, непрерывно находились в поле. Но что это была за мука весенняя вспашка! Тракторы «ХТЗ», как более легкие еще держались на топкой почве, но не могли поднять достаточной глубокий пласт пятилемешным плугом. К ним прицепили специально уменьшенные до трех лемехов плуги. Тракторы «ЧТЗ», несмотря на гусеницы, своей тяжестью погружались в болото и от одного из них через час после начала пахоты из под сомкнувшейся над ним почвы торчала лишь выхлопная труба. Три «ЧТЗ», двигаясь по твердой почве, с трудом вытащили стальными канатами по подкладываемым под него бревнам злосчастного утопленника. После этого «ЧТЗ» пахали только по подкладываемым под них бревнам. Один тракторист пахал, а четверо шли около него, убирая сзади и подстилая спереди бревна под гусеницы. Такова была производительность труда на технике по болотистым почвам Карелии на продвижении земледелия на Север! В конце концов для «ЧТЗ» применяли такой способ вспашки: два «ЧТЗ», установленные на более твердой почве с обеих сторон обрабатываемого участка соединяли стальными канатами с третьим «ЧТЗ» производившим пахоту. Сцепленная тройка продвигалась постепенно, до некоторой степени как бы держа туго натянутыми канатами пашущий трактор на весу. Если пашущий трактор начинал проваливаться в трясину, к нему бежали трактористы с бревнами, подкладывали их по ходу под гусеницы и один из тракторов, находившийся на твердой земле вытягивал тонущий трактор куда было ближе на твердую землю. О твердости грунта можно судить по одному несчастному случаю, окончившемуся для пострадавшего благополучно. Один из трактористов, подкладывая бревно под гусеницу провалившегося «ЧТЗ», сам провалился под бревно. Трактор проехал по этому бревну и тракториста извлекли всего грязного, но вполне невредимого. Он отделался только «легким испугом», как пишется в актах о несчастных случаях, когда пострадавший не получает травмы. Кальцевание почвы, сев и посадка картофеля, боронование прошли легче, так как почва к тому времени подсохла и в большей части выдерживала даже «ЧТЗ».
Морозов сам хорошо управлял обеими марками тракторов и сам пробовал более сомнительные участки. Я управлять не умел и на трактор не садился. А Дич освоил вождение колесного трактора и ездил на потеху многим, гордо возвышаясь на сидении, но только по территории усадьбы совхоза и то тихим ходом. При этом за ним бежала толпа трактористов, беспрерывно подавая советы какую ручку куда дергать.
Через день после своей доставки в Пушсовхоз, я получил свои вещи с Медвежьей горы, которые мне привез, как обещал начальник ОЧ. Получив вещи, я мог более комфортабельно располагаться на ночлег на отведенном мне топчане в комнате для интернированных Дичем, об обитателях которой и о режиме созданном для нас, теперь пора рассказать. По режиму, введенному для обитателей нашей комнаты, ее вернее надо называть камерой, хотя на окнах решетки не поставили и в дневное время свободно выходили и входили в нее. Но на ночь к выходу из дома приставлялся солдат ВОХРа, очевидно с целью помешать нашему побегу из концлагеря. Иногда по вечерам к нам являлся «в гости» начальник ОЧ и занимал нас рассказами из своей жизни. До революции он был телеграфистом на железнодорожной станции, а в гражданскую войну воевал в красной гвардии и красной армии, в которой и остался служить на хозяйственных должностях. В партию большевиков он вступил еще до революции. Был он страшный пьяница и потому не трудно было представить как он сделал растрату, находясь на военно-хозяйственной должности. Срок заключения по приговору военного трибунала был у него 10 лет. Эти вечерние явления нас нервировали, так как за ними могло скрываться худшее, чем только проверка чем занимаются «особо опасные» политзаключенные по вечерам.
В камере были интернированы три «шпиона» и три «террориста», все с десятилетним сроком заключения, все из заключенной элиты Пушсовхоза. Поскольку политзаключенных с другими пунктами 58 статьи в эту камеру Дич не интернировал, стало очевидно против каких пунктов 58 статьи (6-го и 8-го) направлено острие террора в концлагерях после убийства Кирова. Итак «шпионами» были заведующий закрытым грунтом (теплица, парники) Пушсовхоза барон фон Притвиц*, начальник части технического снабжения Сорокин и старший плановик Пушсовхоза, фамилию которого я не запомнил. «Террористами» были ветеринарный фельдшер животноводства, фамилия которого тоже улетучилась из моей памяти, запомнилось только его редкое имя Анемподист, зоотехник животноводства Гриша Марченко** и я.
С большой проседью, пожилой барон фон Притвиц был безукоризненно воспитанный гвардейский офицер Русской армии, не оставлявший своих манер и в концлагере. Он ходил с палкой украшенной круглым набалдашником слоновой кости, элегантно выбрасывая ее на ходу. Контрастом к этой палке было довольно поношенное лагерное обмундирование, которое барон носил вперемежку с комсоставским костюмом Красной армии, но, конечно, без петлиц. Последняя его должность в Красной армии в 1931 году, когда он был арестован ОГПУ, как и многие другие офицеры Русской армии служившие в Красной армии, для очищения мест командирам выпускаемым красными школами командиров, была начальник противоздушной обороны Ленинграда. Барон имел звание комбрига, носил один ромб, был красным генералом. Только феноменальной его природной глупостью можно объяснить тот факт, что гвардейского офицера допустили на столь важный пост в Красной армии. Ввиду отсутствия у него каких-либо мыслей его считали неопасным для диктатуры. В общежитии барон был милым безобидным человеком, стойко переносящим невзгоды заключения. Хорошо о нем отзывались и подчиненные, в частности старшая огородница теплицы политзаключенная черкесская княжна Крым-Гирей. Она была второй интеллигенткой в Пушсовхозе и имела общее с Ней, которой и хвалила барона уже пожилая княжна.
Евгений Сорокин был тучным, лет под сорок, харьковчанином, с незаконченным дореволюционным юридическим образованием. Немного ленивый по натуре и трусоватый от пережитого, в повседневной жизни он метался между двумя своими качествами, заставляя себя превозмогать лень, чтобы что-нибудь не случилось в подведомственной ему части. Своей болтовней он пугал нас иногда мрачными прогнозами на будущее, выводя их из факта интернирования нас в одной камере. В концлагерь он был посажен ОГПУ за дружбу с польским консулом, к которому открыто ходил на дом, считая игру в открытую безопаснее для себя. Сорокин не отсидел в концлагере еще и половины срока и не надеялся дожить до освобождения.
Плановик был довольно бесцветной личностью в возрасте около 50 лет. Увлекался шахматами и во время турнира на чемпиона мира повесил на стене у своего топчана таблицу игры, тщательно отмечая по газетам ход соревнования. Иногда он посвящал нас в тайны планирования Пушсовхоза. Когда декабрьский план был выполнен к 20-у декабря, дню основания ВЧК-ОГПУ, он ехидно заметил, что в этом нет никакой «трудовой победы», так как по директиве свыше он обычный месячный объем работ спланировал на две трети. «Вот вам и обычное очковтирательство», меланхолично закончил он свой рассказ.
Ветеринарный фельдшер Анемподист с зачетом рабочих дней должен был вот- вот освободиться, но так при мне и не дождался свободы. В концлагере он сидел девятый год и это сказывалось на его настроении, поведении, объясняло его крайне измученный вид. Он мало разговаривал, да мы его и мало видели в камере. Вставал он раньше всех и спешил на скотный двор, оттуда приходил лишь вечером и сразу ложился спать.
Григорий Марченко был самым запоминающимся из моих однокамерников. На год или два старше меня, он был не по годам серьезный, подтянутый и по-прежнему считал себя, как член коммунистической партии, ответственным и в концлагере за судьбу пролетариата, за чистоту марксизма, за внедрение этого учения в жизнь без всяких компромиссов. Состоя с раннего возраста в комсомоле, а затем вступив в 1924 году в партию большевиков, Марченко был пропитан марксизмом, изучив его досконально. Эта основательная теоретическая подготовка и вера в истинность марксистских положений и привела его в оппозицию к большевикам-сталинцам, заставила его оказаться в одном строю с последователями Троцкого, Зиновьева и Каменева, в рядах большевиков-ленинцев, как называли себя троцкисты. Марченко очень рано отчетливо увидел, как постепенно в действительности получается не то, что было так гладко на бумаге в теории Маркса, как постепенно возрастает эксплуатация рабочего класса государством, как рядовые коммунисты лишь голосуют за назначаемых сверху руководителей партийных комитетов и ячеек, как коммунистическую партию раздавливает принцип демократического централизма, как все более вырисовывается в партии и государстве единоличная диктатура Сталина, все более себя окружавшего карьеристами и подхалимами ничего общего не имеющими с правоверными марксистами. Марченко (и в этом я ему безусловно верил) организационно не входил ни в одну из групп оппозиционеров, но он на многих собраниях своей парторганизации выступал с критикой разложения партии и восхваления Сталина. В должности секретаря комсомольского комитета Баумановского района Москвы, Марченко в 1931 году был арестован ОГПУ и посажен в концлагерь. А 8-й пункт 58-й статьи ему «припаяли» чтобы покрепче засадить, чтобы сломить его непокорный дух. Заключение не озлобило Марченко против коммунистической партии, с которой он не отождествлял ни Сталина, ни ОГПУ, продолжая сам считать себя ее членом, а потому обязанным бороться против допускаемых партией ошибок. О конкретных шагах предпринимаемых Марченко на этом пути я узнал несколько позднее при обстоятельствах, о которых расскажу после.
Когда, изучив меня, Марченко понял, что я органически не могу быть стукачом Дича и вообще стукачом, он много со мной беседовал. Эти беседы доставляли мне много удовольствия и принесли мне пользу в установлении у меня четких представлений о советской действительности. Я тоже неплохо знал политэкономию, диалектический и исторический материализм, что позволяло Марченко не отклоняться на разъяснение мне азбучных положений теории марксизма, а сосредотачивать свою мысль при беседах о практике их применения или, вернее, их неприменения в советском государстве. Перед ним я имел то преимущество, что я сумел сохранить критическое отношение к марксизму, разглядев и в теории некоторые противоречия, на которые и обращал внимание Марченко. На мою легкую критику Марченко не мог дать убедительных опровержений, и я видел, как он переживал свою беспомощность. Как умный человек, Марченко не мог не видеть сам указываемых мною противоречий, а марксизм в целом был его верой, потерять которую он больше всего боялся, вера, которая не допускала его согнуться и которая вела его через все ужасы концлагерной жизни. Как правдивый человек, Марченко возмущался и теми потоками клеветы и лжи, которыми по указанию Сталина, в печати обливались его соперники Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, и фальсификацией истории, кульминационным пунктом которой потом был выпущенный в 1939 году под руководством Сталина «Краткий курс истории ВКП(б)», против содержания которого резко выступил в своем письме в ЦК ВКП(б) старый большевик Ф.Ф. Раскольников. Это письмо датированное Раскольниковым 22/VII 1939 года обвиняло Сталина в том, что «обокрал мертвых, убитых и опозоренных им людей и присвоил в этой книге все их подвиги». Я не мог не указать Марченко об этом органическом пороке присущем большевизму, так ярко проявлявшемуся с момента возникновения этого политического течения на всем протяжении истории большевизма и заключавшемуся в ошельмовании соперничавших политических революционных партий и персонально их руководства, именуя меньшевиков, социалистов-революционеров, анархистов, которых в большевицкой пропагандной литературе называли не иначе как агентами буржуазии, контрреволюционерами, социал-предателями, в то время, как эти революционные партии для свержения монархии и капитализма сделали больше большевиков. Мое замечание явно не понравилось Марченко, но по дальнейшему я видел, как он сам призадумался о нравственной чистоте большевиков. На мой вопрос, почему одержал верх Сталин, а не оппозиция, Марченко дал довольно туманный ответ, сам явно не понимая причины случившегося, опровергающее теорию Маркса, Марченко объяснял, что за Сталиным пошли многие из тех, которые всю жизнь боролись за социализм и им было не под силу под конец признаться самим себе в создании Сталиным лишь карикатуры на социализм. По поводу затронутого мною вопроса, Марченко еще добавил информацию о вышедшей в 1932 году книге Троцкого, в которой последний признал успешность построения социализма в СССР, хотя и не мог не съязвить в отношении сталинского руководства, вопреки которому социализм построен и который был бы еще раньше построен, если бы не зигзаги в политике Сталина. Найти признаки построения социализма в 1932 году можно было только глядя из заграницы, где был Троцкий. Внутри страны, не кривя душой, этого никак нельзя было сделать.
Марченко на воле не был зоотехником, им он стал в концлагере, непрестанно занимаясь самостоятельно по этой специальности, все время повышая по книгам свой теоретический уровень знаний по животноводству. Вставал он рано и уходил вместе с Анемподистом, ложился поздно, работая над книгой. С кем-то из родных на воле Марченко переписывался, но помощи материальной не получал. По-видимому на скотном дворе его все же подкармливали молочком, иначе он давно не вынес бы такой нагрузки.
До воцарения Дича все мои однокамерники жили в коморках при производствах. Фон-Притвиц в теплице, Сорокин и плановик при складе удобрений, Анемподист и Марченко на скотном дворе без всяких часовых и никто никуда не убежал. Какая нужда была нас всех интернировать?!
В ремонте гусеничных тракторов прошел апрель месяц, второй месяц моего пребывания в Пушсовхозе и месяц ранее предполагаемого мною освобождения меня из концлагеря, в котором я, отсидев календарных шесть лет два месяца с зачетом рабочих дней и скидкой в два года срока, дарованных мне в мае 1934 года, должен был «размотать» свой ни за что полученный десятилетний срок заключения. Но меня не освободили, так как политзаключенных обворовали, сняв с них, кем уж кем, а именно ими, честно заработанные ударным трудом засчитанные в срок рабочие дни. Мало того в 1935 году даже закончивших календарный срок без зачета рабочих дней, политзаключенных не освобождали, они пересиживали в концлагерях и никто не знал когда кончится это беззаконие и кончится ли вообще, или всех политзаключенных перевели в концлагерях на бессрочное пожизненное заключение.
Моя мать, не дождавшись меня в апреле домой (об окончании срока в апреле 1935 года я с уверенностью ей говорил, когда она уезжала со свидания на Медвежьей горе в октябре 1934 года), не зная о снятии с политзаключенных зачета рабочих дней и сложившейся в концлагерях обстановки после убийства Кирова, решила навестить меня. Ее очень волновала эта непонятная для нее задержка моего освобождения, тем более что в моих письмах о причинах ее не было и намека и об освобождении я тоже ничего не писал. О причинах я не мог писать из-за цензуры, а об освобождении не могло быть и речи. Мать обратилась в ОГПУ в Москве за разрешением на свидание со мной и еще более встревожилась когда заявление у нее не приняли без объяснения причины. Все свидания с политзаключенными после убийства Кирова были запрещены, но по черствости высших чинов ОГПУ это родственникам заключенных не говорили, оставляя их в неведении о причине непринятия заявления, доставляя им дополнительные мучения о судьбе родственных им заключенных.
Тогда мать, зная какой относительной свободой по занимаемым должностям я пользовался в Кеми и на Медвежьей горе, решила повидать меня нелегально, с глазу на глаз узнать от меня причину задержки меня в концлагере и срок моего освобождения. По письмам она знала, что я в Пушсовхозе, на Медвежьей горе добрые люди указали ей повенецкий автобус, шофер высадил ее у поворота на Пушсовхоз и она пришла к сторожевой будке у въезда на усадьбу, где была задержана дежурившим оперативником 3-й части.
Поскольку по ходу моих рассказов два оперативника 3-й части ОЛП «Пушсовхоз» встречались и еще будут встречаться надо остановиться на их личностях. Назову их «А» и «Б», поскольку не помню их фамилий. Оба были заключенными-уголовниками, возможно мелкими сошками в каком-нибудь ГПУ на воле, имели по 10 лет срока заключения. Лет от роду им было 20-25. «А» был постарше, услужливее, исполнял обязанности холуя при Марке и Диче, подхалимистее другого, «Б» был глупее «А» и много воображал о себе. «А» в день моего приезда в Пушсовхоз отвел меня из кабинета Дича в камеру, где меня поселили. «Б» следил первое время за моим передвижением по территории Пушсовхоза и помешал первому свиданию с Ней.
В сторожевой будке, называемой «вахтой», дежурил «А». Мать не имела разрешения на свидание со мной и «А» попал в затруднительное положение. С одной стороны он знал о недоброжелательстве ко мне Марка и потому, отказав матери в проходе на территорию Пушсовхоза, он действовал бы на основании устава концлагерей и получил бы еще и одобрение Марка. С другой стороны он побоялся отказать матери, учитывая видимость расположения ко мне Дича, к которому в этот промежуток времени приехали на свидание жена, молоденькая бледная рыжая еврейка*** с мягкими деликатными манерами, отец, типичный местечковый белорусский еврей в дореволюционном длинном черном лапсердаке и не менее колоритными пейсами и мать, говорившая по-русски с таким еврейским акцентом, что ее нельзя было понять, словом целый кагал. О своей матери Дич в разговорах любил упоминать, как она приготовляла фаршированную щуку, приготовляла так, как никто не мог приготовить. Возможно «А» подумал, что мы с Дичем знакомы еще по воле и моя мать не зря приехала, когда родители Дича тоже приехали и ему еще попадет от Дича, если он не пропустит мать и отправит ее обратно. «А» позвонил Дичу (а не Марку). Ответ Дича определил судьбу свидания. Мать ушла ни с чем.
О том, как мать была близко от меня я узнал только через несколько часов, когда она была уже далеко и просить Дича о разрешении свидания с ней было бесполезно и по этому обстоятельству. «А» притащил мне большой тяжелый мешок с продуктами и вещами, в который, как он сказал, по его предложению, моя мать положила из чемоданов вещи и продукты, которые она принесла для передачи мне. Горю моему не было предела и в то же время я был тронут героизмом моей матери и в бесконечной любви ко мне совершившей столь рискованное путешествие, снова оторвавшая от себя последние крохи, чтобы снабдить меня необходимым и даже лакомством, купленным в Торгсине на остатки драгоценностей. Я представлял и ее горе возвращаться обратно не повидавшись со мной. Мне было бесконечно ее жаль, как она тащила такую тяжесть в руках около полутора километра от тракта до вахты. Мешок был еще не настолько тяжел, как тот вес который она тащила, потому что полностью до меня не дошло, что она принесла. Оперативник кое-что присвоил и это стало мне совершенно ясно, когда я посмотрел на переданную расческу, на которой был свежий разлом. Вторая половина ее – частый гребень – отсутствовал. Это подозрение у меня окрепло, когда я внимательно присмотрелся и к состоянию продуктов. Многим «А» не побрезговал.
К моему удивлению оперативник «А» начал подхалимно извиняться передо мной за недопущение матери и свалил все на Дича, будто бы Дич, услышав по телефону его доклад, заорал в трубку: «Гони ее к черту, чтоб и духу ее не было, никаких свиданий»! И этому мне пришлось поверить, когда через несколько дней я случайно встретился с женой Дича на территории усадьбы совхоза. Я не был знаком с женой Дича и был очень удивлен, что она меня знает. Она подошла ко мне и тихим голосом, опустив глаза сказала, что ей и Меер Львовичу очень неприятно, что так получилось с моей матерью, что никак нельзя было разрешить свидание ему, Дичу, своей властью. Я вежливо поблагодарил за участие и ушел, подумав: «Да, оперативник сказал правду, но с какой целью»? Или с целью поссорить меня с Дичем по заданию Марка или заблаговременно обезопасить себя от моей мести через Дича, который в случае, как думал оперативник, при неизбежном моем объяснении с Дичем о недопущении моей матери, отперся полным своим неведением и свалил бы все на дежурившего оперативника «А». С Дичем о недопущении моей матери на свидание я не поднимал вопроса.
Не ладилось у меня в Пушхозе и в отношении другого любимого мною человека – Ее. Разлука не ослабила наши взаимные чувства, но изменились обстоятельства. Загибы Дича еще до моего приезда, помеха нашему свиданию в день моего приезда в Пушсовхоз со стороны оперативника «Б», информация в 3-й части о наших отношениях, сделали Ее пугливее, настороженной более чем раньше. Все вместе взятое настоятельно диктовало нам обоим сугубую осторожность в проявлении наших взаимных чувств. Пришлось глубже законспирироваться, отказаться от задушевных разговоров с глазу на глаз. По должности старшего механика я не имел никакого служебного отношения к Зональной станции. Если бы я был заведующим электростанцией, я бы смело мог ходить к Ней на Зональную станцию проверять работу термостата, состояние электропроводки, словом предлогов бы нашлось и мои посещения не представляли бы опасности ни для Нее, ни для меня. А так путь к Ней был у меня отрезан, в особенности после стычки из-за Нее с Дичем и того повышенного интереса проявляемого Дичем к политзаключенным станции. Местом встреч мы избрали столовую АТП, приходя в одно время обедать и ужинать. Когда удавалось занять места за столом так, чтобы сидеть друг против друга, мы молча обменивались взглядами, вели общий разговор. Ежедневно встречаясь, мы хоть знали, что с нами ничего не случилось. Но что это была за пытка! Это была не жизнь, как, впрочем, и все другое в концлагере после убийства Кирова, после либерального 1934 года. Быть на одной территории, так близко вместе и не иметь возможности повидаться и поговорить наедине – какая это была мука! И притом мука не определенная никаким сроком, так как Она потеряла веру в свое близкое освобождение, обещанное Ягодой, да и я в него не верил, как и в свое собственное. Сердца наши толкали нас друг к другу, разум говорил о необходимости величайшей осторожности, так как в обстановке террора против политзаключенных надо было избегать мельчайшего повода грозившего попасть под пресс репрессий.
Дич с Марком проявляли себя и проявляли. Был сформирован этап из полутора десятков политзаключенных и отправлен из Пушсовхоза в начале мая на штрафной лагпункт Надвоицкого отделения Белбалтлага на лесозаготовки. В числе этапированных кроме рядовых политзаключенных оказался также бухгалтер финчасти, тихий скромный старик. Упорно говорили, что его спихнул начальник финчасти, бестолковый заключенный-бытовик, боявшийся иметь такого способного и умного работника, которому по своим деловым качествам надо было быть начальником финчасти. Несмотря на все сопротивление Дробатковского в этап включили накануне сева наиболее дельных полеводов, потому что они были так называемые кулаки. Деловые качества не препятствовали угону политзаключенных, хотя от этого и страдало концлагерное производство. Не сегодня, завтра и Она и я могли угодить в новый такой этап, только в разные штрафные лагпункты. Поэтому не стоило мозолить начальству глаза, напоминать о своем существовании каким-нибудь неосторожным шагом, к которому звало сердце.
Более благоприятно складывалось у меня налаживание отношений с моим непосредственным начальником по производству Дробатковским. Сухо встретивший меня при назначении меня старшим механиком, Дробатковский постепенно оценил мою исполнительность, организаторские способности, приобретенные в заведывании соловецкими электросетями и КЭС, умение обращаться с подчиненными и мою уживчивость со всеми. При встрече его глаза все чаще светились улыбкой, все чаще делился он со мной производственными планами. Настороженность Дробатковского по отношению ко мне вначале было легко понять. Я не был ни инженером-механиком, ни даже техником-механиком и кроме помехи от меня в налаженном им и Морозовым тракторном и сельхозмашинном хозяйстве, он ничего больше и не ожидал. Но главная причина его антипатии ко мне крылась значительно глубже, вызывалась моими странным появлением в Пушсовхозе по инициативе и под покровительством Дича. Назначение меня, не механика, на должность старшего механика, которого фактически и не требовалось, было воспринято Дробатковским, как приставление к нему Дичем своего стукача. И когда, повседневно сталкиваясь со мной, Дробатковский постепенно понял, что я совсем не того поля ягода, каким был сам Дич, что между мною и Дичем нет и не может быть ничего общего, я стал пользоваться безграничным доверием, симпатией Дробатковского. Между нами установилась крепкая дружба, несмотря на разность в летах и в Павле Владимировиче я всегда находил крепкую опору и защиту.
Может быть последней проверкой, которой меня подверг Дробатковский, почти уже уверенный в моей порядочности, было его замечание обращенное ко мне во время одного разговора в его служебном кабинете. Кроме Дробатковского и меня был еще барон фон Притвиц. После обсуждения производственных вопросов разговор принял отвлеченный характер. Положив ногу на ногу и покачивая ногой, барон утверждал, что Троцкий не только создал Красную армию, но без него не были бы и созданы военно-воздушные силы, что Троцкий был выдающимся организатором и, на удивление, будучи штатским, великолепно разбирался в военных вопросах. «Вы запишите высказывание барона», шутливо обратился ко мне Дробатковский, правда, без всякого ехидства. Возможно Дробатковский потом выжидал не проявит ли чем-нибудь Дич свою осведомленность о высказываниях барона.
Пользуясь расположением ко мне Дробатковского, я исподволь, сначала только намеками, потом в открытую, стал убеждать его о моем действительном призвании электротехника, о моем месте не в гараже, а на электростанции, где я могу принести больше пользы Пушсовхозу. Объективно в моих уговорах помогала мне становившаяся все хуже работа электростанции. Жуков ничем себя не проявлял, как заведующий, назначенный без всякого своего желания, по-видимому, и не имевший никакого опыта в заведывании предприятием. Безусловно на электростанции мне было бы труднее, чем старшим механиком. Оборудование требовало капитального ремонта, налаживания дисциплины персонала. В гараже все было налажено, работа тракторного парка шла отлично и до меня и при мне без всякого участия с моей стороны. И все же я твердо решил быть на настоящей должности, а не так, между прочим, по прихоти Дича, который и назначил меня старшим механиком считая, что не загруженный по производственной работе, ничего не делающий на официальной должности, успешнее буду заниматься стукачеством.
Буквально на другой день, когда Дич окончательно понял, что стукачом я никогда не буду, когда того же не добился и Марк, я, не без содействия Дробатковского, был переведен с «понижением» из старших механиков Пушсовхоза в заведующие электростанцией.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Притвиц Александр Николаевич. Родился в 1894 г., Симбирская губ., г. Бызинск; русский; б/п; З/к, летчик, дворянин, офицер гвардии Семеновского полка. Окончил Пажеский корпус; в РККА зам. начальника воздушных сил Ленинградского военного округа. Проживал: г.Ленинград, Петропавловская крепость. Арестован 7 января 1929 г. Приговор: 10 лет концлагеря. В заключении на Соловках, затем в Повенецком Пушхозе, агроном (с 1932-33 гг). Приговорен: тройка при НКВД КАССР 20 сентября 1937 г., обвинен по ст. 58-6. Расстрелян 27 сентября 1937 г. Место захоронения - Водораздел (VII-VIII шлюзы Беломорканала).
** - Марченко Григорий Дмитриевич. Родился в 1903 г.; украинец; студент МГУ, перед арестом агент охраны 7-го ж.-д. полка НКПС. Проживал: г. Москва. Арестован 16 февраля 1929 г. Приговорен: Коллегией ОГПУ 3 июня 1929 г. Приговор: на 10 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловках. Приговорен: Особой тройкой УНКВД ЛО 9 октября 1937 г. Приговор: ВМН Расстрелян 2 ноября 1937 г. Место захоронения - в Карелии (Сандармох).
*** - Дич Меер Львович. Следователь Ленинградского ГПУ, хапнувший десять тысяч рублей за прекращение дела крупного бандита, который поэтому был освобожден. За это преступление Дич Меер Львович получил срок 10 лет. Родной брат писателя Захара Львовича Дича (Дичарова) (1912-2008). Родители Дич Роза Марковна (1876- январь 1942) и Дич Лев Соломонович (1871- декабрь 1941). Родители М.Л. Дича проживали в Ленинграде по адресу 5-я Красноармейская ул., д. 20. Жена Дича Меера Львовича – возможно Дич Александра Сергеевна (Ягодкина)
СНОВА ЗАВЕДУЮЩИМ
Снова заведующим электростанцией, только не Кемской, а Пушсовхоза ББК меня назначили в начале июня 1935 года. Поскольку на электростанции требовался капитальный ремонт, мое назначение на электростанцию необходимо было осуществить еще раньше, перед началом светлого времени года, чтоб воспользоваться последним для разборки двигателя, а следовательно, и остановки подачи электроэнергии с наименьшими неудобствами для потребителей в те недели, когда в этих широтах ночей не бывает. Мое назначение запоздало, но все же для капитального ремонта локомобиля у меня оставалось более месяца.
Дела старшего механика совхоза по акту я сдал Морозову, возведенному из механиков гаража в старшие механики Пушсовхоза, заведующего электростанцией Жукова перевели заведующим радиостанционным узлом Пушсовхоза, где он не имел ни одного подчиненного, чему был рад и с удовольствием сдал мне электростанцию.
Здание электростанции Пушсовхоза представляло собой большой высокий рубленый сарай с окнами и дверями-воротами, без чердачного перекрытия, крытой железной кровлей, через которую с тепловой изоляцией от стропил и обрешетки была пропущена железная дымовая труба локомобиля. Несмотря на эту противопожарную предосторожность, в целом сарай не удовлетворял требованиям пожарной безопасности и меня никогда не покидал страх пожара, пока я заведовал электростанцией. Слишком яркими были воспоминания, как на моих глазах сгорел дотла в начале 1934 года подобный сарай приспособленный под электростанцию Мебельной фабрики в Кеми. К сараю были пристроены тоже рубленные, но оштукатуренные изнутри две комнаты с деревянными полами, одна, побольше, для персонала электростанции, другая, поменьше, для заведующего. Кроме того была еще кладовая, тоже деревянная, для смазочных масел и других материалов. Перед дверью-воротами был большой досчатый тамбур с воротами для текущего запаса топлива. В сарае был расположен машинный зал, в котором стационарно был установлен колесный 40-сильный локомобиль английской фирмы «Клейтон Шутльворт», брошенный ввиду его изношенности англичанами при эвакуации их из Карелии в Гражданскую войну. Две динамо-машины Харьковского электромеханического завода (ХЭМЗ) по 12 киловатт приводились в движение локомобилем ременной передачей с маховика и увеличенного деревянными накладками шкива. Накладки представляли неточную окружность, что впоследствии для меня было источником хлопот, поскольку ход одной из динамо оказался неравномерным и для синхронной работы обе динамо не подходили. Распределительный щит был весьма примитивным. Резервный водяной бак для поступления воды в котел локомобиля самотеком в случае выхода из строя паровой донки и инжектора был установлен на подпорках почти под крышей. Вода для питания локомобиля могла накачиваться донкой из колодца у здания электростанции либо в водяной бак, либо непосредственно в котел локомобиля. Кроме того питание локомобиля водой могло быть осуществлено непосредственно инжектором тоже из колодца. Таким образом правила эксплуатации паровых котлов (два источника питания) были соблюдены полностью и с этой стороны никаких аварий котла локомобиля можно было не ожидать, если только по недосмотру кочегара и машиниста в случае несвоевременной подкачки воды в котел.
Если состояние динамо-машин было вполне удовлетворительное, локомобиль требовал капитального ремонта и котла и движущего механизма. Требовалось также переоборудование топки и распределительного щита, последнего с целью иметь возможность параллельного включения обеих динамо в общую распределительную сеть.
По штату электростанция должна была иметь заведующего, двух машинистов, двух кочегаров, двух дежурных у распределительного щита и двух линейных электромонтеров, то есть две смены. Должность старшего механика электростанции отсутствовала. График работы электростанции определялся длиной темного времени суток. В июне не более двух-трех часов, зимой в декабре до 22-х часов в сутки, без перерыва с 2-х до 6-и часов, как это было на КЭС. Штат к моему назначению заведующим был недокомплектован. Были два кочегара, машинист и два электромонтера. В светлое время года и этот персонал, без ремонтных работ, не был загружен. Один кочегар на воле был паровозным кочегаром, машинист был паровозным машинистом, как коммунист был выдвинут директором мельничного треста и так усердно молол вместе с женой зерно в свои карманы, что оба получили по 10 лет срока концлагеря. И паровозный кочегар и машинист по национальности были русские. Второй кочегар и два электромонтера были азербайджанские крестьяне ничего общего с техникой не имевшие, занимавшиеся на воле контрабандой, за что и получили по 7-10 лет срока в концлагере. Все мои подчиненные были заключенными-бытовиками. Неукомплектованность штата объяснялась действиями Жукова решившего лучше работать с неполным штатом, чем терпеть на электростанции банду из восьми азербайджанских контрабандистов не только ничего не понимающих в технике, но и не желавших ничего делать, чему-нибудь учиться в процессе работы и являвшихся фактическими хозяевами на электростанции. Разгром банды начал Дробатковский, посадив в карцер, а затем направив на лесозаготовки главаря банды – заведующего электростанцией, заменив его Жуковым. Жукова, как он мне рассказывал, банда встретила в штыки и отказалась ему подчиняться. При посещении электростанции на другой день по моему прибытию в Пушсовхоз я видел эту банду, без главаря, но в полном составе занимавшуюся перебранкой и не обратившую на меня никакого внимания. Жуков оставил на электростанции только трех азербайджанцев, кое-как исполнявших его приказания, а остальных пятерых УРЧ по его просьбе перевела на лесозаготовки. Взамен уволенных персонал удалось укомплектовать только двумя русскими заключенными. Я был благодарен Жукову за некоторое наведение порядка на электростанции, но главное легло на мои плечи. Прежде чем наладить производственную дисциплину, надо было установить человеческие отношения с оставшимися тремя азербайджанцами и устранить национальную рознь между ними и двумя русскими.
Прежде всего я поставил в одну смену азербайджанца-кочегара и русского-машиниста, в другой смене остался один русский кочегар, которого машинист проинструктировал обращению с движущимся механизмом локомобиля. За работу с совместительством обязанностей машиниста, русскому кочегару я пообещал двойные премиальные деньги. В эти дни заря уже не сходила с горизонта, электростанция работала всего несколько часов в сутки и смены работали через день, что всем понравилось. Совместная работа кочегара с машинистом сократила антагонизм между ними. Двух азербайджанцев электромонтеров днем я раздельно водил с собой по осмотру электросети, попутно расспрашивая их о родне, семье, бытовых недостатках концлагеря, которые я мог бы устранить. Во время работы электростанции я сидел с ними у распредщита, объясняя их обязанности и поправляя их ошибки. Затем я их вовлек в роль подручных при переоборудовании распредщита и ремонту электросетей.
К сожалению это был совершенно не тот квалифицированный персонал из политзаключенных, подобный тому, который я оставил на КЭС. С этими жуликами надо было держать ухо востро и всегда быть начеку. И все же мне удалось довольно быстро без всяких дисциплинарных наказаний поднять производственную дисциплину на большую высоту, завоевать у них такой личный авторитет, что все добросовестно выполняли свои обязанности без каких-либо напоминаний и не было случая невыполнения моих распоряжений. Авторитет у подчиненных я завоевал не столько отдавая распоряжения, сколько личным трудом участвуя в производственном процессе, неустанно показывая подчиненным как надо работать, объясняя почему надо делать так, а не иначе. С электромонтерами я влезал на столбы, ставил изоляторы, вязал к ним провода, делал перетяжку пролетов на линии. Реконструируя распредщит, крепил шины, ставил рубильники, измерительные приборы, объясняя схему щита. На динамо-машинах притирал токоснимающие щетки (до меня это не делалось, щетки искрили и коллекторы обгорали), прорезал слюду на коллекторе. Присмотревшись к работе кочегара (паровозного), я стал показывать кочегару-азербайджанцу как надо загружать топливом топку, когда надо шуровать топку, чтобы с наименьшей затратой топлива получать больше пара. Эта работа с кочегарами заставила меня проанализировать конструкцию топки и, придя к заключению о ее несовершенстве, заставила меня во время капитального ремонта переделать ее на тип шахтной топки по образцу имевшейся на Кремлевской электростанции на Соловках топки у водотрубного котла «Дюр». Преимущество такой топки заключалось в повышении калорийности топлива путем его подсушки до попадания непосредственно в топку под котлом. Переделанная на шахтную топку система отопления вместе с прочисткой котла во время разборки локомобиля и ремонтом движущихся механизмов дала ощутимые результаты в экономии топлива, особенно в зимние месяцы. За экономию топлива весь персонал электростанции, включая меня, стал регулярно поквартально получать дополнительную денежную премию.
Уже осенью я убедился, как ко мне привязались азербайджанцы. Когда в выходной день к ним пришли их друзья уволенные с электростанции, мои подчиненные представили им меня в восторженных выражениях по-русски, а когда после этого и те и другие переговорили между собой на родном языке, и гости мне наговорили комплиментов. Особенно ко мне привязался электромонтер Гюль-Ахмед, с которым я проработал почти весь оставшийся мне срок. Он освободился ранее меня на неделю и, уезжая, страстно просил меня приехать к нему в Азербайджан и поселиться там, оставив мне свой адрес. В течение двух-трех месяцев мне удалось так организовать дело, что когда я входил в машинный зал, дежурная смена, бегло бросив взгляд на вверенные им участки работы, переводила на меня взгляд, чуть не замирая по команде «смирно», явно волнуясь, чтобы я не нашел какого-нибудь упущения в их работе. Таких упущений почти не было и придраться было не к чему, да и не в моей натуре было портить и так нелегкую жизнь заключенного, своим же подчиненным.
С первых же дней работы заведующим я стал доукомплектовывать штат электростанции. Дробатковский сделал мне большую услугу, переведя на электростанцию машинистом бригадира полеводческой бригады политзаключенного кубанского казака, так называемого кулака, посаженного в концлагерь на десять лет. На него можно было положиться не только как на порядочного человека, но и как на большого специалиста по локомобилям, которые лично я, как и вообще, паровые машины и котлы немного знал теоретически, в натуре видел лишь на Соловках и заниматься по-настоящему ремонтом не смог. В своем хозяйстве на Кубани казак имел собственный локомобиль и механиком-самоучкой обслуживал его с юности. Дробатковский перевел его ко мне специально для производства капитального ремонта локомобиля, что я ему и поручил, совершенно не вмешиваясь в техническую сторону его производства, взяв на себя лишь проталкивание заказов на обработку деталей к локомобилю, снабжение инструментом. Казак возглавил и сплотил бригаду по ремонту из машиниста и двух кочегаров, сам работая ремонтником. Кочегар-азербайджанец, попав в бригаду с тремя русскими, сразу оставил свой национализм и жалоб от бригадира на него не поступало. Дробатковский также мне перевел концлагерную жену Морозова, из уважения к последнему, чтобы облегчить ей принудительный труд. В благодарность за мое согласие принять ее, полуграмотную женщину, она платила мне безграничной исполнительностью, а Морозов всячески помогал при ремонте локомобиля. Назначил я ее на должность дежурного у распределительного щита. Продежурив у щита с ней немногим более месяца, я добился полного усвоения ею обязанностей дежурной. Упорным трудом в часы остановки электростанции она изучила расположение рубильников, а во время работы запись в журнал показания вольтметров и амперметров, регулировку реостатом напряжения на динамо-машинах и я мог быть спокойным в ее самостоятельные ночные дежурства, зная, что на дежурстве она не заснет. Безусловно, даже мелкого повреждения она исправить не смогла бы, и тогда я сам пришел бы к ней на помощь, потому что она не только не знала устройства динамо-машины, но и азбучные истины электротехники ей было не осилить, да я этому и не пытался ее обучать. Ее доброе отношение ко мне, о степени которого я даже и не подозревал, выразилось однажды в довольно неожиданной форме. Как-то ночью я встал проверить работу смены и застал ее у распредщита на дежурстве … штопающей мои теплые носки, которые я снял на ночь. Она страшно сконфузилась, а я отнял у нее носки, не желая нарушать неизменно проводившийся мною принцип не принимать от подчиненных малейшей личной услуги, чтобы никогда не попасть в зависимость от них.
Дробатковский вполне понимал необходимость капитального ремонта локомобиля и в связи с ним полной остановки электростанции на время ремонта. Дич, не отрицая необходимости ремонта локомобиля, боясь и в светлые ночи остаться без электрического освещения, категорически требовал продолжения работы электростанции. Выручил меня Морозов, дав мне, с согласия Дробатковского, два трактора «СТЗ». Мощность их на шкиве была достаточна, чтобы вращать по одной динамо-машине. Тракторы Морозов установил снаружи здания, плотники пропилили в стене отверстия для ременной передачи, и в течение нескольких наиболее темных часов еженочно динамо-машины работали от тракторов, подавая электроэнергию Пушсовхозу во все время капитального ремонта локомобиля.
Несмотря на более чем поверхностные знания локомобилей, почерпнутые мною из бегло просмотренной литературе о них, я все же ужаснулся, когда кубанский казак вскрыл лазы котла и предложил мне лично убедиться во внутреннем состоянии котла локомобиля. При обнаруженном таком слое накипи за долгие годы работы котла удивительно было как еще локомобиль мог поднять пары. Не в лучшем виде оказались и движущаяся часть локомобиля, коренные подшипники, ползунки и направляющие. Дымогарные трубы надо было вынуть все, накипь с них и с внутренних стенок котла сбить, сделать новую обмуровку котла, внутри трубы чистить, подшипники заливать, направляющие исправить, ползунки ставить новые. Ремонту подлежали также инжектор и донка со сменой поршня, расточкой цилиндра и заменой клапанов.
Бригада по ремонту работала не покладая рук, по полторы и более смены. Бригадир не щадил ни себя, ни подчиненных, лишь бы качественно и в сжатые сроки произвести ремонт. Работал он сам с таким азартом, что видно было как он соскучился по паровой машине и какой он был по натуре труженик.
По ходу ремонта нам приходилось обращаться в механические мастерские соседнего Повенецкого отделения ББК, расположенные в селе Повенец в трех километрах от Пушсовхоза. В Пушсовхозе не было металлообрабатывающих станков для подгонки новых ползунков локомобиля, обмотки поршней, расточки цилиндров и других работ. Однодневные командировки одному казаку, а большей частью нам вдвоем, Дич давал беспрепятственно без конвоя, а Дробатковский давал нам лошадь с бегунцами, на которых мы и возили детали на обработку. Мастерские помещались в «зоне», то есть в огороженной колючей проволокой территории концлагеря, лагпункта Повенецкого отделения. По командировкам нас легко пропускали в зону и выпускали обратно. Каждый раз когда я убеждался в принятии нашего заказа к исполнению и казак оставался для наблюдения за работой, я выходил из зоны и осматривал Повенец и в первую очередь шлюзы Беломорско-Балтийского канала имени Сталина берущего свое начало из Онежского озера у села Повенец и проходящего через Карелию до Белого моря общей протяженностью 227 километров.
Строительство канала под названием «Беломорстрой» кошмаром висело над заключенными сотнями тысяч сгоняемых в 1931-33-м годах в глухую тайгу на его трассу, гениально начертанную еще Петром Великим, самолично объездившим Карелию и выбравшим наиболее удачный ее вариант с использованием длинного Выгозера, расположенного на водоразделе между Белым морем и Онежским озером. Включение Выгозера в трассу канала значительно сократило объем скальных и земляных работ, так как само озеро, вместе с рядом мелких озерков и частично руслом реки Повенчанки в ее верхнем течении явились естественным руслом канала на протяжении 190 километров, а сток водяных ресурсов Выгозера обеспечивал шлюзование по обе стороны водораздела. По приказу Сталина канал был построен в течение 20-и месяцев и сдан точно в срок 20-го июня 1933 года. Отсутствие какой-либо механизации работ переложило всю тяжесть стройки на плечи заключенных. Кувалда и клин, лом и кирка сделали 2514 тысяч кубометров скальных работ. Лопата и тачка выполнили 21 миллион кубометров земляных работ. За каждый кубометр раздробленной скалы, за каждый кубометр вынутой земли заключенные платили потом, кровью, потерей трудоспособности, жизнью, строили на костях своих коллег по несчастью. По одиннадцать и более часов в сутки, круглосуточно в две смены где было освещение зимой, а летом повсеместно шли работы на трассе канала. Вследствие сжатых сроков стройки на работы заключенных гнали в любой мороз и они обмораживались днем на работе, ночью во сне в палатках. Лето не приносило облегчения из-за туч мошкары и комаров. Несмотря на хороший паек, заключенные гибли тысячами, заполняя безвестные могилы вдоль всей трассы, могилы становившиеся немым упреком безжалостной системе, поколению доведшему страну до такой жестокости. «Железная дорога» Некрасова была сущим пустяком с той коллективной могилой заключенных, которая представляла собой трасса канала. Вот почему заключенные даже ценою вывоза их с Соловков, с их ужасно жестоким режимом, ловчились не попадать на Беломорстрой.
Впечатляющим было сухой русло реки Повенчанки с нагромождением гигантских валунов ледникового периода. Ее спрямленное русло выше по течению было использовано для трассы канала, а низовье до впадения в озеро оказалось осушенным. Вплотную к берегу озера подходил первый шлюз, вход в который был обрамлен двумя обелисками. Я прошелся по берегу шлюза до следующей камеры и был поражен, как мне показалось, ветхостью сооружения, хотя со дня открытия канала прошло только два года. Стены камеры шлюза, сложенные из бревен изобиловали фонтанчиками воды, бойко лившейся в шлюз через пазы между бревнами. Деревянные стенки не могли сдержать напора почвенных вод, а ведь это было летом, в сухое время года. Что же делается осенью в период дождей, весной во время таяния снегов, сколько воды просачивается через стенки, нарушая скорость процесса шлюзования?! Ворота шлюзов сделанные исключительно из дерева с деревянными щитами для спуска воды, выдававшиеся пропагандой за мировое достижение в практике строительства шлюзов, были не в лучшем состоянии. Вода сочилась и через них довольно обильно, что вызывало сомнение в возможности поддержания разности уровней воды на лестнице шлюзов. Если сооружения канала выглядели так через два года после его постройки, то что же с каналом сделалось еще через шесть лет, когда в 1941 году он был захвачен финнами?
Вероятно к тому времени все сооружения канала окончательно вышли из строя и канал прекратил свое существование? И зря свалили на финнов будто бы они взорвали сооружения канала. Собственно и разрушать было нечего. После войны сооружения канала были восстановлены в железе и железобетоне и канал начал функционировать, но вряд ли он имеет и сейчас какое-либо мирное народнохозяйственное значение, так как стоит вдалеке и не в направлении грузопотоков. Не имел канал и никакого народнохозяйственного значения и до войны, от силы в сутки по нему в одном направлении проходил какой-нибудь маленький пароходик или буксир с баржей. И строился канал не для развития грузооборота, а в исключительно военных целях, притом только на один раз его использования, отчего и были даны немыслимо короткие сроки его стройки, исключающие качество постройки – будущее канала, его долговечность, не интересовала никого, лишь бы скорее его сделать.
Когда в начале 20-х годов окончательно стала бесперспективной идея мировой революции и большевицкой верхушке, волей-неволей, пришлось признать продолжавшее жить-поживать "капиталистическое окружение", действительность остро поставила вопрос о, так называемом, мирном сосуществовании. В коммунистическом сознании воспитанном на марксистской теории классовой борьбы, идея мирного сосуществования с остальным миром преломилась в ожидание неизбежности вооруженного конфликта с остальными государствами и потому вся политика развития советского государства была подчинена военной цели, созданию мощных красных вооруженных сил с целью обороны "социалистического отечества" от мифически-единого фронта, так называемых, капиталистических, империалистических государств, силы которых, на самом деле, были раздроблены национальными границами и правительства которых, в силу государственного устройства, зависимости от народных масс, не могли совершить никакой агрессии против советского государства, если бы даже и хотели.
Индустриализация страны, то есть создание колоссальной тяжелой промышленности, по сути дела, военной промышленности, преследовало именно цель вооружения страны, а не какую-либо другую. Наспех созданная теория возможности построения социализма только через строительство тяжелой промышленности была фиговым листком прикрытия в военной направленности политики большевиков. Поспешностью, с которой хотели создать вооруженные силы, объясняются те невиданные бешенные темпы индустриализации, введенные с 1928-го года, с первого Пятилетнего плана, когда единоличная диктатура Сталина была уже почти осуществлена. Успехи в создании военной промышленности позволили к середине тридцатых годов вооружить более новой техникой огромную по численности Красную армию и, оставленная на время идея мировой революции вновь ожила в помыслах Сталина, которому уже было можно мнить себя вождем народов населявших СССР. Сталин стал метить в вожди международного пролетариата, во всемирного диктатора и, для осуществления своей мечты, стал видеть в военном захвате территорий остальных государств средство установления своей личной диктатуры во всем мире. Не революцией, совершаемой в каждой стране своим пролетариатом, а вооруженной силой Красной армии пришедшей извне, присоединять новые советские государства к Союзу ССР. В предстоящей войне Красную армию и флот уже не готовили к оборонительным действиям, а нацеливали их на наступательные действия, готовили к захватническим войнам. Тактика оборонительной войны на границах государства, особенно ярко выразившаяся в усиленно пропагандированном ранее труде подполковника генерального штаба Русской армии, перешедшего на службу в Красную армию, Свечникова, была отвергнута. Свечников в 1925 году ратовал за создание вдоль всей границы сильно укрепленных узлов обороны с заливкой промежутков между ними на большую глубину собственной территории стойкими боевыми отравляющими веществами. Честолюбивый красный главком Тухачевский, получивший военное образование и имевший офицерский чин в Русской армии, перевел всю подготовку воинских соединений от оборонительной к наступательной, мечтая о лаврах Бонапарта. От бонапартизма не отказывался и Сталин, что и привело Тухачевского, как конкурента, к расстрелу в 1938 году. "Бить врага только на его территории", вторил Тухачевскому нарком обороны Ворошилов, тоже мня себя великим стратегом. Агрессия в 1939 году против Финляндии, против Польши совместно с Гитлеровской армией, с отобранием территорий у Финляндии и Западных Украины и Белоруссии у Польши, в 1940 году оккупация Эстонии, Латвии и Литвы с поглощением полностью их территорий, захват Молдавии у Румынии были первыми вехами на пути к захвату мирового господства, установлению в иностранных государствах, так называемой, диктатуры пролетариата не национальным пролетариатом путем революции, а вторжение извне хорошо вооруженных многочисленных иностранных воинских частей Красной армии. Наступательная тактика Красной армии стала приносить увеличение территории на которую распространялась деспотическая власть Сталина.
Одним из мероприятий по усилению наступательной мощности Красных вооруженных сил было создание в 1933-м году Северного красного морского флота с целью охвата Европы с севера. Северному флоту была передана часть кораблей Балтийского флота, важнейшим классом которых, для наступательных операций на коммуникациях столь жизненно важных для Англии, были подводные лодки. Балтийский флот самый многочисленный и мощный из всех красных флотов, поскольку он полностью сохранился в гражданскую войну, в новых послереволюционных границах полностью утратил свою наступательную силу, зажатый на пятачке между Кронштадтом и Ленинградом и лишенный оперативного простора в Балтике и Финском заливе. Встал вопрос о пути перевода кораблей из Балтики на просторы Ледовитого океана. Большие корабли в сопровождении эскадренных миноносцев этот переход под видом маневров, смогли осуществить вокруг Скандинавского полуострова без захода в иностранные порты для пополнения запасов топлива. Главная же наступательная сила, подводные лодки, такой путь без захода в промежуточные порты совершить не могли. По железной дороге их перевезти было немыслимо. Для их прохода и других мелких вспомогательных судов из Финского залива в Ледовитый океан, и только с этой целью был построен Беломорско-Балтийский канал. А в Онежское озеро подводные лодки попадали по Неве и обходным каналом Ладоги и Свири. Канал, судьба которого потом никого не интересовала, построили сотни тысяч рабов, десятки тысяч отдали за него жизнь, и все это лишь для того, чтобы он функционировал по-настоящему лишь один раз, для переброски на Север орудий разрушения. Так чудовищно нерационально растрачивала жестокая диктатура человеческие ресурсы и жизни, материальные ценности создаваемые трудовым народом, и только для того, чтобы осуществить захватническую политику. Большая доля вины за это преступление лежит и на Кирове, который будучи полновластным хозяином Ленинградской области, в которую тогда входил и Кольский полуостров, созданием Северного флота хотел обезопасить северные границы своей вотчины, в которой он в ужасающих условиях Кольской тундры трудом заключенных форсировал разработки ископаемых. Недаром широко в те годы рекламировалась фотография изображавшая Сталина, Кирова и Ворошилова на корме катера, осматривающих Белбалтканал (Беломорканал).
Для уменьшения осадки подводных лодок с них было снято вооружение, двигатели. Через канал от шлюза к шлюзу их тащили бечевой бригады заключенных. С базой подводных лодок вышел конфуз. Несмотря на такой же демонтаж, осадка ее превысила глубину канала и ее тащили с большим креном, подпирая борт с берегов бревнами. Торпедные и сторожевые катера прошли своим ходом и лишь в шлюзах их тащили бечевой.
Ворота шлюзов, щиты отверстий для напуска и спуска воды открывались и закрывались приводами от воротов, вращаемых руками заключенных, их мускульной силой, а не какой-нибудь механической силой. Суда проходившие из камеры в камеру шлюзов тащила канатами та же бригада заключенных. А так как движение судов по каналу было минимальным, после пропуска военной флотилии, количество бригад сократили, оставив по одной на лестнице подъема и спуска в сторону Белого моря и на такой же лестнице в сторону Онежского озера. Бурлаки тридцатых годов ХХ столетия, сопровождая каждое шлюзование судна, шли по берегу канала, и, закрывая и открывая ворота шлюзов, напуская и спуская воду, бегали вокруг воротов, а впрягаясь в бечеву, перетаскивали судно из камеры шлюза в следующую и снова крутили ворот на следующем шлюзе и так далее, пока судно выходило или на водораздел или спускалось к концу канала. Электроэнергия подавалась только для освещения шлюзов.
По каналу летом 1935 года была совершена экскурсия челюскинцев. На пассажирском пароходе Белбалткомбината "Карл Маркс" их прокатили от Медвежьей горы до села Сороки (теперь Беломорск). В одном из шлюзов находившегося в зоне какого-то лагпункта концлагеря пароход пришвартовался к берегу на ночь. Стояла теплая погода и челюскинцы имели неосторожность, привыкши уже к почету, не закрыть на ночь окна кают. Утром проснулись и ужаснулись. Остались только в том, в чем спать легли. Все вещи и одежду расторопные заключенные-уголовники похитили во время их сна. Скандал получился неописуемый. Из Москвы нагорело начальнику ББК Раппопорту, от последнего чекистам концлагеря разных рангов. От чекистов досталось всем заключенным, но, несмотря на все усилия 3-го отдела и 3-х частей не все вещи были найдены и притом не сразу, а пока челюскинцам пришлось заканчивать экскурсию в морской форме, которая была им срочно выдана из складов концлагеря. Обмундирование было совершенно новое и прислано было для вольнонаемных чекистов Белтбалтлага.
Да, в 1935 году приказом ОГПУ чекистскому вольнонаемному составу Белбалтлага было присвоено ношение морской формы взамен формы ОГПУ на том основании, что Беломорканал подчинялся начальнику ББК ОГПУ и входил в его состав и следовательно чекистская администрация концлагеря превратилась в сухопутных моряков. Исчезли серые шинели с кроваво-красными петлицами, появились черные шинели, синие кителя, фуражки с морским гербом. Чекисты поограниченнее форсили морской формой, более умные иронизировали в отношении сухопутных моряков.
Морскую форму одел и следователь 3-го отдела Управления ББК еврей Кацман, с виду безобидный, худосочный, в очках, служивший предметом острот со стороны чекистов 3-го отдела, других национальностей. Впрочем, последнее не мешало ему с кучкой своих единоплеменников по своему усмотрению управлять делами так ловко, что остальные сотрудники, в том числе и надсмехавшиеся на Кацманом, были только слепыми исполнителями воли еврейского ядра. Как только Кацман одел морскую форму сразу распространился анекдот: «Кацман стоит на пристани. К пристани подходит пароход. Капитан с парохода кричит в рупор "Эй, боцман"! Кацман никак не реагирует. Капитан кричит: "Эй, лоцман"! Кацман опять не откликается. На пристани больше нет никого в морской форме и окружающие обращаются к Кацману: "Это Вас кричит капитан"! Кацман, удивленно пожимая плечами: "Какой я боцман, какой я лоцман, я просто Кацман»?!
Мой перевод в заведующие электростанцией не изменил полагавшегося мне пайка, и я продолжал питаться в столовой Административно-технического персонала (АТП). В этой столовой питалось около двадцати заключенных концлагерной элиты - заведующие и ответственные исполнители частей управления ОЛП «Пушсовхоз» и начальники производственных подразделений, а также персонал Зональной станции. По производственному значению на ОЛП «Пушсовхоз» полагалось только два пайка «ИТР» и 15 пайков «АТП». Сухим пайком получали по категории «ИТР» Дробатковский и заместитель заведующего Пушхозом Ким. Сухой паек «АТП» получал Морозов. Остальные 14 пайков «АТП» шли в общий котел столовой, с добавлением, на остальное количество питающихся пайков 1-го списка. Таким образом, была проведена некоторая уравниловка, от которой выгадывали заключенные, на которых не хватало пайков «АТП», но с другой стороны и те заключенные, которые по должности должны были полностью съедать паек «АТП» были не в обиде, поскольку в общий котел нашей столовой добавлялись продукты животноводства - творог, молоко, сметана, и растениеводства - картофель и овощи. В искусных руках повара - заведующей столовой, пожилой немки из херсонских колонистов, все продукты превращались в большие порции вкусных питательных блюд (по два на обед, одно на ужин). Ни о каком недоедании поэтому не могло быть и речи, тем более что врожденная немецкая честность не позволяла воровать продукты, как это было на всех кухнях и общих и привилегированных на всех лагпунктах концлагерей.
Заведующая столовой «АТП» была политзаключенной с десятилетним сроком заключения, посаженная совсем недавно «за связь» с заграницей. Такое обвинение было предъявлено ОГПУ всем немецким колонистам юга Украины, где они в течение почти двух веков вели крестьянское хозяйство, освоив дикие степи во время царствования Екатерины II. Трудолюбивые и бережливые немцы жили богато и их хозяйства вызывали зависть у окружавшей прослойки русских и украинцев. Большевики, кичащиеся своими интернациональными чувствами, совершили чистейший акт геноцида в отношении немецких колонистов, частично отправив их в ссылку в Сибирь, Среднюю Азию и Север, а в большинстве посадив в концлагеря по 58-й статье на десятилетние сроки. Не пощадили ни женщин, ни стариков обоего пола. Против колонистов репрессии начались в 1929 году под видом пресловутого раскулачивания, закончились в 1934 году поголовным выселением всех колонистов из Херсонской, Одесской и Крымской областей. Пришедшая в Германии к власти Национал-социалистическая рабочая партия в 1933 году на основе однопартийной системы управления государством очень быстро развернула пропагандистскую кампанию по прославлению своей идеологии, в том числе и кампанию по оказанию помощи немцам проживающим в СССР под названием «Братья в нужде» ("Brüdern im Noth"). Обильный сбор средств внутри Германии в ходе этой кампании позволили в большом количестве посылать продовольственные посылки голодающим от коллективизации немцам-колонистам Юга и Поволжья. Каждая немецкая семья получившая такую посылку немедленно арестовывалась ОГПУ и взрослых обоего пола сажали в концлагерь, детей в зависимости от возраста, отправляли или в колонии для малолетних преступников или в детские дома. Гитлер и Геббельс проводили кампанию «Братья в нужде» не из сострадания к своим соотечественникам оказавшимся в СССР в действительной нужде, а чисто в пропагандистских целях, показать о своей заботе не только в отношении немецкого народа в пределах Германии, но и о немцах рассеянных по всему свету, продемонстрировать единство всех немцев, где бы они ни были. Немцы-колонисты в СССР были наиболее подходящим объектом для национал-социалистической пропаганды потому что они не только действительно нуждались, но и нуждались от претворения в жизнь коммунистических идей и на этом наглядном примере всему свету демонстрировалось превосходство национал-социализма над коммунизмом: в Третьем рейхе - обилие продуктов, в коммунистическом государстве - голод.
Результат этой кампании для опекаемых был плачевным, он не улучшил их положения, а ухудшил, разбив семьи, превратив их из голодающих на воле, в голодных рабов в концлагерях. Впрочем получение этих посылок было только предлогом для ликвидации немцев, как потенциальной пятой колонны в предстоящей схватке с гитлеризмом. Поступление посылок было только сигналом к тщательно запланированному полному и поголовному выселению немцев-колонистов Юга, проживавших на территориях близких к Черному морю, которые могли стать театром военных действий раньше, чем отдаленное Поволжье, где тоже были немцы-колонисты, где была даже создана декоративная Автономная республика немцев Поволжья и где расправа над немцами-колонистами в начале 30-х годов была произведена лишь частично. Окончательно и поголовно немцы Поволжья были согнаны со своих земель в ссылку в Сибирь, посажены в концлагеря в 1941 году, когда германская армия угрожала Москве. С выселением немцев Поволжья была ликвидирована и декоративная республика.
Немка кормившая нас имела малый запас русских слов и так их коверкала, что понять ее было трудно. На немецком языке мы тоже друг друга мало понимали, я не так хорошо знал разговорный немецкий язык, она говорила на таком немецком языке, что мне было трудно ее понять. Я с удивлением констатировал каких отклонений от литературного немецкого языка достиг язык немецких колонистов проживших несколько поколений вдали от родины. Ближе к литературному немецкому был даже еврейский жаргон.
Мне запомнился курьезный разговор, который вел с заведующей столовой один из вновь прибывших, политзаключенный, русский по национальности, преподаватель немецкого языка, еще не успевший переварить несправедливость своего невинного осуждения на десять лет заключения в концлагерь. Разговор по-немецки у них не вышел, он тоже, как и я, плохо понимал немецкий язык колонистов, и они перешли на русский язык. И тут отчетливо выявился не только скудный запас русских слов имевшихся у колонистки, но главное извращение смысла некоторых слов, усвоенных ею на допросах у следователя, во время которых она главным образом и научилась русскому языку. Преподаватель возмущался ложностью предъявленных ему обвинений. Немка непременно ему сочувствовала и жалела его, что он «ошибался». Очевидно, на допросах, немке особенно врезался в память русский глагол «ошибаться», которым назойливый следователь хотел доказать ей смягчающиеся обстоятельства ее «вины», чтобы скорее добиться от нее подписи на протоколе допроса написанного следователем. Немка знала свою невиновность и понимала слово «ошибаться», как «невиновность». «Да ничего я не ошибался», - еще более возмущался преподаватель. «Да, да, - повторяла немка, - мы все ошибались». Разозленный преподаватель снова доказывал немке, что он не совершал никакого преступления, а потому и не мог ошибаться, а немка с участием опять повторяла об «ошибке». Так они друг друга и не поняли, преподаватель ушел обозленный неверию немки в его невиновность, а немка сияла, считая, что они оба убедились в обоюдной своей невиновности.
Несмотря на трудности объяснения с заведующей-поваром столовой, она удивительно хорошо ко мне относилась во все время пребывания моего в Пушсовхозе. Связанный с работой электростанции, в особенности вечером в часы пик, я нередко не мог во время прийти к ужину и всегда она мне оставляла мою порцию, нередко разогревая ее, когда я попозже смог вырваться с электростанции и пойти поужинать. Уходя с электростанции всегда далеко за полночь, когда спадала вечерняя нагрузка, я обычно утром просыпался позже других и в столовую пить утренний чай приходил попозже и никогда не получал от нее отказа в кружке горячего чая.
Столовая АТП была местом где я перезнакомился довольно быстро со всей заключенной элитой столовавшейся в этой столовой. С работниками частей, по рангу не столовавшихся в столовой, я познакомился в ходе деловых отношений в частях управления ОЛП, знал их не так близко, как первых. Загадочной личностью для меня остался армянин, помощник начальника УРЧ. Он был не только политзаключенный, но и «террорист». Несмотря на это он не был не только интернирован в нашу камеру на жительство, но и работал в УРЧ, куда на работу совершенно не допускались политзаключенные даже с таким невинным пунктом как 10-й. В то время все эти работники 3-й части, УРЧ и КВЧ держались в столовой очень официально, старались не вступать в общие разговоры, подчеркивая свою исключительность, армянин был балагуром, ставил себя на одну ногу со всеми. Иногда мы вместе шли из столовой определенный участок пути и мне он рассказывал о себе, причем никогда не делал ни одного шага за мной, когда уже нам было не по пути и не задавая каких-либо вопросов и не делая никаких подозрительных высказываний. Последнее не заставляло меня предполагать в нем стукача, желающего что-либо выведать у меня. Его история попадания в концлагерь на десять лет по 58-й статье пункт 8-й, рассказанная им мне, была правдоподобна и на ней следует остановиться.
Он был снабженцем в национальной кавалерийской кавказской дивизии Красной армии. Во время отпуска в родном селе он был арестован армянским ГПУ и по обвинению в совершении террористического акта был заключен в концлагерь на 10 лет. Убийство имело место, но армянин возмущался: «Я причем, говорю следователю, ведь в эту ночь я с тобой вместе пил, ты же знаешь, что меня там не было, как мог я убить»!? «Ты нажал кнопку, - невозмутимо возразил армянину собутыльник, - а там и убили». После этого рассказа мне стало ясно только одно, что армянин если и не был чекистом, то был связан с ОГПУ, чем и объяснялся допуск его на работу в УРЧ и не распространение на него репрессии против пункта 8-го статьи 58-й. а посадили его все же за «отсутствие бдительности», выразившейся в незнании подготавливавшегося террористического акта.
Еще об одном политзаключенном Пушсовхоза следует упомянуть. Он как-то не соответствовал имевшимся о нем данным, но только в другой плоскости. Если армянин выделялся несоответствием висевшим над ним пунктом 58-й статьи и своим характером, с одной стороны, и занимаемой им должностью с другой стороны, граф Зубов, о котором я хочу рассказать не соответствовал своему происхождению ни манерами, ни внешним обликом и был ярким контрастом барону фон-Притвицу. Если последнего нельзя было не принять за барона, даже не зная, что он барон, в графстве Зубова я долго сомневался, пока его графское происхождение не подтвердил мне Дробатковский, да и Дич, как-то жалуясь мне на необходимость проявлять постоянную бдительность в отношении политзаключенных, упомянул о пребывании в Пушсовхозе таких столпов бывшего правящего сословия, как барон фон-Притвиц и граф Зубов.
По внешности граф Зубов очень смахивал на деревенского лавочника, а его далеко не светские манера еще более подчеркивали это сходство. Высокого роста, плечистый детина, лет пятидесяти от роду, зычным голосом отдавал приказания дневальным бараков о поддержании чистоты. Фактически граф Зубов в Пушсовхозе был смотрителем зданий, но почему-то именовался комендантом ОЛП, хотя в его подчинении не было ни одного солдата и административными функциями граф не обладал. В столовой АТП граф Зубов не питался и я впервые с ним познакомился, когда он нагрянул на электростанцию и пытался сделать разнос за грязный пол. Как раз был период ремонта локомобиля, в машинном зале было много грязи, и грязь на подошвах натаскивалась и в комнату общежития персонала. Зная как надрывается бригада на ремонте, работая не считаясь со временем, а электромонтеры не менее уставали занятые со мной на ремонте магистрали, я не настаивал на мытье полов, отложив его до окончания ремонта. Я объяснил графу причину загрязнения полов, но он пригрозил мне карцером, хотя угрозу в исполнение и не привел. Впрочем, он может быть и настаивал, но Дич не согласился с ним. Вскоре происшедшая между нами стычка была обоюдно забыта и он в моем присутствии охотно и увлекательно рассказывал о жизни Петербурга, которую граф хорошо знал, в особенности увеселительные заведения всяких рангов. Однако он жил на жалование, работая артельщиком на Путиловском заводе.
Так в постепенном знакомстве с заключенными Пушсовхоза прошли первые месяцы моего пребывания в ОЛП, переломным моментом которого, в области заведывания мною электростанцией, было окончание в начале августа капитального ремонта локомобиля. К этому же времени я окончательно убедился в измельчании фигуры политзаключенного и по его внутреннему содержанию и по его весу в дореволюционном обществе. По сравнению с Соловецким лагерем особого назначения не на ком было остановить взор. С течением времени в концлагеря сажали все больше и больше незаметных личностей, улов ОГПУ проходил по годам как бы по слоям, и чем дальше, то снимался еще новый, еще нижележащий слой. И это мое наблюдение, как-то подсознательно покоившееся в глубине моего мозга, необычайно ярко всплыло наружу в 1938-м году, когда я услышал в какой-то речи Л. М. Кагановича фразу: «Мы снимаем по слоям».
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эксплуатационная деятельность моя на электростанции Пушсовхоза, вернее сказать, нормальная эксплуатационная деятельность началась в конце июля 1935 года, когда капитальный ремонт локомобиля был закончен, локомобиль был принят котлонадзором и выработку электроэнергии взял на себя локомобиль, заменив два временно установленных около здания электростанции трактора. Правда период ремонтов, в частности электросети продолжился еще и на август и начало сентября. С электромонтером, моим верным азербайджанцем Гюль-Ахмедом, продолжали капитальный ремонт электросети и за лето 1935-го года мы много сделали, сделали столько на сколько хватило электроматериалов, главное дефицитного провода.
Полученный мною при помощи Главного механика ББК, политзаключенного Боролина, алюминиевый голый провод мы подвесили на фидере управления ОЛП «Пушсовхоз» взамен железной проволоки диаметром 7 мм. Эта проволока была установлена на столбы вопреки электротехническим правилам, не допускающим использования железа на низковольтных сетях вследствие большого удельного сопротивления железа и значительного его удельного веса. Совокупность этих двух особенностей железа не позволяет увеличению сечения до нужного эквивалента меди по проводимости. 7 мм железная проволока вызывала большое падение напряжения на фидере при полной загрузке и электролампы в управлении светились красным светом, почти в полнакала. Замена железной проволоки алюминиевым проводом значительно улучшило освещенность управления.
По приезде в Пушсовхоз я обратил внимание на схлестывания проводов в воздушной сети даже при незначительном ветре, вследствие большого провеса проводов между столбами. Схлестывание проводов вызывало короткое замыкание на линиях, а вследствие неисправности воздушных предохранителей на распределительном щите на электростанции и целые группы домов и строений погружались в темноту, так как обесточивались фидеры. Перетяжка пролетов воздушной электросети и приведение к норме воздушных предохранителей с добавлением их на каждое ответвление устранили эти ненормальности и привели к почти бесперебойному снабжению электроэнергией всех абонентов электростанции. Остальной ремонт электросети состоял в смене столбов, изоляторов, крючьев.
Алюминиевый провод, который был лишь заменителем медного, ставшего дефицитным в первые пятилетки индустриализации страны, имел свои отрицательные свойства: большой температурный коэффициент удлинения и малое сопротивление на разрыв. По сути алюминиевый провод не был пригоден неизолированным для воздушных сетей, но за неимением другого монтажники его подвешивали на столбы, а эксплуатационники после этого с ним мучились. В жаркую погоду стрела провеса между столбами настолько увеличивалась, что при ветре провода схлестывались и давали замыкание на линии. В сильный мороз провода натягивались от сокращения и, лопаясь, давали на линии обрыв. Я чересчур возгордился новым управленческим фидером из алюминия и поплатился за это обмораживанием лица в одну студеную февральскую ночь, когда мороз достигал 48* Цельсия.
Дежурная по распределительному щиту электростанции, жена Морозова, доложила мне о коротком замыкании на фидере управления. Из управления уже несколько раз звонил дежурный по Отделению с требованием дать свет. Каждый раз при включении рубильника фидера на распредщите снова и снова горели предохранители. Предположение дежурной о замыкании на линии было совершенно правильным. Возможно я бы и уговорил ответственного дежурного по управлению обойтись керосиновой лампой до утра, но ночь была тревожная, в управление отделения «Пушсовхоз» с минуты на минуту могло нагрянуть высокое чекистское начальство из управления ББК, да еще с ордой следователей. В эту ночь загорелось и сгорело двухэтажное деревянное здание по соседству с Пушсовхозом на другой стороне Вой-губы. Губа по-местному назывался глубокий залив, которыми изрезано все северное побережье Онежского озера.
Здание служило базой пионерского лагеря для детей чекистов северных областей, а зимой служило домом увеселения с заключенными женщинами высшего чекистского начальства управления ББК. Пожар заметили из Пушсовхоза, когда пламя выбилось из-под крыши. Съехавшиеся пожарные команды Пушсовхоза, Повенецкого отделения и даже центральная с Медвежьей горы не смогли потушить пожар. Вода в шлангах замерзала, не доходя до брандспойтов на таком морозе. Коменданта Вой-губы заключенного-бытовика Жабоноса, имевшего трехлетний срок заключения, вытащили из огня в одном белье, также, как его лагерную супружницу заключенную уголовницу. Зимой в Вой-губе только эти двое и находились постоянно. В своих развратных похождениях чекисты хотели иметь как можно меньше свидетелей. Следствием была установлена причина пожара заключавшаяся в перекале дымоходов. Мороз был большой, Жабонос натопил печи пожарче, чтобы было теплее спать. Жабонос отделался довольно легко, получив лишь 3 года дополнительного срока. Будь на его месте политзаключенный, последнему приписали бы диверсионный акт – поджог, и он был бы, безусловно, расстрелян. Однако начальство, лишившись по вине Жабоноса увеселительного заведения, так обозлилось на бывшего коменданта, что помимо данного ему «довеска» загнало его еще и на штрафной лагпункт на лесоповал.
В такой обстановке, если бы Жабоноса притащили для первого допроса в управление «Пушсовхоза» и там не оказалось бы электрического освещения, мне легко приписали бы, как заведующему электростанцией, политзаключенному, диверсионный акт, умышленный срыв электроснабжения в момент пожара, со всеми вытекающими для меня из этого обвинения последствиями, вплоть до расстрела. Надо было спешить с ликвидацией аварии.
Жалея южанина Гюль-Ахмеда, который плохо переносил самые незначительные морозы, я сам пошел на поиски места аварии. Тщательный осмотр внутренней электросети здания управления с повторным включением фидера на распредщите электростанции убедили меня в неисправности линии передачи. Пришлось вытащить на мороз и Гюль-Ахмеда, с которым мы пошли по трассе, подсвечивая провода, всматриваясь в них снизу. Проводов с земли почти не было видно, а на земле нигде не валялся оборвавшийся провод. Так мы прошли всю трассу и ничего не обнаружили. Немного обогревшись, мы снова пошли, залезая по очереди на каждый столб и просматривая линию сверху со столбов вдоль нее. Тонкой, едва видимой, ниткой провод проецировался на снежном покрове, но зато мороз на верхушке столба ощущался острее. Если внизу не было никакого ветра, то наверху ощущалась тяга, и воздух буквально резал лицо. Поднявшись на четвертый или пятый столб, я увидел чуть заметную какую-то тонкую паутинку перекрывающую два уходящих от меня параллельно в темноту провода. Я долго не мог рассмотреть что это такое и слез со столба из-за боли в лице. Подсветив провода снизу в подозрительном месте пролета, мы оба увидели проволоку перекинутую между проводами. Я отправил Гюль-Ахмеда на электростанцию включить фидер и вскоре на подозреваемом месте блеснула искра. Сомнений не было – повреждение было найдено. Но только когда я влез на столб, откусил провод и он упал на землю, мы поняли что произошло.
Алюминиевый провод был свит из нескольких проволок. От сжатия на таком большом морозе одна из проволок лопнула, не выдержав тяги на разрыв. Она легла на другой провод и замкнула собой оба полюса линии. Если бы лопнули все проволоки, концы упали бы на землю и не было бы никакого замыкания и повреждение было бы найдено вмиг, когда бы мы наткнулись на провода лежащие на земле.
Провод пришлось нарастить куском проволоки, мне снова забраться на столб, прикрепить провод к изолятору и соединить с линией. Сделать все мы успели до возвращения начальства с пожара и никто из них даже не обратил внимания на освещенность управления, никто из них так и не узнал каким трудом двух заключенных было восстановлено нормальное освещение. Впрочем и лучше, когда начальство не обращает внимание, по крайней мере безопаснее.
Когда мы с Гюль-Ахмедом вернулись на электростанцию, дежурный машинист, посмотрев на меня, схватил за плечо и с возгласом: «Скорее, снегом оттирать надо», - потащил меня во двор. Оказалось, что щеки и нос у меня были совершенно белые. Процедура оттирания лица снегом была мучительна, но машинист спас мне щеки и верхнюю часть носа. Кончик носа спасти от обмораживания не удалось. Затем он у меня распух и остался чувствительным к малейшему морозу.
И еще мне помнится одно тяжелое устранение аварии в электросети поздно вечером в осеннюю дождливую погоду, когда буквально ощупью пришлось искать повреждение, а намокшие столбы, отсыревшие изоляторы превратились в токопроводящие материалы, от прикосновения к которым так и било током, потому что резиновых изолирующих монтерских перчаток в концлагерях не было.
Дежурным по ОЛП «Пушсовхоз» в этот вечер был телеграфист коммутатора, который по телефону сообщил мне об отсутствии света на скотном дворе. Гюль-Ахмед пошел, долго возился, но причину аварии обнаружить не смог. Я позвонил телефонисту, и мы с ним договорились оставить исправление повреждения до утра. Он сам лазил по столбам и великолепно представлял какой это труд в дождливую погоду. Однако в наш разговор по телефону вмешался начальник ОЛП Дич, который тогда еще был начальником ОЛП. Я понял, что он подслушивал наши переговоры сидя у себя в кабинете, как это он делал не только со мной, проявляя чекистскую бдительность. Он приказал мне немедленно дать свет на скотный двор и об исполнении доложить. Пришлось идти мне самому, влезть на столб где располагался воздушный предохранитель на участок скотного двора. Сколько раз меня било током, когда в темноте я одновременно прикасался к проводам под напряжением и к мокрым от дождя предметам, и каждый раз только чудом удерживался на когтях на столбе. Восстановив сгоревший при схлестывании проводов на ветру воздушный предохранитель, я восстановил освещение на скотном дворе. Отсюда же по телефону я доложил Дичу об исправлении повреждения. Он мне не поверил и велел подозвать к телефону дежурного скотника, который и подтвердил мое сообщение.
Замкнувший линию в этот вечер пролет не был нами перетянут по той причине, что в разгар ремонтных работ, в частности на фидере скотных дворов, Дич сорвал меня на другую работу, когда только этот пролет и осталось нам доделать. После окончания работ по заданию Дича, из-за одного пролета, мы уже не вернулись на этот участок сети, а занялись другими фидерами.
Дич хотел выслужиться перед начальством на Медвежьей горе и сам напросился на оборудование пионерлагеря на Вой-губе, которая в то время ни административно, ни территориально не была объединена с Пушсовхозом. Вызвав меня, Дич приказал за два дня электрифицировать палаточный городок пионерлагеря. Такая спешка, как выяснилось впоследствии была ни к чему, но ведь все делалось «досрочно», показуха в ущерб качеству захлестывала начальство. Приказ Дича был строг, срок очень жесткий и мне пришлось для его исполнения снять весь персонал электростанции с ремонта локомобиля и электросети. Работая по 18 часов в сутки (благо были белые ночи) за двое суток все было сделано. В первый день машинисты и кочегары вырыли ямы и установили столбы вдоль аллей палаточного городка. В это время с Гюль-Ахмедом и вторым электромонтером, еще учеником из уголовников-малолеток, я делал внутреннюю электропроводку в палатках. На второй день я был вынужден переключить и машинистов и кочегаров на электромонтерскую работу, чтоб как-нибудь поспеть в срок. Это была моя непростительная ошибка, работая сам электромонтером, я не мог уследить за всеми и когда через несколько дней на приемку приехала комиссия разразился скандал.
Главный механик ББК, мой покровитель Боролин и политзаключенный инженер-электрик Быков, которого я совсем не знал, отказались принять электропроводку в палатках пионерлагеря, найдя ряд нарушений электротехнических норм. Они приехали в Пушсовхоз и поставили об этом в известность Дича. Я был немедленно вызван в кабинет к Дичу, который набросился на меня, впрочем, не обвиняя меня во вредительстве. Боролин выручил меня, быстро осадив Дича. Мнение Боролина сводилось к тому, что я физически не мог выполнить такой объем работ, не имея в Пушсовхозе ни одного квалифицированного электромонтера, а потому и нельзя было поручать мне эту работу. Дич сразу осекся, подобострастно завилял перед Боролиным, опасаясь авторитета в управлении ББК, и примирительно сказал, что на ошибках учатся и что он очень сожалеет в просчете возможностей Пушсовхоза. Боролин пообещал (и на другой день исполнил) переоборудовать электропроводку пионерлагеря силами специальной электромонтажной бригады, которая будет прислана с Медвежьей горы. На этом инцидент закончился, с пионерлагерем меня никто не тревожил и к Вой-губе я никакого отношения не имел, занявшись снова капитальным ремонтом локомобиля и электросети Пушсовхоза.
Результаты капитального ремонта электростанции всего лучше сказались на работе локомобиля, проработавшего все время моего дальнейшего пребывания в Пушсовхозе без единой аварии, притом частенько с перезагрузкой и давая еще экономию топлива. Экономичность локомобиля и способность работать с перегрузкой были прямыми следствиями полного удаления при ремонте накипи с внутренних стен котла и наружных стенок дымогарных труб, а также наложенной в совершенстве теплоизоляции. Немалую роль в экономии топлива сыграла топка новой конструкции по типу шахтной, где топливо, подвигаясь к месту горения под котлом, просушивалось жаром топки, тем самым приобретая более высокую калорийность.
Однако избавление от годами осевшей накипи, заполнявшей все микропоры в швах концов труб со стенками котла представляло собою серьезное препятствие к сдаче котла локомобиля котлонадзору после капитального ремонта. По положению о паровых котлах за техническим состоянием их наблюдает государственный инспектор по котельному надзору, а при производстве капитального ремонта пуск котла в эксплуатацию запрещен без приемки котла котлонадзором. После капитального ремонта котел в холодном состоянии (т.е. при наиболее тяжелом условии герметичности швов стен котла с дымогарными трубами) подвергается испытанию на двойное рабочее давление, путем заполнения котла водой под давлением.
Как только последняя дымогарная труба была развальцована в стенке котла, я получил от Пушсовхоза отношение в Механические мастерские Повенецкого отделения ББК с просьбой предоставить на время испытания котла гидравлический пресс. Получив командировку без конвоя в Повенец, мы с механиком на другой же день выехали туда, одновременно возвратив ранее взятую из мастерских развальцовку. Пресс нам выдали, мы его установили и заполнили котел водой. Я уже хотел идти в управление Пушсовхоза просить себе на завтра командировку, чтоб съездить в управление ББК и договориться с инспектором котлонадзора о дне приемки локомобиля, как механик остановил мой пыл своим мудрым советом. Я был очень благодарен этому умудренному опытом и нелегкой жизнью механику, обладавшему в полной мере русской смекалкой, восполнявшей пробел в его теоретических знаниях паровых машин. Он мне рассказал, что нам сдать котел без хитрости не удастся, так как после ремонта, как бы тщательно ни были бы развальцованы концы труб, в холодном состоянии, да еще при двойном рабочем давлении, вода всегда найдет себе ход, получится течь и котел будет забракован котлонадзором. А чтобы этого избежать всегда перед сдачей котел … кипятят. Тогда невидимая для глаза накипь заполнит все микропоры в швах и котел не даст течи. Так мы и сделали. Механик велел кочегару развести огонь в топке, вода в котле несколько часов кипела, затем топку прекратили, остатки топлива и золу выгребли, чтобы скрыть следы, котел остыл, добавили воды, сами опресовали и получили нужный результат. «Вот теперь поезжайте!», - сказал мне механик.
Вечером я доложил Дичу об окончании капитального ремонта локомобиля и попросил командировку в управление ББК, чтобы лично договориться с инспектором по котлонадзору. Дич поморщился, выразил сомнение в необходимости сдачи локомобиля котлонадзору. Я сослался на правила эксплуатации котлов настолько убежденным тоном, что Дич поверил мне на слово и приказал мне выписать командировку без конвоя. На следующий день рано утром я вышел на тракт Повенец-Медвежья гора, поднял руку при приближении рейсового автобуса «Карелавто». Автобус подобрал меня.
Стоимость проезда на автобусах «Карелавто» и автобусах ББК была одинакова – 5 рублей и билеты командировочным оплачивались концлагерем независимо от того на автобусе какой «фирмы» ездил заключенный. Обе фирмы поддерживали сообщение между Медвежьей горой и Повенцом, чередуя свои рейсы по времени. Поэтому и в тех и в других автобусах совместно ездили и вольные люди и заключенные. И на этот раз, ко впрочем и во время других моих поездках на Медвежью гору было трудно разобраться кто вольный, кто заключенный. Но об этих поездках я еще подробно расскажу также как и о приключении случившимся с автобусом «Карелавто», на котором я ехал в это утро и из-за которого, приключения, я чуть не прозевал инспектора котлонадзора.
Инспектор был довольно суховат при встрече со мной. Политзаключенный инженер имел утомленный и задерганный вид, что меня несколько удивило, так как в ББК не так уж много было котлов. Застал я его вовремя, так как он, не снимая пальто, собирался ближайшим автобусным рейсом ехать в Повенец. Выслушал он мою просьбу довольно неприветливо, но затем переменил свое решение и согласился вместо Повенца ехать тем же автобусом со мной вместе в Пушсовхоз принять локомобиль. Я обрадовался своей удаче, хотя было несколько грустно уезжать с Медвежьей горы, не повидавшись ни с кем из своих друзей и знакомых.
По дороге в автобусе мы с ним разговорились, и инспектор оказался милым интеллигентным человеком. Из разговора выяснился объем его работы, настолько огромный, что я больше не удивлялся его задерганности и усталости от вечных поездок, да еще в его возрасте – ему было за пятьдесят. Дело в том, что ОГПУ своего политзаключенного эксплуатировала до предела, наживая на его должности и знаниях немало доходов. ББК ОГПУ заключил договоры на обслуживание котлонадзором паровых установок всех организаций на территории Карелии. Инспектору по котлонадзору ББК, несмотря на то, что он был политзаключенный, было выдано удостоверение инспектора по котлонадзору Карельской республики, что обязывало его принимать и инспектировать паросиловое хозяйство на всей территории Карелии. Ездил он по вызовам без конвоя, останавливался, как вольный в гостиницах, но эта постоянная езда, конечно, выматывала его, как и громадная ответственность. Кроме того на всяких лагпунктах ББК и лесопунктах «Кареллеса» ночлег в бараках не способствовал нормальному сну и отдыху.
Из автобуса мы вышли на ответвление дороги на Пушсовхоз, прошли кратчайшим путем через лес прямо на электростанцию, как выяснилось потом, прошли незамеченными никем из охраны ОЛП. Поскольку все было подготовлено, чему очень обрадовался инспектор, вся процедура приемки котла локомобиля заняла не более 15 минут. Котел выдержал опресовку на 12 атмосфер (рабочее давление котла 6 атмосфер), инспектор запломбировал предохранительный клапан, установив давление в 6 атмосфер, и написал акт приемки. На мое предложение выпить чаю в столовой (я был уверен, что немка, заведующая столовой мне не откажет) инспектор поблагодарил меня, но отказался и попросил как можно скорее доставить его в Повенец.
Было всего около 11 часов утра. У меня была очень слабая надежда в такой ранний для Дича, ночного работника, час застать его уже в своем кабинете, чтобы попросить лошадь отвезти инспектора в Повенец. К моему несказанному удивлению Дич был уже у себя, окруженный всеми начальниками частей управления ОЛП. Шло какое-то совещание. Присутствовали и Дробатковский и Туомайнен, обычно никогда не снисходивший участвовать в совещаниях созываемых Дичем. Окрыленный удачей – благополучной приемки локомобиля инспектором, я отбросил всякую субординацию, прервал докладчика, обратившись к Дичу с просьбой дать мне лошадь. Дич обрушился на меня: «Вы еще здесь, я же приказал Вам утром выехать за инспектором на Медвежью гору»! Дич вообразил что я прошу лошадь еще только ехать на Медвежью гору за инспектором. Не будь я политзаключенным в концлагере ОГПУ, я со всей правотой мог бы указать Дичу, что с работой на электростанции я ложусь спать не раньше его самого, а потому отчего же я не имею права начинать рабочий день с 11-12 часов утра, как он. Но это и в голову мне не могло прийти и я, прервав Дича, рассказал о сдаче локомобиля инспектору по котлонадзору и необходимости отвезти его на лошади в Повенец. Гнев Дича немедленно прошел, он даже широко осклабился, отчего еще резче выступили продольные морщины у носа и рта, а нос стал еще более еврейским. Торжествующе, обведя глазами всех присутствующих, Дич сказал: «Смотрите какой у меня молодец молодой инженер, назвал меня уменьшительным именем, уже сдал локомобиль»! Дич, хваля меня, явно всем говорил: «Это я такого привез»! Все окружение Дича подобострастно поддержало восторг начальника, обернувшись ко мне с улыбками. Дробатковский, единственно всецело понимавший значение для Пушсовхоза ввода в эксплуатацию капитально-отремонтированного локомобиля электростанции, снял телефонную трубку и, вызвав конный парк, распорядился подать мне свою выездную лошадь запряженную в бегунцы, на которых он объезжал поля.
Едва я успел дойти до электростанции, как конюх уже подъехал на бегунцах, передав мне вожжи. Инспектор сел со мной и я быстро доставил его в Повенец в Механические мастерские Повенецкого отделения, куда ему и было нужно.
Обратно мне пришлось ехать не одному. В Повенце я встретил заведующего радиотрансляционным узлом Пушсовхоза заключенного Жукова, которого я сменил на должности заведующего электростанцией. Отношения у меня с ним были дружественные, несмотря на мало точек соприкосновения во всех областях натур наших. Человек он был не вредный, иногда даже оказывал мне помощь, как электрик, несмотря на то, что был крайне ленив. Жуков был коммунист, летчик. После аварии на самолете стал страдать эпилепсией и был переведен аэродромным электриком. Жуков был страшный пьяница, пропил какое-то доверенное ему имущество и по суду был заключен в концлагерь сроком на 5 лет. Пьянствовал он и в концлагере. Однажды, напившись, Жуков уснул во время трансляции радиопередач московской радиостанции «Коминтерн» и проспал 11 часов вечера, когда эта станция в те годы заканчивала передачи для СССР и на той же волне начинала передачу для Германии на немецком языке. Из репродукторов в бараках, в управлении ОЛП, в казарме ВОХР, на квартире Дича и Марка понеслась немецкая речь. Начальство взбесилось, не зная немецкого языка и вообразив, что Жуков транслирует какую-то немецкую фашистскую радиостанцию разносящую антикоммунистическую агитацию. Первым на радиотрансляционную станцию примчался начальник ОЛП Дич, за ним, еле поспевая, начальник 3-й части ОЛП Марк и начальник культурно-воспитательной части заключенный Крупняк. Прибежал командир взвода ВОХР. Мертвецки пьяный Жуков не просыпался, не слыша как к нему ломится начальство. А репродукторы сыпали и сыпали немецкую речь. Марк метнулся на электростанцию и приказал мне выключить фидер радиотрансляционного узла, чтоб обесточить приемник и трансляционный усилитель и, таким образом «заткнуть фашистскую глотку». Я выключил фидер, а немецкая речь неслась и неслась вследствие того обстоятельства, что питание радиоаппаратуры осуществлялось не от электросети, а от аккумуляторов. Единственным результатом отключения радиоузла явились бесконечные телефонные звонки на электростанцию моих абонентов, питавшихся от этого фидера – конный парк, скотные дворы, свинарник – посаженных распоряжением Марка в темноту.
По тревоге подняли ВОХР, солдаты которого штурмом взяли радиотрансляционный узел, выбив прикладами винтовок дверь и схватили ничего не понимавшего и совершенно обессилившего Жукова. Дич на него орал, чтобы он выключил радиоприемник, Жуков ничего не мог делать и бессильно валился на топчан. Дич разбил приемник – в Пушсвохозе водворилась тишина, а Жукова унесли мертвым телом и заперли в карцер. Примерно только через час мольбы моих отключенных абонентов дошли до перепуганного насмерть начальства и Дич мне позвонил, чтобы я включил злосчастный фидер.
На другой день, когда Жуков проспался, в кабинете Дича пьяницу долго отчитывал Пушсовхозный трижидиум – Дич, Марк, Крупняк – грозя Жукову пришить ему 58-ю статью. Но кончилось все для Жукова 10-ю сутками карцера, так как он не был политзаключенным, а «своим в доску» - коммунистом и заключенным-бытовиком. Да и эти 10 суток Жуков не отсидел. Через день само начальство соскучилось без радиопередач. Я отказался, сославшись на полную мою неосведомленность в радиоаппаратуре (это была совершенная правда), отремонтировать радиооборудование. Пришлось Жукова выпустить из карцера, он исправил повреждения нанесенные Дичем радиоприемнику и в тот же вечер радиотрансляция заработала. Вести ее кроме Жукова тоже было некому, поэтому и отсидка его в карцере прошла лишь на бумаге.
Жуков был комбинатор. Имея довольно частое хождение по командировке в Повенец под предлогом получения радиоламп и радиодеталей, Жуков разнюхал большую нужду испытываемую Леспромхозами треста «Кареллес» в аккумуляторах для связи по радио с лесозаготовительными пунктами. Несмотря на досрочное выполнение первой пятилетки и перевыполнения планов индустриализации некоторыми отраслями промышленности, а также успешного выполнения плана второй пятилетки и даже окончания строительства фундамента социализма, как широко вещала большевицкая пропаганда, резким контрастом к ней, была неприглядная действительность. В стране в 1935-36-х годах, как и в начале индустриализации катастрофически не хватало всех промышленных изделий, не говоря уже о продовольственных. К тому же такие предприятия, как «Кареллес» были на положении пасынков при удовлетворении их заявок на технические изделия; в особенности при сравнении с такими привилегированными, как концлагеря ОГПУ-НКВД, по материальному снабжению «Кареллес» влачил нищенское существование. За исправленный аккумулятор Жуков получал баснословные деньги наличными.
Однако, продав «Кареллесу» все запасные аккумуляторы с радиотрансляционного узла Пушсовхоза, Жуков стал перед дилеммой: на что пьянствовать дальше? И он нашел выход. Севшие аккумуляторы из-за пришедших в негодность одной-двух пластин, Жуков предъявлял к списанию, как негодные, начальнику КВЧ заключенному Крупняку. Последний, либо по невежеству, либо за мзду, участвуя в будущих прибылях, охотно списывал такие аккумуляторы, оставляя их в распоряжении Жукова, чем последний и пользовался. Из двух или трех разобранных на пластины аккумуляторов, Жуков, отбирая годные еще пластины собирал один, два аккумулятора, дававшие нормальное напряжение, хотя, может быть и не имевшие достаточной емкости в ампер-часах, как новые. Для сборки этих аккумуляторов Жукову понадобился я, так как паять по свинцу он не умел.
Из моей практики и до и после этого, я замечал, что очень многие металлисты не владели этим искусством, в особенности те, которым по профилю их специальности приходилось много паять и они привыкли к высокой температуре паяльника необходимой для пайки третником и твердыми сплавами. А свинец, как легкоплавкий металл, требует минимального разогрева паяльника. В противном случае свинец растекается, а не спаивается и шва не получается. При ремонте кораблей на их зимней стоянке на Соловках, мне пришлось иметь дело с электропроводкой на кораблях, которая выполняется исключительно освинцованными кабелями. На ремонте этой электропроводки я и получил вполне искусство пайки свинца.
Жуков, пытаясь спаять пластины аккумулятора при их сборке, портил одну драгоценную пластину за другой и обратился ко мне. Я спаял ему пластины одного аккумулятора, затем другого и он стал мне таскать для пайки собираемые им аккумуляторы. Поверх пластин Жуков их тщательно заливал варом, ящики красил и продукция выглядела как новая. Торговля Жукова пошла полным ходом. Зная, что я в рот спиртного не брал, Жуков со мной за работу расплачивался деньгами и довольно щедро. На остальные вырученные за аккумуляторы деньги он в Повенце покупал водку и все пропивал.
Встреча с Жуковым в Повенце не представляла собой чего-то особенного, но просьба с которой он ко мне обратился меня явно не устраивала. Он просил меня подвезти его на лошади в Пушсовхоз, а я был уверен в имеющемся у него при себе запасе спиртных напитков, для провоза которых он хотел использовать меня как ширму, считая, совершенно правильно, что поскольку я никогда не был замечен в употреблении спиртного, то в случае встречи с патрулем нас не обыщут. Надо отметить, что при всех наших командировках с механиком в Повенец, когда мы возили детали локомобиля на обработку в мастерские Повенецкого отделения или брали там же, а потом отвозили, всякий инструмент, мы ни разу не встречали патруля на дороге между Пушсовхозом и Повенцом. Нас и в одиночку никто не останавливал на лошади или пешком, когда мы по командировкам бывали в Повенце. Одним словом у нас никто в пути никогда не проверял документов. О проверке документов на автобусах я расскажу дальше, как я ездил в командировки на Медвежью гору.
Отказать Жукову подвести его из Повенца в Пушсовхоз мне было неудобно, пришлось согласиться. Жуков немедленно засунул в сенной мешок, служивший сидением на бегунцах, продолговатый сверток, размерами с бутыль, ёмкостью в четверть ведра и я вполне убедился в наличии у него контрабанды – спиртного напитка. Лошадка домой бежала резво, Жуков был в прекрасном настроении, от выгодной продажи реставрированного аккумулятора, а может быть и не одного, у меня была смесь радости от сдачи локомобиля котлонадзору с опасением от провоза опасной контрабанды Жукова.
Меньше чем в километре от Пушсовхоза внезапно из кустов вынырнул патруль из двух солдат ВОХРа и остановил нас. Мы оба с Жуковым спрыгнули с бегунцов по обе стороны их, я не выпуская из рук вожжей. Документов они у нас не спрашивали, очевидно зная нас в лицо, в том числе и главное Жукова, за которым и охотились. Один солдат, больше для формальности общупал меня как бы с целью обнаружить во внутренних карманах чего-нибудь недозволенного, вроде бутылок с водкой. Другой стал рыться в нашем сидении. Я замер, ожидая обнаруживания злосчастного свертка и чувствуя, как во мне закипает злоба против пьяницы Жукова, из-за которого я мог пострадать. Дич прекрасно знал, что я не пью и ни за что не поверил бы, что я занялся провозом водки в концлагерь, но мог для издевательства над политзаключенным и меня вместе с Жуковым посадить в карцер. Обыскав меня, солдат принялся за Жукова, стоявшего на вытяжку, с поднятыми руками, как бы приготовившись к обыску. Я взглянул на Жукова и обмер. Тот самый сверток, который я с ужасом ожидал вот-вот обнаружит в нашем сиденье второй солдат, Жуков держал в руках высоко над головой вне поля зрения обыскивающего его солдата, внимание которого было всецело поглощено туловищем Жукова, общупываемое с такой тщательностью, что немыслимо было бы не обнаружить даже четверть литра. Обыск кончился. Солдат коротко бросил: «Езжайте». Мы сели и поехали. Я был поражен находчивостью Жукова, обернулся и посмотрел на него. Он сидел совершенно спокойно, как будто ничего и не произошло, слегка придерживая сверток, угадывающийся снова в сене сидения.
Капитальный ремонт локомобиля все же не избавил меня от постоянной борьбы с увеличением нагрузки электростанции. В переводе на киловатты локомобиль без перегрузки мог бы тянуть около 28 киловатт, но мощность обеих динамо-машин составляла лишь 24 киловатта, чем лимитировалось дальнейшие присоединение новых абонентов к электросети и увеличение мощности существующих точек. А таких поползновений было много, то требовалась кому-либо электролампочка бо́льшей мощности, то добавление электроточек. С мелкими сошками справляться было легко, но когда приехал новый начальник 3-й части, да еще с семьей, и занял три комнаты в двухэтажном не электрифицированном доме, мне пришлось туго. Он потребовал электрического освещения в своей квартире – я наотрез ему отказал. Тогда последовал письменный приказ начальника отделения, которому пришлось подчиниться и поставить на квартире начальника 3-й части четыре осветительные точки. Спустя некоторое время меня встретил на улице начальник 3-й части и с насмешкой сказал: «Ну что Ваша электростанция не лопнула же от освещения моей квартиры?!» «Если бы я так не сопротивлялся установке каждой новой электролампочки в Пушсовхозе, давно бы не хватило мощности электростанции и все пользовались бы электролампочками в полнакала», - отпарировал я ему. Начальник оказался до некоторой степени умным и в ответ сказал, что моя твердость в экономии электроэнергии заслуживает одобрения.
И еще раз мне пришлось пойти на увеличение нагрузки электростанции, на этот раз без приказа, по просьбе заведующего Пушным хозяйством вольнонаемного Туомайнена, ввиду действительной необходимости, хотя бы частично, спасти от рахита черно-бурых лисят, распространенного у них в неволе. Поскольку шкуры черно-бурых лисиц являлись источником иностранной валюты, Туомайнену удалось получить импортную немецкую кварцевую лампу для облучения ультрафиолетовым светом лисят и даваемого им корма – смеси молока с морковью, что способствовало уменьшению развития у лисят рахита.
Я впервые в жизни видел кварцевую лампу, совершенно не знал ее устройство. Но к лампе была приложена настолько ясная инструкция с описанием горелки, правда на немецком языке, настолько хорошо цветами были обозначены на самом агрегате все электрические соединения, что с задачей установки и правильным соединением кварцлампы с электросетью я справился хорошо и горелка заработала. Немного пришлось заглянуть при чтении инструкции в немецко-русский технический словарь, который оказался в библиотеке Пушсовхоза. Я имел очень смутные представления о целебных свойствах ультрафиолетового излучения и в глубине души не верил в необходимость установки кварцевой лампы. Однако развитие весеннего приплода черно-бурых лисиц, прошедшее в 1936 году, после установки кварцлампы, по свидетельству Туомайнена и его помощника политзаключенного Кима, значительно улучшилось по сравнению с предыдущими годами, дав рекордный процент нормального молодняка, сведя до минимума его заболеваемость и падеж.
Наблюдение за работой кварцевой лампы как-то приблизило меня к Пушному хозяйству, от которого мои обязанности и отсутствие знакомых звероводов, держали меня до этого вдалеке. Насколько я вертелся в гуще событий совхоза, насколько был близок к Дробатковскому, в особенности когда был старшим механиком совхоза, настолько в Пушхоз я никогда не заглядывал. Постепенно я стал вхож в этот коллектив так же, как и на Зональную станцию, хотя по душе он мне менее пришелся из-за более низкого культурного уровня ветеринарных врачей и звероводов по сравнению с учеными мужами Зональной станции. По мере привыкания ко мне, сотрудники Пушхоза во главе с Туомайненом и Кимом все больше посвящали меня в свои производственные процессы, водили по вольерам.
Для меня раскрылся их повседневный нелегкий труд, содержание которого я и не предполагал ранее. Наиболее ответственным для них был период окота лисиц, проходившим в конце февраля–марте месяце. Весь персонал в эти дни на протяжении нескольких недель не имел ни малейшего отдыха, буквально валясь с ног без сна. Наблюдение за процессом родов у каждой самки было поставлено великолепно. В каждой будке на половине самки был вставлен микрофон. Провода от всех будок по секторам сходились на коммутаторы на наблюдательные вышки, где круглосуточно дежурили звероводы с наушниками на голове. Кроме визуального наблюдения за вольерами с вышки своего сектора звероводы беспрестанно двигали ползунок коммутатора соединяя наушники с каждой будкой на несколько секунд, чтобы послушать издаваемой лисой при родах писк, по тону и громкости которого определялась потребность ветеринарного вмешательства для спасения матери и приплода. В такой обстановке и не дежурившие сотрудники, если и спали, то не раздеваясь, чтобы бежать оказывать помощь роженице, когда были дороги секунды, чтобы не потерять зверя безвозвратно. Зверь ведь был золотой, давая своей шкурой валюту государству, и за такую убыль расправа с персоналом была бы неминуема.
Черно-бурые лисицы строго придерживаются моногамии, что очень удорожает себестоимость приплода, так как на каждую самку приходится содержать самца, отчего продуктивность поголовья как бы вдвое уменьшается. Каждая самка приносит приплод один раз в год, весной, редко трех, в большей части по два лисенка. Чтобы лисенок вырос до размеров лисицы и имел ценный мех необходимо более года. Обычно забой лисиц для получения экспортных шкурок производят в апреле месяце.
Каждой паре черно-бурых лисиц в Пушсовхозе был отведен вольер около 4-х квадратных метров, в котором стояла будка для их жилья, состоящая из трех сообщающихся между собой отделений: для самки, для самца и между ними общая, где стояла кормушка. Выходы в вольер были из каждого отделения, чтобы в период вынашивания приплода выпускать на прогулку самца и самку раздельно во избежание нападений самки на самца. От звероводов также требовалось большое искусство вовремя перекрыть двери лисьих комнат, чтобы разделить супругов до первой драки, во время которой самка могла нанести серьезные увечья самцу. На меня лисицы произвели впечатление диких и злых животных. Проходя по аллеям между вольерами, мы привлекали их внимание. Одни скрывались тотчас же в своих будках, другие, злобно оскалясь, бросались на сетку. К кормившим и ухаживавшим за ними звероводам лисицы так и не приручились за все годы. Тоска по свободе, пожалуй, была главной эмоцией черно-бурых лисиц и стремление к свободе было причиной некоторых их удачных побегов. Им удавалось подрывать ходы под глубоко уходящий в землю забор, которым был огорожен весь участок с вольерами. Поимка бежавших лисиц была делом безнадежным в обширных карельских лесах, хотя поиски продолжались долго и тщательно под страхом ответственности за убыток в валюте, но ни одна лиса не была возвращена.
Приходилось мне заниматься и ремонтом и переоборудованием внутренних электросетей зданий. Как-то начальнику 3-й части вольнонаемному чекисту Марку показалось тесно в занимаемых его аппаратом двух комнатах в здании управления ОЛП и он перевел 3-ю часть в дом ВОХРа на более обширную площадь. Потребовалась установка светильников над столами, штепсельных розеток для настольных ламп. На самостоятельную работу, в особенности на внутренней электропроводке, мой Гюль-Ахмед не годился. Он не признавал никакой симметрии, никаких прямых углов, никакой параллельности линиям стен и потолка, прокладывая шнур и провода вкривь и вкось, как ему казалось удобнее. Мне приходилось после него переделывать и я так ничему и не мог его научить. Поэтому в 3-ю часть я пошел сам делать проводку, взяв с собой в качестве подсобника электромонтера из учеников малолетку-уголовника зачисленного в штат электростанции. Эта работа мне запомнилась по одной тайне невольно мною подслушанной в этом секретнейшем из секретных учреждений.
Марк или не знал о моем присутствии или понадеялся на звуконепроницаемость стены, но мне совершенно отчетливо было слышно, как он весьма растягивая фразы в соседней комнате нудно развивал свою мысль перед командиром взвода ВОХР, вольнонаемном командире войск ОГПУ, о необходимости бдительности в отношении классового врага, который мог пробраться в ряды ВОХРа и которого следовало разоблачить. Тогда была получена такая директива сверху, не то сам Марк придумал, от скуки, дело для своих подчиненных – проверку классового состава ВОХРа. «Сам понимаешь, - тянул Марк, (совершенно правильно излагая принципы формирования ВОХРа из заключенных уголовников и бытовиков), - совершил он преступление, получил срок, в лагере ведет себя хорошо, ни в чем не был замечен предосудительным, его и берут в ВОХР, доверяют ему оружие, а ты не знаешь кто он, может быть он и не рабочий и не крестьянин-бедняк, не социально-близкий нам, а какой-нибудь кулак или замаскировавшийся мелкий буржуй, который при случае повернет доверенное ему оружие против пролетарской диктатуры». Как правило нечестными людьми, становившимися заключенными уголовниками и бытовиками, были только «социально-близкие» (пролетариату) из неимущих классов. Так называемые классовые враги уголовных преступлений не совершали, а сидели по 58-й статье, что и гарантировало от попадания их в ВОХР. И чекисты были спокойны, формируя ВОХР из уголовников и бытовиков, считая что «классового врага» они изолировали. Но, очевидно, Марку или кому-нибудь повыше пришла мысль, что и уголовное преступление могут совершать представители разгромленных классов и они-то как уголовники и бытовики могли оказаться в ВОХРе, не заклейменные 58-й статьей. По-видимому комвзвод не лишен был здравого смысла, считая невероятным, чтобы, так называемый классовый враг, которому удалось замести следы своего происхождения, чтобы выжить, пойдет на какой-нибудь враждебный акт против власти, грозящий ему разоблачением. Комвзвод, очевидно, был совершенно не в восторге от предложения Марка и хмыкал очень неохотно что-то невразумительное. Комвзводу не хотелось обременять себя еще и сыскной работой по изобличению классового врага среди своих подчиненных, в результате которой он мог еще лишиться наиболее исправных своих солдат вдруг оказавшихся принадлежащими к врагам революции. Мне не удалось дослушать разговор и узнать к каким организационным выводам пришли собеседники, так как мне мешал разговорами тот самый бородатый следователь 3-й части из заключенных чекистов, который выражал повышены интерес к моей особе за ужином в первый вечер моего пребывания в Пушсовхозе. Однако через некоторое время два солдата ВОХРа были разжалованы, переведены на положение рядовых заключенных и отправлены на штрафной лагпункт в лесозаготовительное отделение концлагеря. Очевидно они оказались классово чуждым элементом в результате проведенной проверки их подноготной.
И не только по открывшейся мне тайне эта работа по электропроводке запомнилась мне, но и по началу завязывания со мной знакомства бородатым следователем, цель которого для меня сначала была не ясна. Его слащавая речь, восхваление моих технических знаний и педагогического таланта в этом первом продолжительном разговоре (вернее говорил он, а я работал, отделываясь краткими фразами) заставляли задуматься об истинных намерениях его заискивания передо мной. В дальнейшем он не вызывал меня в 3-ю часть, не ходил на электростанцию, отлично зная скрытую отрицательную реакцию каждого производственника и подавляющего большинства заключенных на посещение производственных объектов чинами 3-й части. Но следователь все больше стремился завязывать со мной знакомство при встречах в коридоре управления ОЛП, на территории совхоза, стал часто провожать меня из столовой, поспешно заканчивая еду, если я собирался уходить. В его разговорах не чувствовалось никаких провокационных вопросов, он не касался политики, не спрашивал о других политзаключенных. Словом его навязчивость не была профессиональной для чекиста, дело было не в прощупывании меня с политической стороны, ни для заведения на меня нового дела, ни для привлечения меня в стукачи. При аресте Марченко, о чем я расскажу подробнее дальше, следователь не мог скрыть своего изумления продолжением моего пребывания в камере интернированных, у него вырвалось: «Как и Вы здесь помещаетесь»!? Я понадеялся, что после такого открытия следователь сам побоится дружить с таким отверженным политзаключенным, но после недели перерыва, в течение которого он очевидно взвешивал все за и против, его желание сблизиться со мной снова возобновилось.
«Что ему нужно от меня», - думал я, слушая его речи, и терялся в догадках. И вот при последующих разговорах следователь начал приоткрывать свои карты. Уже был новый начальник Пушсовхоза, был заменен Марк, ненадолго переживший Дича, наступила холодная сентябрьская погода с моросящими дождями и утренними заморозками. «Как Вы считаете, - заговорил со мной следователь, - правильно было бы политически обучить какой-нибудь специальности молодую заключенную преступницу, чтобы после освобождения она не пошла бы снова по уголовному пути»? Начало было отвлеченное, как бы вообще и я согласился с его мнением. На другой день следователь снова изловил меня и раскрыл свои карты: «Есть одна девушка, очень хорошая, просто попала по недоразумению по уголовному делу, мне кажется политически будет верно изъять ее из уголовной среды, отдать под Ваше влияние, чтобы она не вернулась к уголовной жизни». Вот, подумал я, почему следователь расточал мне комплименты в высокой моей нравственности. «Эту девушку, - продолжал следователь, - стоило бы направить к Вам на электростанцию ученицей, чтобы она получила специальность». Мне ясно стало почему я оказался «талантливым педагогом», как окрестил меня следователь при первом продолжительном разговоре со мной, когда я делал электропроводку в 3-й части. Впрочем он не так уж мне льстил. Уголовники-малолетки всегда просились ко мне на электростанцию в ученики, и начальство это объясняло моими учебными занятиями с ними, на которые я отводил часть рабочего времени. Таким образом им меньше часов в день приходилось трудиться, да и труд в теплом машинном зале, к тому же и легкий, был для них привлекательнее, чем скажем махать молотом в кузнице.
Заискивающая морда следователя с неизгладимыми отпечатками разврата и пьянства была мне противна, но по всему было видно, что стареющий ловелас по уши влюблен в неизвестную мне пока дульцинею и хочет устроить ей место в тепле и на легкий труд. Мне совершенно не улыбалась перспектива обучать еще одну уголовницу, которая и обокрасть могла, но ссориться со следователем 3-й части, не выполняя его страстного желания, я счел все же не выгодным для себя и с большой неохотой согласился на присылку уголовницы ученицей на электростанцию. «Дешево я еще отделался, - подумал я про себя, - вот что было нужно следователю от меня»! Напряжение как-то спало во мне. Я подумал, что на этом наше знакомство со следователем и закончиться.
Но не тут-то было. Через день следователь меня снова поймал, пригласил зайти к себе в кабинет и уже раздраженным тоном спросил почему я не дал в УРЧ заявку на его дульцинею и попросил записать меня ее фамилию, имя, отчество. Это было уже слишком: самому перед всеми просить персональной заявкой о переводе ко мне любовницы следователя 3-й части, а заинтересованный в этом чекист останется в тени! И все же, подумав, я дал согласие и не это.
Недели две я все же протянул под всякими предлогами, не зная сам, на что надеюсь. У меня просто не поднималась рука писать персональную заявку в УРЧ. А погода становилась все дождливее, холоднее и дульцинея следователя, работавшая на уборке корнеплодов, очевидно, все больше нажимала на своего любовника, и мне пришлось написать и отнести на нее заявку в УРЧ. Принявший от меня заявку помощник начальника УРЧ политзаключенный армянин был уже давно в курсе дела, на УРЧ делал нажим следователь уже давно, а работники УРЧ отнекивались, ссылаясь на отсутствие с моей стороны заявки на ее перевод. Армянин ухмыльнулся, сказал «будет сделано», а затем совершенно серьезно: «Имейте в виду у Вас могущественный соперник». Я даже покраснел от мысли, что обо мне подумал армянин, предупредив меня от чистого сердца.
Утром на следующий день на электростанцию явилась молодая, красивая, здоровенная цыганка. Я пожалел, что смалодушничал. «Теперь будет не электростанция, а цыганский табор, - подумал я, - еще неизвестно какие тут любовные интриги начнутся среди персонала – хлопот не оберешься». Вечером я еще более призадумался, когда посадил новую ученицу у распределительного щита и до начала с ней занятий по электротехнике, стал выяснять ее общеобразовательный уровень. Ученица оказалась неграмотной, ни писать, ни читать не умела.
Избавление электростанции от цыганки пришло неожиданно и скоро. Еще через день в трубке телефона я услышал сердитый голос начальника отделения «Повенецкий Пушсовхоз», как стал называться ОЛП «Пушхоз», а Дич был заменен вольнонаемным чекистом. Назвав меня по фамилии, начальник приказал немедленно явиться к нему. Я привык к вызовам начальства без предварительного пояснения причин вызова и с некоторой тревогой вызванной явным гневом начальника поспешил к нему. Лишенный внутреннего хамства, всегда спокойный и уравновешенный, наш новый начальник на этот раз оказался взбешенным и набросился на меня: «Вы на совещании у меня были»?! «Был», - ответил я, не понимая в чем провинился. «Вы слышали, что на полях не хватает рабочей силы, - продолжал возмущаться начальник, - что я приказал всем руководителям выделить физически крепких людей и послать на уборку урожая, а Вы что?! Вы вместо этого здоровенную девку с поля сняли, да к себе в тепло на электростанцию переманили»! Удивление последней его фразой так ярко отразилось на моем лице, что начальник осекся и сам уставился на меня удивленно. Тут только я понял причину бешенства всегда довольно добродушного начальника и я выпалил в ответ: «Николай Николаевич, так ведь на нее я дал вызов по распоряжению следователя 3-й части (и я назвал фамилию следователя), я думал, что 3-я часть нашла нужным прислать мне секретного сотрудника». Начальник даже подскочил на месте, еще более удивился, как-то смешался и, очевидно, взвесив достоверность моего ответа, любезно пригласил меня сесть. Начальник отделения снял телефонную трубку и вызвал к себе начальника 3-й части, вольнонаемного чекиста Потапова, сменившего Марка. Тот незамедлительно явился. Это был сухонький пожилой человек с тихим голосом и очень покладистым характером, прямая противоположность и по внешности и по внутреннему содержанию Марку.
Назвав начальника 3-й части по имени отчеству, Николай Николаевич указал на меня: «Вот послушай что товарищ (и он назвал мою фамилию) сейчас расскажет о твоем следователе». И начальник добавил фамилию следователя, по настоянию которого я дал заявку на цыганку. По-видимому, от неожиданного моего сообщения, от ощущения неловкости в связи с криком на меня, совершенно невиновного, начальник отделения совершенно забыл въевшийся в сознание и чекистам и заключенным параграф концлагерного устава запрещающий обоюдное обращение, заключенного к чекистскому начальству и наоборот, словом «товарищ». И когда у заключенного новичка вырывалось в обращении к начальнику «товарищ», принесенное им с воли и такое привычное для советских людей, взбешенный чекист в ответ орал: «В Брянском лесу тебе волк товарищ». Почему волк да еще из Брянского леса становился товарищем заключенному оставалось непонятным. Обращение ко мне «товарищ» со стороны чекиста я слышал только один раз за все время пребывания в концлагере и этот раз произошел в данном эпизоде.
По настоянию начальника я повторил сказанную ему фразу Потапову. «Вот какой у тебя аппарат, - злорадно обратился начальник отделения к Потапову, - что позволяет себе, гнать надо таких»! Потапов стоял, слушал и не возражал. Затем Потапов обратился ко мне: «Запомните, что 3-я часть никогда не вмешивается в производственную деятельность, никаких перемещений кадров не производит, так что действия (и он назвал фамилию следователя) не законны, а Вы не должны были ему подчиняться». «Да, - подумал я, - это возможно теоретически, а в действительности попробуй политзаключенный не подчиниться, сразу вылетишь на лесозаготовки и без «перемещения кадров». Начальнику отделения Потапов пообещал дать нагоняй следователю. Начальник снова позвонил по телефону, на этот раз в УРЧ, и приказал цыганку с электростанции снять и направить на полеводческие работы, после чего милостиво меня отпустил. На другой день цыганка у меня уже не появилась.
Следователю досталось от Потапова крепко. Он ходил с опущенными глазами и в разговоры со мной не вступал, а армянин из УРЧ в столовой за столом хитро подмигивал мне, поворотом головы указывая на следователя. Только через несколько дней следователь, столкнувшись со мной нос с носом, ответив на мое приветствие, буркнул: «Мы с Вами кажется сделали политическую ошибку». А в его глазах было столько искренней глубокой грусти, что мне стало даже жалко его.
Потапов добился перевода следователя. Он исчез из Пушсовхоза, а вместе с ним и оба оперативника «А» и «Б», холуи Марка и Дича. Состав 3-й части был полностью обновлен. Чекисты уходили и приходили, а отремонтированный локомобиль электростанции исправно вращал якоря динамо-машины, давая заключенным Пушсовхоза свет, хотя бы только электрический.
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Ветер перемен в Пушсовхозе задул осенью 1935 года после падения Дича. Об этом я расскажу подробно несколько дальше, а пока назначение меня заведующим электростанцией не принесло мне никаких перемен, в том числе и в моих жилищно-бытовых условиях и в получаемом мною питании в столовой, на которое нельзя было жаловаться. Я продолжал оставаться в камере для интернированных политзаключенных. Дич не перевел меня на жительство на электростанцию, где имелась комната для заведующего. После переезда Жукова на жительство на радиоузел, в комнате поселились паровозный машинист заключенный коммунист Вишневский и механик, кубанский казак, политзаключенный, переброшенный на электростанцию для ремонта локомобиля. А я продолжал на ночь являться в камеру интернированных и спать в ней на своем топчане. Когда я был старшим механиком совхоза я возвращался в камеру на ночь в одни часы с остальными однокамерниками, но став заведующим электростанцией, связанный с ее работой, главным образом в вечерние часы, я приходил на ночлег значительно позже. Первые месяцы заведывания электростанцией совпали со светлыми днями года и я предпочитал оставаться на электростанции до конца ее работы, до восхода солнца, особенно не надеясь на обученных мною дежурных у распределительного щита и на трактористов тракторов, приводивших в движение динамо-машины, когда локомобиль стал на ремонт. Продолжение моего содержаний в камере для интернированных становилось нелепым, потому что как раз темную часть суток я проводил по роду работы на электростанции, вне стен камеры, и являлся на ночлег в 1-2 часа ночи, когда становилось совсем светло и спал в камере уже светлую часть суток. Если я должен был ночевать под надзором, чтобы не совершить побега в темноте, то какой же побег я мог сделать в светлое время суток?! Возвращаясь с электростанции, я проходил мимо часового, который даже не останавливал меня, не спрашивал почему я возвращаюсь ночью. Возможно было дано распоряжение часовым не останавливать меня. Во всяком случае заведующий электростанцией, где по специфичности производства его присутствие требовалось как раз в темное время суток, должен был жить на электростанции, и не только на случай какой-нибудь аварии во время работы электростанции, но и для поднятия дисциплины в ночных сменах.
Все эти соображения можно было бы высказать Дичу при ходатайстве о переводе меня на жительство на электростанцию, но мне не хотелось о чем-либо просить Дича и я не поднимал об этом вопроса, надеясь на какой-нибудь случай, вроде того, когда закончился мой нелепый ночлег на «Вегеракше» в Кеми при заведывании мною Кемской электростанцией в самом городе. Само по себе оставление меня на жительство в камере интернированных давало мне и некоторые преимущества. Я мог восполнить недостающие с вечера часы сна, более продолжительным сном в утренние часы. Я спокойно мог вставать поздно, так как знал о трудолюбии механика и без меня спозаранку ежедневно ведущего капитальный ремонт локомобиля, я был уверен в электромонтере Гюль-Ахмеде, который получив накануне задание, посильно своим знаниям, с раннего утра ежедневно ремонтировал наружную электросеть. Вставал я часов в девять, десятом, когда моих однокамерников уже не было. Они вставали раньше меня, чтобы вовремя выйти на работу. А Дич, сам, ложась поздно, появлялся у себя в кабинете, как я уже рассказывал не ранее 11-12 часов утра и до этих часов никого к себе не вызывал, никого не дергал, а потому и не мог добраться до меня, обнаружить мое отсутствие с утра на вверенном мне предприятии.
Так я и втянулся в такой режим дня, нарушаемый только при поездках в командировку на Медвежью гору или Повенец, когда надо было вставать раньше всех, чтоб поспеть на ранний рейс автобуса. Однажды, это было в середине лета 1935 года, вероятнее всего в конце июля, меня разбудил в десятом часу утра оперативник «Б» и передал мне, что меня срочно вызывает начальник (Дич) к себе в кабинет. Это было неслыханно, чтоб Дич в такое время суток уже бодрствовал. Очевидно что-то случилось и конечно неприятное, так как иного в концлагере нельзя было и ожидать. Однокамерников моих уже не было, я быстро оделся и помчался в управление ОЛП. Постучался в дверь кабинета Дича, мне никто не ответил – кабинет был пуст. В недоумении я повернулся и пошел обратно по коридору, прикидывая где мне искать Дича. Из 3-й части стремительно выскочил оперативник «Б». «Вам приказано было идти в кабинет к начальнику, а Вы что!», - заорал на меня оперативник. Я ему возразил, что в кабинете никого нет. В это время в коридоре появился под конвоем оперативника «А» весь мужской состав Зональной станции: Сампилон, Вадул-заде, профессор-заведующий и все остальные. Ее не было. Нас всех загнали в кабинет Дича и оперативник «Б» остался с нами. Почти каждую минуту распахивалась дверь и в кабинет по очереди вскакивали мои однокамерники-интернированные политзаключенные. Только барон фон-Притвиц вошел с достоинством, на ходу выбрасывая свою палку, с совершенно невозмутимым лицом.
Такой сгон оперативниками в одно помещение политзаключенных наводил на мрачные размышления, усугублявшиеся видом из окна на стоявшую грузовую автомашину, вокруг которой, разминаясь, похаживали несколько молодых людей, одетых с иголочки в серые модные пальто-клеш и шляпы. По внешнему виду они безусловно не были заключенными, по важной манере себя держать они не могли быть концлагерными чекистами. Оперативник «Б» ушел, запрев нас на ключ. Мы стали шепотом делиться своими предположениями о цели непонятной для нас операции. Большинство предполагало получение чекистами Пушсовхоза какой-то срочной директивы о новых репрессиях политзаключенных, а стоявшая грузовая машина во исполнение этой директивы должна нас отвезти на какой-нибудь штрафной лагпункт подальше в лес для работ на лесоповале. Некоторые в своих предположениях пошли дальше, соглашаясь с остальными о неизбежности нашей отправки в лес на стоящей автомашине, но не на работы, а на расстрел, который произведут шатавшиеся у нас на глазах молодые люди – палачи высшей квалификации из Москвы с Лубянки (ОГПУ). Действительно непонятный приезд в такую глушь шикарных молодых людей как-то не вязался с умеренными предположениями и больше подтверждал крайние.
Так в полном неведении относительно нашей судьбы мы просидели в кабинете Дича около часа, после чего явились оба оперативника с двумя солдатами ВОХРа. Моих однокамерников и меня отвели в нашу камеру, ученых мужей в карцер. Нам было приказано никуда не выходить, в коридоре остался солдат. Все легли на свои топчаны, затаив невеселые думы о дальнейшей судьбе, пытаясь разгадать причину отсрочки нашего увоза, в котором никто из нас не сомневался. Безусловно, все нервничали, но старались не подавать виду. Менее всего мог сдержать себя Сорокин, то ворочаясь на топчане, который скрипел под его могучей фигурой, то вскакивая и подходя к окну. В один из подходов к окну, он нас всех созвал к окнам, немало перепугав энергичным возгласом. Мы увидели несшихся на большой скорости легковые машины, заполненных людьми в шляпах, похожих на тех, которые мозолили нам глаза перед кабинетом Дича. Только в третьей и четвертой машинах пассажиров было меньше и в них вместе с шляпами мелькали военные фуражки с малиновыми околышами формы ОГПУ. События развивались в совершенно непонятном для нас направлении.
После нескольких часов вынужденного безделья, во время которого кое-кто успел вздремнуть, пользуясь ослаблением вынужденного напряжения после утреннего шока, ветеринарный фельдшер Анемподист хотел заговорить с солдатом в коридоре, но только он приоткрыл дверь, как отпрянул назад перед выкинутым вперед штыком на винтовке. Попытка заговорить с часовым через дверь тоже не удалась. Прошел час обеда, но никто его к нам не принес, а часовой нас не выпускал. К вечеру сгустились тучи и сумерки, которые на этой широте летом наступают поздно, в этот день сгустились как-то раньше обычного, отчего на душе стало еще тоскливее, природа как бы хоронила нас. Электрического света не было, что дало мне повод для дополнительных размышлений: может быть электростанция не работает или нас отключили, хотя и в окна света нигде не было видно? А если не работает электростанция, то не идет ли эвакуация концлагеря, может быть что-нибудь случилось на границе как в 1930 году, когда финны оккупировали часть Карелии и успели освободить заключенных, переправив их в Финляндию?
Вдруг в камеру ворвался запыхавшийся оперативник «А». Назвав мою фамилию, выкрикнул: «Здесь»? «С «террористов» начинают, - подумал я, - с меня первого. Для расстрела уже достаточно темно». «Здесь», - добавил я вслух и шагнул к нему, навстречу судьбе. «Почему электростанция не работает? - заорал на меня оперативник, - начальник ругается почему нет света»?! Я и раньше замечал отсутствие логического мышления у некультурных людей, но отсутствием логики такой степени в данном случае я был просто ошарашен – что я мог знать о делах на электростанции посаженный и Дичем, и оперативником в камеру с часовым за дверью? Это чудовищное отсутствие логики я воспринял значительно позже, а пока я сел на топчан от неожиданного оборота дела. «Мигом на станцию, - продолжал орать оперативник, - чтобы свет сейчас же был»! Мы с ним выскочили из камеры мимо оторопевшего часового и бегом понеслись на электростанцию, он подгоняемый страхом от разноса Дича, я радостью по поводу отсрочки расстрела. Трактористы были на местах, весь персонал электростанции тоже. Я подошел к распределительному щиту, отдал распоряжение запустить двигатели тракторов, включил рубильники и Пушсовхоз осветился. Оперативник вытер пот со лба и ушел.
Персонал сгрудился вокруг меня. Оказывается, они узнали о моем аресте и из солидарности со мной решились на необъявленную забастовку. Машинист Вишневский на требование Дича пустить электростанцию заявил что ни он, никто другой из персонала станции не умеет включать динамо-машины. Ни одного штрейкбрехера, ни одного подхалима, пожелавшего выслужиться не нашлось. Чекистам пришлось выпустить меня, чтобы высокий гость приехавший в Пушсовхоз, из-за которого разгорелась такая кутерьма, мог провести вечер и ночь при электрическом освещении. Но обо всем этом я узнал лишь на другой день от Дробатковского, а пока, включив рубильники и передав дежурство по распредщиту жене Морозова, я признался своим милым подчиненным, что с прошлого вечера я ничего не ел и страшно голоден. У меня были деньги и Гюль-Ахмед немедленно сбегал в магазин, откуда принес сливочного масла и белого хлеба. Ох, с каким аппетитом я поел и лег на койку Гюль-Ахмеда!
Около полуночи к телефону вызвал меня Дич и приказал до его распоряжения не останавливать электростанцию, а мне находиться неотлучно на ней. Этот звонок внес ясность, так как до него я не знал где мне положено быть после пуска электростанции, где полагается мне ночевать.
Высоким гостем, посетившим Пушсовхоз, оказался Андрей Жданов, секретарь ЦК большевицкой партии, первый секретарь Ленинградского областного и городского комитета коммунистической партии, первое после Сталина лицо в государстве, явный претендент на трон вождя после смерти последнего. Назначение Жданова на место убитого Кирова с оставлением его в должности секретаря центрального комитета показало насколько влиятельным и в то же время угодным Сталину был этот сатрап уже в 1934 году. Для ознакомления с полученной им вотчиной простиравшейся от Старой Руссы на юге до Мурманска на севере Жданов и предпринял летом 1935 года большой вояж с большой свитой секретарей и заведующих отделами ленинградской парторганизации. Естественно Жданов не мог не заинтересоваться пушным хозяйством делающим валюту и не заглянуть лично в Пушсвохоз Белбалткомбината, бывшим тогда единственным поставщиком ценного меха в нашей стране. С этой целью Жданов сделал остановку в Медвежьей горе проездом на Кольские апатиты.
Предупрежденный об этом начальник ББК чекист Раппопорт всполошился, хотя и не был прямым вассалом Жданова. Раппопорт подчинялся только всесильному Ягоде, да и сами партийные работники всех рангов зависели от чекистов, побаивались ОГПУ, являвшееся государством в государстве, осуществлявшем власть не только над народом, но и над большевицкой партией. Тем не менее Раппопорту пришлось кое-что предусмотреть, чтобы визит Жданова прошел гладко и не выплыло чего-либо наружу.
Хотя использование политзаключенной интеллигенции на командно-производственных постах в концлагере и было секретом полишинеля для большевицкой верхушки, все же мозолить глаза Жданову нарушением постановления правительства Раппопорт не рискнул. В 1930 году было постановление Совета народных комиссаров категорически запрещающее использование политзаключенных на административно-производственных должностях и было приказано всех политзаключенных в концлагерях снять с таких должностей и впредь использовать их только на тяжелых физических работах. Поскольку при исполнении этого постановления вся производственная деятельность концлагерей сошла бы на нет, планы не выполнялись бы, сами концлагерные чекисты очень неохотно выполняли это постановление, под сурдинку оставив и вновь назначая на руководство производством интеллигентных политзаключенных от заведующих предприятиями до заместителей начальников отделов управления концлагеря. Постановление было выполнено в отношении командного состава рот, кладовщиков и других мелких сошек, на которых и отыгрались.
Для устранения контакта Жданова при посещении производств концлагеря с руководящими работниками из политзаключенных при даче ими объяснений во время осмотра производств, контакта, во время которого Жданов мог бы случайно выяснить правовое положение руководителя (то есть, что он политзаключенный), и была предпринята операция, жертвами которой мы оказались. По распоряжению начальника концлагеря нас, политзаключенных, находившихся на руководящей работе, заперли, чтобы Жданов с нами не встретился и случайно не узнал, как политзаключенных используют в концлагере на руководящих должностях. А когда Жданов уехал из Пушсовхоза нас всех выпустили и каждый стал снова работать на той же должности, что и до приезда Жданова. А сколько нервов это стоило нам!
В Пушсовхозе исключение было сделано только для Дробатковского после подробнейшего инструктажа со стороны Дича и Марка, как вести ему себя с Ждановым, ни под каким видом не признаваться, что он политзаключенный. Приняв Дробатковского за вольнонаемного агронома, Жданов после осмотра совхоза даже удостоил его словами благодарности и рукопожатием. Какое лицо сделал бы Жданов, если бы он знал, что подал руку заключенному, да еще «презренному контрреволюционеру», офицеру Русской армии!?
Нас шесть интернированных пережили посещение Жданова еще в лучших условиях, чем остальные изъятые из обращения политзаключенные. Хотя мы и были оставлены на сутки без пищи, все же мы были заперты в своей камере и могли ходить по ней и лежать на своих топчанах. Ученые мужи с зональной станции, кое-кто из аппарата управления ОЛП и из Пушхоза провели сутки в карцере, такой малой площади, что они могли только стоять, по очереди лишь садясь на нары для отдыха. Так напугавшие нас с грузовой автомашиной шикарные молодые люди, расположившиеся у кабинета Дича, были телохранители Жданова и членов его свиты, приехавшие в Пушсовхоз для предварительного установления безопасности опекаемых ими лиц.
Из Пушсовхоза Жданов со свитой проследовал в Повенец и далее по Беломорско-Балтийскому каналу. Во всех лагпунктах на пути следования Жданова были произведены аналогичные операции и Жданов нигде не встретился с руководящим персоналом из политзаключенных.
Тем же летом 1935 года, но несколько позднее Пушсовхоз посетил еще один гость – посол Советского Союза в Великобритании Иван Михайлович Майский. Для его встречи была проведена аналогичная операция по устранению от встречи с Майским руководящих работников из политзаключенных. Эта операция прошла как-то тише и незаметнее, то ли вследствие стояния Майского на партийно-иерархической лестнице ниже Жданова, а потому и беспокойства о жизни посла было меньше, то ли приезд Майского в Пушсовхоз по дороге в Великобританию через Мурманск был неожидан и Дич не был вовремя предупрежден. Лично на мне эта операция отразилась буквально за несколько минут до въезда картежа машин на территорию совхоза. По стечению обстоятельств этот приезд Майского мог стоить мне жизни, тогда как при приезде Жданова было только ожидание смерти, нудное ее ожидание в течение долгих часов.
Ничего не зная о приезде Майского, мы с Гюль-Ахмедом утром этого дня приступили к замене железной проволоки алюминиевым проводом на фидере управления. ОЛП, тем самым проводом, который впоследствии, как я уже рассказывал, наделал так много хлопот, лопнув морозной ночью во время пожара на Вой-губе. Мы отвязали железную проволоку 7 мм в диаметре от изоляторов на каждом столбе, положив ее там же на изоляторные крючья. Чтобы она раньше времени не соскользнула силой своей тяжести на землю, мы на последнем перед зданием управления столбе, также отвязав от изоляторов, прикрепили ее к столбу полипастами, заделав концы проволоки в сжимы, называемые лягушками. Лягушки были старые со стертыми зубчиками на губках, и чем держалась проволока в лягушках, почему она тотчас же не выскользнула под действием собственной тяжести примерно в одну тонну, так и осталось для нас непонятным. Во всяком случае, проволока могла сорваться каждую секунду и упасть на землю. Спустить проволоку сразу мне не хотелось, так как я не надеялся успеть за один день натянуть новый фидер из алюминиевого провода, и железная проволока пригодилась бы для подачи электроэнергии вечером в здание управления ОЛП. Ненадежно закрепленная за верхушку столба проволока представляла опасность для случайно находившихся бы при аварии людей на трассе. Однако это меня не беспокоило, потому что по трассе никто не ходил, а пересекавшей под острым углом трассу дорогой никто не пользовался, она даже заросла.
Только мы подтянули полипасты и еще были с Гюль-Ахмедом на вершине столба, как услышали отчаянный крик снизу: «Слезай»! Мы с удивлением посмотрели и увидели у столба солдата ВОХРа. Скомандовав нам еще раз и подкрепив свой приказ длинным ругательством, солдат вытащил наган и направил на нас. Под дулом нагана нам пришлось быстро спуститься со столба. Наган плясал в руке от сильного волнения охватившего солдата. Спустившись первым, я только хотел накинуться на солдата, вмешивающегося в мою производственную деятельность, как увидел то, отчего у меня замерло сердце. По дороге под ремонтируемым нами фидером мчались на большой скорости вереницы больших заграничных легковых машин с открытым верхом, в которых сидели в шляпах хорошо одетые личности. От обилия машин, их тяжести и скорости болотистая почва заколебалась под ногами, столбы фидера так и заходили в разные стороны раскачивая злополучные проволоки. «Что если их концы вырвутся из лягушек и они упадут на один из проносившихся автомобилей, - только мелькнуло у меня в голове, - ведь тогда не снести головы пассажирам в автомобилях»! Глупое усердие охранников по безопасности Майского, заставившее нас слезть со столба и не давшее нам возможности дополнительно закрепить проволоки, могло обернуться гибелью или увечьем того же Майского и сопровождавших его лиц. Я с ужасом смотрел на проезжавшие машины, на раскачивающуюся проволоку и никто так не желал Майскому и его спутникам избежать гибели, как я.
Последняя машина пронеслась под фидером – опасность и для гостей и для меня миновала. А если бы хоть одна из проволок упала бы на землю, по счастью не зацепив никого из проезжавших, ни одной машины – все равно террористический акт направленный против посла СССР был бы налицо. А дальше пошло бы все быстро и просто: а кто «так подвесил» проволоку? – Политзаключенный-террорист, уже посаженный в концлагерь по статье 58-й пункту 8-у «за участие в контрреволюционной террористической организации». Мог бы я остаться в живых после такого случая? Расстрел был бы неминуем. И не только смерть, а перед ней еще и пытки, чтобы я «выдал» своих соучастников: кто сообщил мне о времени и маршруте поездки Майского, кто мне дал задание подготовить террористический акт? Чекисты так бы раздули дело, так постарались бы представить свое мастерство в раскрытии «крупной, разветвленной террористической организации» и всё для того, чтоб получить повышение, бо́льший оклад, ордена, и все на крови неповинных людей.
А если рассмотреть причину, к счастью не возникшего, но вполне возможного, этого несчастного случая? Ведь я старался сменить эту злосчастную проволоку на алюминиевый провод, чтобы исправить допущенную до меня халтуру, чтобы в Управлении ОЛП работники, в том числе и мои потенциальные палачи, не портили зрение при красном накале ламп, а могли работать нормально по вечерам при белом свете. И моим предшественникам нельзя ставить в вину подвеску железной проволоки вместо нормального медного провода, так как это было не сознательное или бессознательное вредительство, которое я исправил, а их к этому вынудила катастрофическая нехватка материалов, преследовавшая каждого работника в первые пятилетки, когда планы строек не подкреплялись материальной базой, а составлялись по приказу невежественных людей, не имевших ничего кроме большой амбиции построить промышленность в невероятно короткие сроки. И так колесо за колесо, причина переходя в следствие, цеплялась неумолимая цепь событий, от амбиции большевицкой верхушки, являвшейся первопричиной всех бед, до конкретных случаев низкого качества продукции, строек, невыполнения планов, за что в каждом отдельном случае наказывались исполнители-стрелочники, в бо́льшей части даровитые, образованные, преданные делу люди. Сколько их было расстреляно, сколько погибло в концлагерях!
После проезда машин солдат отвел меня и Гюль-Ахмеда на электростанцию и приказал нам и всему персоналу никуда не выходить. Я немедленно попытался связаться по телефону с Дичем. После нескольких неудачных попыток, телефонист на коммутаторе, все же разыскал Дича и соединил со мной. Я предупредил Дича об опасности проезда по дороге пересекающий фидер. Майский, осмотрев лисиц и больше никуда не заходя, часа через два уехал со свитой на Медвежью гору по главной дороге усадьбы совхоза. Как потом я узнал, моих однокамерников стали хватать лишь за час до приезда Майского, но всех не успели. Однако все обошлось благополучно, ни с кем из оставшихся «на свободе» политзаключенных Майский не вступил в контакт. Пояснения давал сам Туомайнен и Майский интересовался только зверями, а не людьми.
Прерванную приездом Майского работу мы с Гюль-Ахмедом к наступлению сумерек не успели закончить и электроэнергию в управление в этот вечер пришлось подать по этим злосчастным проволокам, перенеся их замену алюминиевым проводом на следующие дни.
Следующий раз мой сон в камере интернированных был нарушен, и притом среди ночи, обыском. Вероятно было часа четыре утра, солнце светило уже вовсю, к нам в комнату ввалились оба оперативника и солдат ВОХРа, ставший с винтовкой в дверях. У меня обыск произвел оперативник «Б». Прощупав подушку и одеяло, потряся тулуп, который служил мне тюфяком, оперативник принялся за карманы и подкладку моей одежды, затем за содержимое чемодана. Глаза так у него и загорелись когда он увидел опасную бритву лежавшую сверху в чемодане. Бритву он немедленно отобрал, а остальные вещи вывернул на топчан, порылся в них и ничего предосудительного не нашел. Бритву мне подарил в знак уважения ко мне персонал Кемской электростанции, собственноручно ее изготовив. Качество ее было довольно низким, я ей не брился, предпочитая ходить в парикмахерскую, и бритва лежала у меня без дела. Напоследок оперативник обшарил мою тумбочку и не мог скрыть изумления не найдя ножа, даже перочинного. Ножей у меня не было, так как я строго соблюдал концлагерный устав, запрещающий заключенным иметь ножи, которые, кстати, продавались совершенно свободно в магазинах, но отбирались при обысках. Ассортимент ножей, главным образом перочинных, значительно расширялся в магазинах после каждого обыска, так как для продажи передавались отобранные ножи. Заключенный мог купить отобранный нож. Таким образом по существу этот пункт концлагерного устава самой же администрацией не выполнялся.
Оставив меня в покое, оперативник «Б» взялся за моего соседа Марченко. Окончив обыск, оперативники удалились, прихватив с собой нож, лежавший открыто у нас на столе для общего пользования.
Дня через два оперативник «Б» пришел ко мне на электростанцию и передал, что начальник 3-й части (Марк) сказал, чтобы я пришел за своей бритвой. Я не удержался чтоб не кольнуть оперативника: «Молодой человек, неужели Вы думаете, что у меня, старого соловчанина, Вы нашли бы бритву, если она была бы годной? Возьмите ее себе на память»! Широко раскрытыми глазами и ртом реагировал балбес на мой ответ и, не найдя ничего, чтобы отпарировать мне, недоумевающий ушел.
И еще раз, пока я был в камере интернированных, сон мой был нарушен, примерно в середине августа. Меня никто не будил, проснулся я сам от какой-то возни в камере. Солнце светило вовсю, было около 4-х часов утра. Марченко стоял одетый, в его вещах рылся следователь 3-й части, тот самый бородатый сатир, который мне потом всучил на электростанцию цыганку. По окончании обыска Марченко сложил оба чемодана, связал свою постель в тюк, подошел ко всем нам и попрощался с нами. Никто, конечно, не спал, все жалели в душе Марченко. Каждый из нас также переживал, думая кто следующий подвергнется новой репрессии. Марченко подошел к общей вешалке, как бы снимая с нее свой бушлат, быстро приподнял вешалку и достал из щели между вешалкой и стеной толстый пакет в конверте. В этот момент я полностью оценил волю и идейность Марченко, проявленные им в столь критический для него момент. Марченко сел за стол, вынул листы исписанной бумаги из конверта, что-то дописал карандашом, снова все вложил в конверт, запечатал его и протянул следователю: «В собственные руки начальнику Белбалткомбината Раппопорту. Лично будете отвечать, - отчеканил Марченко, - если конверт не дойдет по назначению». Сказано это было приказным тоном, и следователь даже вытянулся в струнку перед арестованным им, как перед начальником. Сила духа Марченко переломила силу кулака и следователь, имевший неограниченную власть над политзаключенными, покорился Марченко: «Будет исполнено», четко произнес следователь, снял фуражку, вложил в нее пакет и снова одел. Марченко перекинул через плечо связанные чемодан и тюк с постелью, в руку взял другой чемодан и с поднятой головой пошел на новую Голгофу. Впереди следователь, затем Марченко, сзади солдат ВОХРа, взявший винтовку наперевес и щелкнувший затвором.
С политзаключенными коммунистами, каким был Марченко, в 1935-м году еще считались, они были до некоторой степени на привилегированном положении по сравнению с беспартийными политзаключенными. Дич и Марк, очевидно, приложили немало усилий через 3-й отдел Белбалтлага, работником которого был Марк, и где заседали бесчисленные дружки Дича, чтоб добиться изъятия Марченко из Пушсовхоза и отправки его подальше в лес, в лесозаготовительное отделение ББК на штрафной лагпункт на лесоповал. Дич и Марк явно побаивались Марченко, как идейного коммуниста, могущего для торжества теоретической коммунистической правды даже пожертвовать собой, но вывести на чистую воду Дича и Марка. Ни до изъятия Марченко из Пушсовхоза, ни после, он не рассказывал о чем он писал, в чем ему удалось уличить перед Раппопортом верхушку Пушсовхоза. Можно только догадываться о взятых на заметку фактах загибов Дича и Марка, мешавших производству, о присвоении продукции животноводства и растениеводства на прокормление приехавших на свидание к Дичу его многочисленных родственников на значительное время, отсылки посылок с продовольствием жене и родителям Дичем. Старания Дича и Марка избавиться от непрошенного контролера только ускорили развязку и обернулись против них самих. Не прошло и недели со дня отправки Марченко на штрафной лагпункт, как из управления ББК за Дичем была прислана легковая автомашина. Очевидцы рассказывали каким бледным был Дич, как тряслись у него руки и как он не мог сразу стать на подножку автомашины.
Больше Дича мы не видели. Личные вещи его потом отвозил на Медвежью гору начальник Общей части. Позднее осенью я встретил Дича в управлении ББК, находясь в командировке на Медвежьей горе. Дич осунулся, в нем не осталось и тени той самоуверенности, которая всегда раздражала меня. Дич протянул мне руку и, явно бодрясь, сообщил о переводе его на должность начальника отдельного лагпункта «Петушки» расположенного почти на окраине Петрозаводска, самого южного лагпункта Белбалтлага. На лагпункте содержались краткосрочники уголовники и бытовики, работавшие на предприятиях Петрозаводска. Политзаключенных там не было, Дичу не было над кем издеваться, а с уголовниками хлопот было много. Перевод Дича в «Петушки» был мудрым решением Раппопорта, которым последний своего соплеменника и родственника не обидел, только переведя из начальников одного ОЛП в начальники другого ОЛП, и в то же время убрал с глаз оскандалившегося начальника. Мало того, Раппопорт и эту пилюлю подсластил ссылкой на необходимость развернуть ОЛП «Пушсовхоз» в отделение «Пушсовхоз», в котором начальник не может быть заключенным.
Прибывший на другой день после изъятия Дича новый наш начальник вольнонаемный чекист с двумя ромбами в петлицах (по армейским званиям – комдив) оказался прямой противоположностью своему предшественнику. Уравновешенный, спокойный, не хватавший звезд с неба, что он впрочем, сознавал, он ни во что не вмешивался, передоверив все по Пушхозу Туомайнену, по совхозу Дробатковскому, по административной линии начальнику образованного в составе отделения «Пушсовхоз» лагпункта «Пушсовхоз». Заключенные, в особенности политзаключенные, вздохнули в установившемся мирном сосуществовании чекистов и рабов.
Николай Николаевич (так звали начальника отделения, фамилию его я забыл) на производственных совещаниях больше молчал, выслушивая мнение и предложения заведующих частями, службами, относясь к последним не как к своим рабам, а как к подчиненным сотрудникам знающим в своей области больше него самого. Вежлив он был и при индивидуальных докладах с подчиненными ему политзаключенными. Несмотря на то, что Николай Николаевич был вольнонаемный, а не заключенный чекист, как Дич, что носил два ромба, он не дал никакого отпора, когда к нему стали обращаться не по уставному «гражданин начальник», а называя его по имя отчеству. Обращение к нему «Николай Николаевич» так и вошло в обиход.
Такое самоустранение начальника от дел объяснялось его страстью к спиртным напиткам, вызванное несоответствием его натуры его «специальности». Опохмелившись после вчерашней попойки, ровно в 9 часов утра начальник появлялся в своем кабинете, всегда подтянутый, всегда аккуратно одетый в форменную гимнастерку застегнутую на все пуговицы, но в большинстве случаев безразличный ко всему происходящему, соглашающийся с любым предложением подчиненного, пришедшему к нему с докладом. С трудом дождавшись 2-3 часов дня начальник удалялся в свою квартиру, чтобы запить до следующего утра. Что бы ни случилось в этот промежуток суток, никто не мог беспокоить его по телефону, все об этом знали, постепенно к этому привыкли.
Трудно сказать было ли пьянство Николая Николаевича его врожденным пороком, только усугубившемся беспросветной действительностью концлагерей. Возможно, этим пороком он стал страдать разочаровавшись в предназначении чекиста, а может быть он им и никогда не был по духу, попав на работу в ОГПУ выделенным по партийной линии? По своей натуре, лишенный злобы к людям, непримиримости к ним, наш начальник вряд ли отвечал требованиям предъявляемым к чекистам большевицкой партией. Его органическое несоответствие работе чекиста и привело его либо к пьянству, как средству хоть временами выключать себя из жестокой действительности, либо к получению штрафа (работы в концлагерях) за какое-нибудь проявление «недостаточной бдительности». Вероятнее всего наказание работать в концлагерях начальник получил и за первое и за второе. А попав на работу в концлагеря, в монотонную повседневную атмосферу подавления людей, Николай Николаевич, окончательно спился. По всей видимости, его карьера чекиста и в концлагерях сходила на нет и в порядке этого схождения он и получил должность почетную по названию – начальник отделения, а по сути начальника небольшого ланпункта, каким был «Пушсовхоз», с ограниченной территорией, на которой содержалось несколько сот заключенных, в то время как в других отделениях содержались десятки тысяч рабов на территориях равных малому европейскому государству. Изучая далее Николая Николаевича, я поразился до какой степени ему стала противна концлагерная действительность, какое безразличие ко всему овладело им.
Такому начальнику Марк ясно не мог прийтись по душе и вскоре был заменен новым начальником 3-й части вольнонаемным чекистом Потаповым с тремя шпалами в петлицах. Сам мягкий по натуре, направляемый таким же начальником отделения, Потапов ничем себя не проявлял, как будто 3-я часть перестала в Пушсовхозе существовать.
Появившийся вскоре после образования лагпункта в отделении, начальник лагпункта Иван Логинов, был выслужившийся из неграмотных вятичей солдат войск ОГПУ. Одолевшего грамоту лишь рядовым на службе в войсках ОГПУ, Логинова постепенно поднимали по служебной лестнице и в «Пушсовхозе» он надел три шпалы. Количество шпал не умерило его серости, не прибавило его ограниченного ума, а только увеличило его пыл «тащить и не пущать», принцип на котором воспитывали солдат и командиров войск ОГПУ. Создавалось впечатление, что назначение этого солдафона являлось как бы жесткой подпоркой мягкому начальнику отделения. Да и образование лагпункта в составе отделения являлось совершенно неоправданном в смысле административном и производственном и служило лишь установлению должности для Ваньки Логинова, как называли между собой заключенные начальника лагпункта. Территориально новое отделение «Пушсовхоз» по сравнению с ОЛП «Пушсовхоз» было расширено лишь за счет «Вой-губы» - территории с двухэтажным домом по другую сторону залива (губы). Зачем было создавать в отделении лагпункт, когда последний включал в себя всех заключенных отделения, за исключением двух человек находившихся постоянно в доме на Вой-губе? Никаких бюро управлений лагпункта, да и самого управления лагпункта образовано не было. Вся работа, как и раньше, производилась частями управления бывшего ОЛП, ставшего отделением ББК. Ваньке Логинову абсолютно делать было нечего, он страдал от безделья. На первых порах он пробовал вмешиваться в производственную деятельность Пушсовхоза, но по представлению Туомайнена и Дробатковского, был осажден Николай Николаевичем, проявившем в этом случае твердость. Начальник отделения предложил заниматься Логинову взводом ВОХРа. Впоследствии, когда начальник отделения несколько обломал характер Ваньки, он поручил ему вести вместо себя производственные совещания с целью приучения начальника лагпункта к производству.
«На сегодня, - начинал свои выступления на совещаниях Логинов, упираясь ладонями в стол и стоя покачиваясь (причем слово «сегодня» он выговаривал, как оно пишется – вместо буквы «в» букву «г», как-то напирая на нее), - мы имеем …» и дальше следовало чтение составленного плановой частью доклада о выполнении месячного плана. Любимым словечком Логинова было «грубо-гарантировочно» (вместо грубо-ориентировочно), которое он влепливал в любую фразу о планировании совсем без смысла. «Грубо-гарантировочно мы определяем показатели на следующий месяц», - гремел Логинов, а показатели были давно точно высчитаны, план составлен и утвержден управлением ББК. Участники производственных совещаний только улыбались про себя, слушая безграмотного начальника.
Свою зверскую натуру, всю грубость неотесанного чекиста Логинов показал на пожаре возникшем в январе 1936-го года в теплице Пушсовхоза. Стояла морозная погода, требовавшая для поддержания внутри теплицы необходимой температуры, непрерывной топки печей. От перегрева не выдержали разделки печей и ночью воспламенилась крыша. Вызванные пожарные и истопники быстро ликвидировали пожар. Предупрежденный дежурной по распределительному щиту, я с Гюль-Ахмедом явились на пожар на случай необходимости отключения электропроводки или подачи дополнительного освещения. Пришел и заведующий закрытым грунтом политзаключенный барон фон-Притвиц. Как сумасшедший примчался Ванька Логинов, схватил барона за грудь и стал его трясти: «Ты поджег, признавайся»! В здоровенных руках Логинова тело Притвица трепетало как листик в ураган. Притвиц выпустил из рук палку, на которую он всегда опирался при ходьбе. Глаза у несчастного округлились от ужаса, непонимания. Не известно довел бы Логинов свою жертву до обморока или из хилого старика вытряс бы душу в прямом смысле этого слова, но на счастье Притвица появился начальник 3-й части, который окриком одернул ретивого служаку и освободил Притвица из рук Логинова. Фон-Притвиц в изнеможении опустился на снег и никак не мог собраться с мыслями.
Жестокое обращение с Притвицом к тому же было и глупо, если Логинов хотел вырвать признание у предполагаемого преступника на месте совершения преступления. На месте преступления сознание в совершении преступления мог только сделать тот, который действовал из идейных побуждений, агитационно в обращении к присутствующим массам, следовательно добровольно, а не вынужденный кулачным боем. Преступник или невиновный при избиении мог дать показания против себя только в застенке, в атмосфере террора в тюрьме, но никак не на месте происшествия. Если бы барон совершил в действительности поджог, неужели он бы сознался, как бы ни тряс его солдафон?!
Пришел Дробатковский и в целях спасения от мороза тепличных растений приказал фон-Притвицу дать немедленно распоряжение закрыть мешковиной пустоты в крыше, образовавшиеся от выгоревших стропил и разбитого стекла и затопить печи. Логинову, который уже успел расставить оцепление из солдат ВОХРа, чтобы никого не допускать к теплице до начала следствия и осмотра горелых мест, Дробатковский, похлопав его по плечу, сказал: «Забирайте своих солдат, можете уходить, Вы мне больше не нужны»! Ванька оторопело посмотрел как им распоряжается политзаключенный, но тут же выполнил распоряжение помощника начальника отделения по производственной части, в какой должности пребывал Дробатковский.
Утром начальник пожарной охраны определил причину пожара и Дробатковский приказал прорабу строительных работ немедленно восстановить теплицу, что к полудню и было сделано. К счастью растения не успели замерзнуть. С Фон-Притвица и истопниц сняли показания в 3-й части и на этом дело о пожаре закончилось. Только Логинову за обращение с фон-Притвицем по докладу начальника 3-й части очень влетело от Николая Николаевича. Последнего никогда не видели таким рассерженным.
Хорошо, что пожар произошел не в бытность Дича. Иначе бы барона и истопниц прямо с пожара посадили бы в карцер и завели бы дело о диверсионном акте, а чтобы раздуть дело и выставить себя героями раскрытия крупной контрреволюционной диверсионной организации, Дич и Марк распространили бы следствие и аресты и на остальных политзаключенных-интеллигентов содержащихся в Пушсовхозе. Состряпать такое дело при царившем беззаконии было проще простого, а за свою «бдительность» Дич мог быть даже освобожден из заключения, а Марк быть повышенным в должности. На страданиях невинных, на их крови (потому что в таком случае не один фон-Притвиц был бы расстрелян) эта бессовестная пара сделала бы свое благополучие. Так и делалось во всех звеньях ОГПУ-НКВД.
Первым реальным следствием ветра перемен в Пушсовхозе, как только воцарился новый начальник, настали для всех работников управления, да и производства, спокойные вечера, без вызовов поздно вечером и ночью в кабинет начальника и возможность с утра все дела обсудить с начальником. Последнее обстоятельство весьма благоприятствовало производству.
Марченко выиграл битву с Дичем. Через неделю после снятия Дича Марченко появился, к нашей радости, в Пушсовхозе и снова занял свой топчан. Его донос не только возымел действие, но и восстановил его «права» в концлагере, возвращением Марченко в Пушсовхоз на старую должность зоотехника. Прибыл он без конвоя из штрафного лагпункта Надвоицкого отделения ББК, где на лесоповале пробыл все же более двух недель. Похудевший, немного более загоревший, какой-то еще более собранный, в проявленном им приливе сильной воли, Марченко, как-то больше замкнулся в себе. Эта выигранная им битва за свою Правду сблизила его духовно с существующим строем, как-то отодвинула его от нас. Возможно, я и ошибался, но на меня произвело впечатление какое-то неуловимое презрение появившееся у него к нам, его однокамерникам, слабым, по его мнению, духом и волей, не борющимся ни за какую Правду. Дав себе отдых после длительного упорного труда по собиранию компрометирующих Дича материалов, Марченко ударился в поэзию. В стихах, которые он мне давал для прочтения, поэзии было мало. Возбуждение одержанной над Дичем победы постепенно у Гриши угасало. Возможно сказывалось разочарование в результатах доноса на Дича для своей будущности. Ни освобождения из концлагеря, ни снижения срока заключения в концлагере, на которые, возможно, рассчитывал Марченко, он не дождался. Такое настроение выразилось у него в написанной им элегии, начинавшейся строфой: «Сединами на плечи легли десятилетия» (имелся в виду десятилетний срок заключения). Чувство неуверенности в справедливости своего мировоззрения, самоизоляция от товарищей по несчастью породили повторяющиеся строфы: «Ни совести, Ни привета». И концовка элегии звучала полным разочарованием прожитою жизнью:
«И с улыбкою привета
Смерти встречу я карету»!
Дальнейшая судьба этого хорошего и по-своему честного коммуниста мне не известна. Рассуждая логически, он вряд ли остался жив. Ему, с клеймом троцкиста, безусловно не было никакой скидки срока, а следовательно в 1937-39-х годах, во время, так называемой, «Ежовщины», когда острие террора было направлено и на коммунистов антисталинского толка, называемых собирательным понятием «троцкисты», Марченко испытал всю тяжесть режима для политзаключенных. «Правовое» положение коммунистов-политзаключенных в концлагерях в те годы стало хуже даже положения беспартийных политзаключенных. Да и без этого дополнительно-ухудшившегося положения отсидеть в концлагерях полностью десять лет, какой срок имел Марченко, и после этого остаться живым удавалось лишь единицам. Его честность могла быть применена с бо́льшей пользой для общества и для него самого, если бы Марченко не поверил безгранично в ученье Маркса породившего все то, от чего гибли Марченко и ему подобные, борясь за него, а также миллионы и миллионы людей не принявшие марксизма и просто аполитичных.
Со сменой начальства Пушсовхоза я твердо решил перебраться на жительство в комнату для заведующего на электростанции. Я несколько выждал, чтобы начальник отделения присмотрелся ко мне, и тогда подал рапорт ему, в котором указал на ненормальность моего проживания вдали от электростанции затрудняющего мне поддержание дисциплины среди персонала вверенного мне предприятия, в особенности в ночную смену, когда работа электростанции наиболее ответственна, а дежурящий персонал заведомо знает о невозможности его проверки мною, так как не могу посетить электростанцию, находясь в камере барака. Здесь я допустил некоторую натяжку, так как в числе происшедших перемен, наш ночной страж – солдат ВОХРа уже исчез, не то сразу после снятия Дича, не то с переводом Марка, и выход из барака и ночью был свободен. Николай Николаевич удивился моему положению и тут же наложил резолюцию с разрешением проживать мне на электростанции, куда я и перебрался, поселившись в комнате вместе с паровозным машинистом Вишневским. Кубанский казак к этому времени вернулся механиком в полеводство. Вскоре моему примеру последовал фон-Притвиц, выхлопотав себе разрешение проживать в коморке на парниках, а ветфельдшер Анемподист и зоотехник Марченко переселились в коморку на скотный двор.
С заменой Дича Николаем Николаевичем, насыщавший атмосферу гнет ощутимо исчез. Буквально стало легче дышать, исчезли та напряженность, то постоянное ощущение надвигавшейся опасности, которые царили при Диче. Эта перемена почувствовалась как-то сразу, но к ней не скоро привыкли. Постепенно у меня прошел страх, вызываемый каждым посещением Зональной станции при Диче и я стал бывать у Нее почти ежедневно, кроме встреч за обедом и большей частью за ужином. Теперь можно было спокойно сидеть в Ее лаборатории, не опасаясь, что какое-нибудь свиное рыло оперативника сунется в дверь без стука. И Она несколько отделалась от страха и перестала нервничать при моих посещениях, тем более что появился и благовидный предлог для моего пребывания на Зональной станции. Академия наук поручила Зональной станции большую работу по составлению почвенной карты Карелии. Образцы почв свозились для анализа в Пушсовхоз. Определение кислотности почвы методом ее проводимости электрического тока требовало постоянно действующей батареи миниатюрных аккумуляторов, которые я заряжал на электростанции и носил на Зональную станцию. Словом на Зональной станции я снова стал таким же своим и нужным человеком, как в Биосаде на Соловках, как в Кеми на Зональной станции. К сожалению обстановка была все же не та, что в Кеми в первую половину времени пребывания моего там. Приходя к Ней в Ее лабораторию я не чувствовал, что прихожу домой, как это было в Кеми. И все же после пережитой разлуки, после гнета Дича и это казалось счастьем.
Основным толчком позволившим мне преодолеть страх за Нее и за себя за могущие быть последствия моих посещений Зональной станции, явилось предполагаемое расширение Зональной станции с постройкой для нее новых двух домов. Николай Николаевич ввел меня в курс дела и поручил составить проект и смету энергоснабжения новых зданий и его улучшения в существующем здании. Согласование этого проекта с учеными мужами и сделало меня снова своим человеком у них.
Из моего проекта ничего не вышло (один вариант предполагал установку в специально построенном здании двигателя внутреннего сгорания с динамо-машиной для снабжения электроэнергией только Зональной станции, а другой вариант предполагавший более коренное решение путем присоединения Пушсовхоза к энергосистеме Беломорканала, что потребовало бы создание в Пушсовхозе трансформаторной подстанции с прокладкой высоковольтной линии их Повенца). В титульный список строек ББК на 1935 год не вошло расширение Зональной станции и Пушсовхоз на этом даже погорел.
Николай Николаевич, несмотря на пьянство, был дальновидным хозяйственником. Узнав о проекте расширения Зональной станции, неофициально получив его и твердо уверенный о включении стройки в титульный список 1936-го года, Николай Николаевич решил начать стройку осенью 1935-го года. Он совершенно правильно рассчитал, что строительство зданий, до наступления морозов потребует меньше трудовых затрат, чем, например, забивка стульев по смете в мерзлую почву в первом квартале, когда будет утвержден титул и будет открыто финансирование. Экономию в рабсиле Николай Николаевич рассчитывал использовать для возведения нужной Пушсовхозу постройки, на которую средств могли и не отпустить. Прораб строительных работ получил от Николая Николаевича распоряжение и успел до промерзания почвы с минимальной затратой, против сметной, рабсилы забить стулья под предполагаемые к постройке два новых здания Зональной станции. Однако вкопанные стулья так и остались стоять на месте не возведенных зданий, строительство которых не осуществилось по прихоти высшего начальства отказавшегося от строительства. Расходы на рабочую силу и материалы пошедшие на стулья пришлось списать на убытки.
Проходя как-то с прорабом мимо закопанных стульев, торчавших немым укором бесхозяйственности плановой системы, я обратил на них внимание прораба. Прораб был заключенным-бытовиком, получившим по суду пятилетний срок заключения в концлагерь за перерасход фонда зарплаты на какой-то стройке. «Да, что Вы не знаете, что и не такие мелочи творятся сейчас на воле, - изумился прораб. – Неужели Вы еще не привыкли к этому. Во второй пятилетке стало хуже, чем было в первой, что же будет в третьей?! Это же плановое хозяйство!», - добавил он с усмешкой. Я понял насколько за семь лет заключения я потерял ощущение жизни на воле, насколько я отстал от жизни, насколько я имею превратные понятия о плановом хозяйстве. Я попытался объяснить прорабу причину моего возмущения такими бесхозяйственными мелочами, тем, что уже восьмой год пребываю в заключении. Прораб изумился еще больше: «Как же Вы выдержали семь лет в концлагере?! Я думал что Вы недавно с воли»! Это был мне не комплимент. Или слишком молодым я был посажен или нервы так натренировались, что наружно я не выглядел старым заключенным.
Большой радостью для меня был приезд на свидание моей матери, вскоре после смены начальства. На этот раз она добилась разрешение на свидание со мной в Москве в ОГПУ, хотя свидание ей разрешили только «на общих основаниях». Это означало, что мы можем видеться в течение недели только по два часа в сутки в присутствии выделенного чекиста-работника 3-й части. Кстати, такого специального работника ведающего свиданиями в Пушсовхозе не было. Какое было счастье, что вместо Дича был уже Николай Николаевич, который своей властью, правда неофициально, перевел для нас с матерью свидание «на общих основаниях» в «личное» и разрешил матери прожить со мной семь дней на электростанции в моей комнате. Вишневский на эти семь дней переселился в общую комнату персонала электростанции.
Это свидание очень благотворно подействовало не только на меня, но главное на мать, очень беспокоившуюся о моей судьбе на фоне тех репрессий, которые последовали на воле после убийства Кирова. К счастью она не знала о том, что мы одновременно переживали в концлагерях. Ее беспокойство еще усилилось, когда по распоряжению Дича ее не пропустили до меня в ее весенний, 1935-го года, приезд в Пушсовхоз. Теперь она убедилась в той относительной свободе, которой я пользовался в Пушсовхозе, в том терпимом ко мне отношении начальства, даже была удивлена моим служебным весом в Пушсовхозе, весом ее мальчика, каким я по-прежнему был для нее. Почему-то особенное впечатление на нее произвели первые минуты нашего свидания, проходившие в УРЧ.
Меня вызвал в УРЧ по телефону помощник начальника УРЧ, армянин, сообщив о приезде матери. Я немедленно явился и увидел мать, доставленную с вахты на дороге. Дисциплинированный заключенный, и не менее боявшаяся навредить ему каким-нибудь недозволенным по уставу концлагерей поступком его мать, остались стоять на расстоянии. Мы оба с матерью очень хорошо были вымуштрованы соловецкими порядками, по которым свидание долго оформлялось еще и на месте и во время оформления заключенный и приехавшая к нему родственница должны были, если и увиделись, не подходить друг к другу, а находясь на расстоянии только смотреть друг на друга, и то украдкой. Так мы и остались в УРЧ стоять на расстоянии, как будто даже и не замечая друг друга в ожидании разрешения подойти друг к другу чтобы поздороваться. Не знавший соловецких порядков армянин удивился отсутствию у нас естественного чувства броситься друг к другу после долгой разлуки и тоже молчал. Чтобы не терять в последующем драгоценные минуты времени отпущенного на свидание на производственные дела, я решил обделать текущие дела пока идет оформление свидания и позвонил на конный парк, дав заявку на двух лошадей на завтра, для подвоза топлива на электростанцию. В эту минуту армянин опомнился от удивления: «Что же вы не здороваетесь, или вы уже виделись»?! Я скорее обнял мать и объяснил, что мы ждали оформления разрешения на свидание. На мою мать особенно произвело впечатление не легкость оформления свидания, а мой властный тон при заказе лошадей по телефону.
Персонал электростанции тепло относился к нам во время свидания, оказывая мелкие услуги и, по возможности, избавляя меня от всяких хлопот по электростанции. Мой обед и ужин, которые я приносил из столовой, мы с матерью делили, добавляя из привезенных продуктов и покупая белый хлеб в магазине. Мы ходили по берегу Онежского озера, много говорили, преимущественно о перспективах моего освобождения, которые по-прежнему были туманны, в особенности после моего разговора с прокурором на Медвежьей горе. Мне очень не хотелось расстраивать мать действительным положением вещей, но все же я ей обо всем рассказал, считая, что так лучше будет, чтобы она знала реальность и не планировала свою жизнь в свете моего близкого освобождения. Семь дней промелькнули быстро, наступило тягостное расставание. Я не решился ехать провожать ее на Медвежью гору, чтобы не наткнуться на неприятности с оперативниками, чем мог еще больше расстроить мать. Я посадил ее в рейсовый автобус на развилке дорог. Единственным утешением для матери было мое хорошее житье в Пушсовхозе и надежда, что теперь снова начнут давать свидания и она может меня видеть хоть раз в год.
Несколько позже, в феврале 1936-го года, свидание с Ней получили Ее дети. Она была так рада их приезду, Она уже не надеялась когда-нибудь их повидать в связи с репрессиями после убийства Кирова, которые могли никогда не ослабнуть. Сын возмужал, дочь почти нисколько не изменилась. Они прожили с Ней неделю в Ее лаборатории. Я бывал часто. Они были мне рады и со мной совершали прогулки по лесной дороге, когда Ей приходилось работать. Я мысленно сопоставил обстановку в концлагере в их приезд на свидание в Кемь в 1934-м году и теперь. Какой регресс, какое ухудшение положения политзаключенных! Счастье, что они не приехали при Диче! В Пушсовхозе существовать было сносно, но неизвестно что творилось на верхах, насколько ослабела острота репрессий за минувший год, какова вообще судьба политзаключенных – пока их не освобождали и после окончания срока заключения? Несколько утешала появившаяся возможность получать свидание с политзаключенными. Значит, какие-то сдвиги к лучшему все же были.
В отношении же Ее дети привезли очень печальные вести. Теперь о Ее досрочном освобождении по милости Ягоды не приходилось и думать. Это был большой удар для Нее, а также и для меня, хотя у меня лично на это не оставалось никаких надежд сразу же после начала жутких репрессий после убийства Кирова.
Да и моя дальнейшая судьба было совершенно неизвестна. С зачетом заработанных мною ударным трудом рабочих дней я уже около года должен был бы быть на свободе, а ею и не пахло, несмотря на ветер перемен в Пушсовхозе. Освобождение из концлагеря не зависело от Николая Николаевича и мне оставалось только терпеть, ждать и дальше нести тяжкий крест заключения в концлагере.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Техники безопасности в концлагерях ОГПУ-НКВД долгое время не было, даже формально. С момента основания концлагерей, на политзаключенных большевицкая верхушка, а за ней и все чекисты, смотрели как на элемент подлежащий истреблению, чем скорее, тем лучше. А потому наряду с голодным пайком, отсутствием медицинской помощи, размещением в ужасающих жилищных условиях, заключенные подвергались самой варварской и неумной эксплуатации на тяжелых работах с целью как можно скорее свести в могилу опальных людей. Если работы не было, концлагерные чекисты ее изобретали. Я наблюдал в 1929-м году на Кемском пересыльном пункте Соловецкого лагеря особого назначения ОГПУ как заключенных, в том числе людей с высшим техническим образованием, заставляли в течение нескольких суток, не давая даже отдыха на сон, ведрами вычерпывать воду из баржи, стоявшей с пробитым дном на камнях. Заставляли перетаскивать огромные валуны с места на место, после чего другая партия таких же истязуемых перетаскивала те же валуны обратно на прежнее место. При таком отношении к заключенным не могло и быть речи о какой-либо технике безопасности при производстве работ заключенными.
С 1928-го года, когда по предложению Натана Френкеля, в заключенных увидели даровую рабочую силу, которая могла производить для страны не только материальные ценности, не только окупить своим трудом расходы казны на содержание концлагерей, но и дать значительную прибыль, внести большой вклад в перенапряженное бешеными темпами пятилеток финансовое состояние государства, отношение к заключенным несколько изменилось. Изменилось не в смысле более гуманного обращения с ними со стороны чекистов (наоборот введенные нормы выработки, которые все увеличивались, скорее приводя заключенных к полному физическому истощению и смерти), а в смысле выжимания из заключенных как можно больше полезной работы. Каждый живой раб стал цениться дороже мертвого. Идеологически чекистам трудно было приспособиться к новой установке в отношении заключенных диктуемой свыше, но спускаемые для концлагерей огромные производственные планы заставляли концлагерных чекистов начать считать поголовье заключенных и как-то стараться, не снижая норм, продлевать существование своих рабов. Объем работ по стройкам возлагаемым на концлагеря ОГПУ от года к году настолько все время увеличивался, что рабов не стало хватать, несмотря на все увеличивающийся террор в стране, захватывавшей все новые и новые слои советского общества. ОГПУ в размахе арестов не успевало за ростом потребности рабов в концлагерях. Нехватка рабочей силы в концлагерях постепенно привела к робким шагам по механизации трудоемких работ. Если Беломорканал в 1931-1933-м годах был построен исключительно мускульной силой заключенных, то гидростанции на реках Туломе и Ниве на Кольском полуострове в 1934-1937-х годах создавались уже с применением простейших механизмов.
Применение механизмов само по себе увеличивает количество несчастных случаев на производстве, а применение механизмов на стройках в концлагерях параллельно с применением ручного труда масс заключенных, состоявших главным образом из крестьян незнакомых с техникой, к тому же сосредоточенных на ограниченных стройплощадках, приводило к резкому увеличению количества несчастных случаев. Это обстоятельство приводило к увеличению износа рабочей силы, количества нетрудоспособных инвалидов-заключенных, становившихся балластом для рентабельности концлагерей, приводило к увеличению смертности заключенных, а, следовательно, уменьшению количества рабов, бесплатно работающих на стройках.
С 1935-го года общесоюзные правила по технике безопасности при производстве работ приказом по Главному управлению лагерей (ГУЛАГу) ОГПУ были распространены на концлагеря. Высшее чекистское начальство не прочь было выступить в качестве этаких добрых дядей пекущихся о трудоспособности и жизни заключенных. На самом деле этот приказ предназначался не для уменьшения убыли заключенной рабочей силы, не на снижение количества несчастных случаев на стройках и даже не столько для заграничного употребления, сколько, на всякий случай, для ограждения от ответственности по закону за увечья и смерть на производстве заключенных, которой могли подвергнуться сами чекисты, преимущественно стоявшие на низших ступенях административной лестницы в концлагерях – начальники лагпунктов, отделений. По сути этот приказ перекладывал ответственность за несчастные случаи с заключенными с чекистов на самих заключенных, вернее политзаключенных назначаемых на вновь созданные приказом должности инженеров по технике безопасности концлагерей и их подразделений – отделений и лагпунктов. Поскольку в концлагерях с высшим образованием были только политзаключенные, последние и становились козлами отпущения за все происшедшие с заключенными несчастные случаи на производстве. Чекисты эксплуатировали, а политзаключенные инженеры по технике безопасности несли ответственность за эту эксплуатацию, приводившую к несчастным случаям с заключенными, в то же время лишенных каких-либо прав по недопущению несчастных случаев. Приказ по ГУЛАГу не давал права инженерам по технике безопасности препятствовать проведению работ с нарушением правил по технике безопасности, требовать от чекистского и заключенного начальства – прорабов проведения мероприятий по технике безопасности. В то же время за каждый несчастный случай происшедший не по вине пострадавшего, в полном объеме нес ответственность инженер по технике безопасности, получая наказание – снятие его на штрафные работы, добавление срока заключения. Чекисты знали только выполнение плана и притом любой ценой за счет благополучия заключенных, а потому никогда не обращали внимания на протесты политзаключенного инженера по технике безопасности о способах ведения работ, если последний и осмеливался протестовать, чтобы избежать несчастных случаев с заключенными. На бумаге все выглядело как «неустанная забота» чекистов о заключенных, на деле распространение правил по технике безопасности на концлагеря ничего не изменило в положении заключенных.
В самый разгар капитального ремонта локомобиля электростанции, переоборудования распределительного щита и ремонта электросети Пушсвохоза, когда у меня не хватало суток для надзора за работами и моего личного участия в них, я был вызван в общую часть ОЛП «Пушсовхоз», где был вынужден расписаться в получении выписки из приказа по ОЛП о назначении меня по совместительству инженером по технике безопасности ОЛП «Пушсовхоз». Дич, как это было свойственно его натуре, предварительно не обмолвился со мной ни одним словом по поводу выбранной им моей кандидатуры на эту должность и не посчитался с загруженностью основной работой заведующего электростанцией в момент капитального ремонта ее оборудования. Дич росчерком пера переложил со своих плеч на мои ответственность за несчастные случаи на производстве. Волей-неволей, с очень малым шансом на успех, я все же пошел к Дичу просить об отмене приказа, освободить меня от должности козла отпущения. «Неужели, Меер Львович, - обратился я к Дичу, - Вы никого другого не могли найти на должность инженера по техбезопасности»?! С характерной национальной привычкой отвечать вопросом на вопрос, Дич мне ответил: «А кто у меня в Пушхозе еще инженер»! Я прекрасно сознавала, что я никакой не инженер, лесть Дича мне не была нужна, но в результате я никак не мог ему доказать мое несоответствие возложенных на меня новым обязанностям, Дич уперся и мне пришлось принять эту во всех отношениях неприятную должность.
Дич немедленно дал мне командировку без конвоира на Медвежью гору на инструктаж к главному инженеру по технике безопасности управления ББК. Отрываться от дел, даже на день, мне было совершенно некогда, но проветриться в концлагерной столице, повидаться со старшими друзьями и знакомыми было все же не плохо. Главный инженер по технике безопасности оказался весьма почтенного возраста убеленный сединами, профессор какого-то высшего технического учебного заведения, политзаключенный Ноа, обрусевший чех. Встретил он меня радушно и впоследствии оказался очень милым человеком. Его восторг по поводу моего назначения несколько умерился, когда узнал от меня что к технике я имею отношение только в концлагере, правда уже в течение многих лет, но я не имею диплома даже техника. Поговорив со мной, узнав о моей производственной деятельности в концлагере, он вполне примирился с моим назначением и даже просил передать благодарность начальнику ОЛП «Пушсовхоз» Дичу за быстрое исполнение приказа по Управлению ББК о назначении инженеров по технике безопасности. Подкупило почтенного профессора и знание мною технологии производств Пушсвохоза. Я не умел прикидываться глупее чем я был, не мог скрыть своих знаний. Возможно, в противном случае он отвел бы мою кандидатуру, и я отделался бы от неприятной должности.
От профессора я получил очень толковый и дельный инструктаж в совершенно незнакомой мне области. Знакомя меня с поступившими к нему с мест заполненными актами о происшедших несчастных случаях, как с учебными для меня пособиями, профессор обращал мое внимание на разные ошибки допущенные при заполнении этих актов. По-видимому, с кадрами на местах у главного инженера по технике безопасности обстояло дело плохо, инженерно-технических работников не хватало и на производстве, а потому начальники лагпунктов и отделений либо назначили людей несведущих в технике, которые из рук вон плохо актировали несчастные случаи, либо тянули дело с выделением на эти должности и они оставались вакантными. И назначенные инженеры по технике безопасности не могли бороться с условиями способствующими возникновению несчастных случаев на местах, чем ставили профессора в затруднительное положение и перед начальником управления концлагеря и перед задачей борьбы с несчастными случаями. Мне запомнился один акт о смертельном несчастном случае при производстве скальных работ на строительстве ГЭС на реке Тулома. При взрыве скального грунта отлетевшая глыба проломила крышу кладовой и пробила голову кладовщику. Заключение инженера по технике безопасности на акте гласило: «По собственной неосторожности». Очевидно инженер мыслил, что кладовщику не надо было подставлять голову под летящую глыбу. Были и другие курьезные акты.
Профессор вручил мне литературу по технике безопасности в отраслях производства Пушсовхоза, памятки по технике безопасности в этих производствах, бланка отчетов и актов, заполняемых при происшедших несчастных случаях. Подробно рассказал мне как заполнять последние с минимальным риском для меня. «Как можно больше пишите протокольчиков бесед с заключенными по технике безопасности, как можно больше отбирайте от заключенных расписок об инструктаже их по технике безопасности и все храните», учил меня главный инженер по технике безопасности. «Одним словом, - продолжал он, - чем больше бумажек, тем безопаснее Ваша должность и моя». Профессор уже отлично понял, как и я к тому времени, что чем больше бумажек, тем лучше, тем безопаснее.
Сидя в автобусе на обратном пути в Пушсовхоз вечером того же дня я мысленно перебирал все опасные для меня в моей будущей карьере участки производств Пушсовхоза. Давила новость сообщенная мне добрейшим профессором о судьбе инженера по технике безопасности на судоверфи «Пиндуши», расположенной в нескольких километрах на восток от Медвежьей горы на берегу Онежского озера. Верфь строила деревянные баржи, которыми бойко торговал ББК, строя их рабским трудом из леса добытого тоже рабским трудом. На верфи свалившимся откуда-то бревном убило заключенного, а политзаключенный инженер по технике безопасности за этот несчастный случай получил дополнительный срок заключения в 3 года и был отправлен лесорубом на штрафной лагпункт.
Стараясь отвлечься от мысли о трагической судьбе моего коллеги по новой моей должности, я продолжал прикидывать с какой стороны наиболее вероятно мне может грозить опасность подобная инженеру с судоверфи, на какой участок совхозного и пушсовхозного производства мне надо обратить особое внимание, чтобы уменьшить риск несчастного случая и со мной лично, как следствия несчастного случая с кем-либо из заключенных в какой-либо отрасли производства. На электростанции я и так отвечал бы за аварию непосредственно как заведующий в первую очередь и затем уже за несчастный случай с персоналом при аварии. В этом отношении моя новая должность для меня риска не прибавляла. Меня также не беспокоило, что какая-нибудь корова боднет рогом доярку или черно-бурая лиса укусит какого-нибудь зверовода. Или какой-нибудь из косцов или жниц поранит себя косой или серпом. Всего этого предусмотреть или предотвратить при всем желании я все равно не смог бы. За тракторный парк и кузницу при наличии там Морозова можно было также не беспокоиться. Хуже обстояло дело с лесозаготовками, которые были в отдалении от усадьбы совхоза и потому почти безнадзорными. Там могло упасть подрубленное дерево на лесоруба, придавить кого-нибудь бревном при погрузке готовой древесины. Несколько успокаивал меня малый объем лесозаготовок работавших только для нужд самого Пушсовхоза, а не на экспорт, как в лесозаготовительных лагпунктах. Отсюда там отсутствовали погонные нормы вызывавшие чрезмерную утомляемость лесорубов, следствием которой и являлись несчастные случаи. Мне были известны ранее случаи, когда заключенные доведенные до отчаяния непосильными нормами на лесозаготовках, ужасными жилищно-бытовыми условиями, зверствами чекистов и конвоя, умышленно наносили себе увечья под видом несчастного случая, чтобы, через инвалидность на всю жизнь, только вырваться из ада лесозаготовок. На лесозаготовках Пушсовхоза таких случаев можно было не ожидать.
Кошмаром для меня во все время пребывания в должности инженера по техбезопасности, с самого назначения и вплоть до моего освобождения из концлагеря, было шпалорезка. Этот механизм не поддавался никаким мерам безопасности для предотвращения несчастных случаев с обслуживающим его персоналом. Циркульную пилу шпалорезки не представлялось возможным оградить никакими кожухами, никакими сетками, как это делалось на других станках для уменьшения опасности работающих на них. Через несколько дней после моего прибытия в Пушсовхоз как раз на шпалорезке произошел смертельный несчастный случай, глубоко засевший в моей памяти, и теперь в автобусе всплывший в моем сознании. Заключенный застрял каблуком в ложбине рельса каретки шпалорезки и никак не мог освободить ногу перед надвигавшейся на него кареткой с бревном. Каретка, наехав на заключенного, с силой швырнула его вверх и несчастный, описав дугу в воздухе, плашмя спиной упал на быстро вращающуюся циркульную пилу, вмиг разрезавшую его пополам. Тогда я еще не был инженером по техбезопасности, да и должности такой не было. Но какая была гарантия, что подобный нелепый случай не повторится? А тогда и мне головы не сносить.
В первые, последующие после полученного мною от Ноа инструкции, дни, вперемежку с основными своими обязанностями, я развил бурную деятельность по распространению среди заключенных памяток по технике безопасности в тех отраслях совхозного производства, в которых считалось возможным и обязательным по роду выполняемых работ применение правил по техбезопасности. Вручая памятки, я проводил краткие собеседования с заключенными по отраслям производства с объяснением правил техники безопасности, отбирал у них подписи об инструктаже и все фиксировал протоколами. Наказ почтенного Ноа «больше бумажек» я выполнял с азартом.
В эти же дни я столкнулся с проблемой материальной необеспеченности проведения мероприятий по технике безопасности. По моему указанию, согласно имевшемуся в брошюре по техбезопасности механической обработки металла описанию защитных приспособлений, Морозов охотно оградил единственный сверлильный станок в гараже. Больше предпринимать здесь было нечего. Но на электромонтажных работах дело обстояло хуже. Предохранительные монтерские пояса были у нас с Гюль-Ахмедом. Этим видом техники безопасности концлагеря снабжались давно, пояса уже были в 1929-м году на Соловках. Но резиновых изоляционных монтерских перчаток не было ни на Соловках, ни в Пушсовхозе. Удалось мне их достать только в 1936-м году и то через профессора.
Инженером по технике безопасности ОЛП, а затем и отделения «Пушсовхоз» я пробыл год вплоть до освобождения из концлагеря. За это время произошел только один несчастный случай, который нельзя было скрыть, его пришлось оформить актом, он получил огласку и вошел в месячный отчет. Остальные мои одиннадцать отчетов в графе «количество несчастных случаев» содержали прочерк. Зато каждый месячный отчет содержал сведения об определенном количество проведенных мною бесед и инструктажей по техбезопасности, подкрепленных протокольчиками. Главный инженер по техбезопасности был неизменно доволен мной, а я самим собой.
Исключением из аккуратности по отсылке в срок Ноа отчетов, оказался второй или третий месяц моего пребывания в должности инженера по техбезопасности. Как-то так получилось, что я забыл заполнить бланк месячного отчета и отослать его в срок. Естественно я задержал сводный отчет по ББК и Ноа обратился по телефону к Дичу. Дич, как мне потом рассказал Ноа, наговорил ему кучу комплиментов обо мне, как об исключительно исполнительном и аккуратном работнике и сделал предположение, что отчет затерялся в дороге и пообещал профессору прислать дубликат отчета нарочным. Меня же Дич немедленно вызвал к себе, и дал мне нахлобучку, когда я честно признался ему, что забыл составить отчет, приказал мне составить отчет и дать ему сейчас же на подпись. Через несколько минут отчет я составил, подал на подпись Дичу и последний дал мне командировку без конвоира на Медвежью гору, чтобы я лично вручил отчет Ноа. Я с удовольствием выехал в командировку очередным рейсом автобуса Повенец-Медвежья гора, совершив посадку на развилке дорог Повенец-Пушсовхоз. Через два с небольшим часа я с извинением вручил отчет лично профессору, который встретил меня сердечно, по-видимому я ему еще больше понравился. Повидался я так же со своими друзьями и знакомыми.
Однако надо вернуться к несчастному случаю, который пришлось заактировать. Стоял морозный январь месяц 1936-го года. В середине дня на электростанцию позвонил начальник Лесной части отделения «Пушсовхоз», политзаключенный Сережа Лесли. Это был совсем юный, лет на пять меня моложе, новенький человек в Пушсовхозе, молодой и по стажу заключения в концлагере. Его отец, заключенный Лесли, мой знакомый по Соловкам, начальник Сельхозотдела ББК, благодаря занимаемой должности в концлагере смог выхватить сына из прибывшего этапа и отправил его в Пушсовхоз под крылышко Дробатковского, с которым Лесли-отец был дружен еще по совместной работе в сельском хозяйстве на Соловках. Дробатковский назначил Сережу Лесли начальником Лесной части, которая состояла из одного только начальника и ведала лесозаготовками Пушсовхоза. Лесли-отец был уважаемым чекистами заключенным, как бытовик. Он имел срок 10 лет, как убийца, хотя и невольный, крестьянина на охоте. Лесли-отцу просто повезло, его рано или поздно все равно посадили бы в концлагерь тоже на 10 лет, как помещика и дворянина, но уже по статье 58-й, презренным для чекистов политзаключенным со всеми вытекающими из этого тяжелыми последствиями отбывания срока в концлагерях, уготованным для заключенных по 58-й статье. Лесли-сыну повезло меньше. Ему не удалось, как сыну помещика и дворянина, избежать участи политзаключенного. Попав по призыву в ряды Красной армии, он скрыл свое происхождение и был зачислен в кавалерийский полк, стоявший в Аракчеевских казармах на реке Волхов. Хорошо образованного красноармейца заметило начальство и назначило его в школу младших командиров, которую Сережа окончил на отлично. После отбытия срока обязательной воинской службы, Лесли был оставлен сверхсрочным младшим командиром. Дальнейшее его продвижение на военной службе оказалось для него роковым. Раскопали что он сын помещика и за сокрытие своего происхождения, Сережа Лесли получил срок заключения в концлагерь пять лет по 58-й статье.
Новость сообщенная мне по телефону Сережей Лесли была неприятная. На лесозаготовках произошел несчастный случай с заключенным лесорубом, который находился в медпункте в усадьбе Пушсовхоза и необходимо составить акт о несчастном случае. Я поспешил в медпункт. Заключенный старый опытный ротный фельдшер Русской армии, исполнявший обязанности врача и представлявший собой весь медицинский персонал отделения «Пушсовхоз», уже сделал перевязку колена пострадавшему. Однако, по мнению фельдшера, возможно у пострадавшего была раздроблена коленная чашечка и он нуждался в госпитализации, отправки его в село Повенец, где на территории концлагеря был госпиталь для заключенных Повенецкого отделения ББК. Последнее обстоятельство отрезало нам с Лесли все пути замалчивания случившегося и вынудило нас дать делу официальный ход составлением акта о несчастном случае с расследованием виновных в нарушении техники безопасности. Степень неприятности случившегося увеличивалась еще тем обстоятельством, что лесоруб был стахановцем и притом единственным в Пушсовхозе. За несчастный случай с ним не одна моя голова могла слететь с плеч.
Стахановское движение развернутое по всей стране в 1935 году по имени шахтера Алексея Стаханов, давшего фантастические проценты перевыполнения нормы на добыче угля, являлись политической кампанией усиленно проводившейся во всех отраслях народного хозяйства большевицкой верхушкой с целью увеличения производительности труда. Сами по себе единичные последователи Стаханова, как Петр Кривонос, который будучи паровозным машинистом, стал водить тяжеловесные поезда свыше положенного по мощности паровоза и другие в разных отраслях промышленности и строительства, не могли увеличить выпуск продукции в сколько-нибудь ощутимых объемах. Повышение производительности труда показанное стахановцами вряд ли соответствовало действительности, так как на «стахановских вахтах» к стахановцу прикрепляли ранее отсутствующих при нем нескольких рабочих, как подсобную силу, и по сути выработка стахановца, деленная на всех занятых при нем рабочих в конечном счете давала даже меньшую чем по норме производительность труда. Но в отчетах о подсобных рабочих «забывали» и 150-200% выполнения норм стахановцами стали пестрить в газетах. Каждый хозяйственный партработник на подчиненных стахановцах наживал капитал – продвижение вверх по партийно-хозяйственной иерархической лестнице. Высшее и самое высокое руководство большевицкой партии закрывало глаза на фальшь самого стахановского движения, но широко поощряя его и опираясь на него, добивалось бо́льшей эксплуатации рабочего класса путем завышения уже существующих норм выработки. Перевыполнение норм стахановцами логически обосновывало повышение норм для всей массы. А последнее давало вполне сложившемуся к этому времени государственному капитализму новые возможности выжать больше из всех рабочих, увеличить объем продукции не за счет механизации труда, а за счет интенсификации физического труда, уменьшить себестоимость продукции за счет жизненного уровня трудящихся. Не удивительно, что и в концлагерях высшее начальство давило на низшее с требованием «развертывать стахановское движение», «способствовать стахановскому труду».
Еще в начале второго полугодия 1935 года я услышал разговоры о стахановском движении. Новый начальник отделения «Пушсовхоз» созывал несколько раз руководящих работников на совещания о развитии стахановского движения среди заключенных Пушсовхоза, но воз с места не двигался. Сам начальник не мог толком объяснить в чем заключается стахановское движение и все ходили в потемках по этому вопросу, в том числе и я. «Стакановцы (намекая на любителей выпить) у нас есть, - шутили заключенные, - а стахановцев что-то не встречается».
В такой атмосфере нажима сверху, отсутствия ясного представления на месте о сути стахановского труда, начальство Пушсовхоза руками и ногами ухватились, в дни предшествовавшие описанному выше несчастному случаю, за предложение, ныне пострадавшего, спиливать деревья лучковой пилой. Классическая технология валки леса существовавшая с незапамятных времен на всех лесозаготовках, в том числе и на концлагерных, состояла в спиливании дерева двуручной пилой, которую два лесоруба таскали поочередно от одного к другому. Образно на концлагерном жаргоне, нарочно коверкая слова под украинский или белорусский язык, этот процесс изображался так: «Тибе-мине-прорабу». Внедрение лучковой пилы, которой новоявленный стахановец брался один спиливать деревья, высвобождая с каждого дерева второго заключенного, как бы увеличивало выработку участка вдвое при том же количестве заключенных. Сережа Лесли говорил мне о завышении эффективности этого предложения, поскольку спиливание лучковой пилой требовало бо́льшего времени, чем двуручной пилой. Последним обстоятельством пренебрегли, в Управление ББК полетел победный рапорт с фамилией стахановца-лесоруба, дающего 200% выработки, Лесли было приказано «создать условия для стахановца» и с каждым днем шум нарастал, парадной шумихи казалось не будет конца.
И вот печальный конец шумихи. Нагоняй начальнику отделения из управления ББК, а от начальника по ступенькам Лесли и мне, как только акт о несчастном случае дойдет до Медвежьей горы, был неминуем. При опросе пострадавшего выяснились обстоятельства случившегося: стахановец подпилил дерево и, когда оно стало валиться, ствол расщепнулся и комлем ударило лесоруба в колено. Потерпевший был весьма пожилой человек, почти лысый, но крепкого телосложения и еще физически сильный. Он был бытовик со сроком в пять лет и не отсидел еще и половины срока. Ротный фельдшер оказался не только искусным медиком, но и тонким психологом. Фельдшер уже успел угостить пострадавшего чарочкой спирта и, не столько утихшая боль в ноге после перевязки, сколько влияние алкоголя привели стахановца в добродушное настроение и он без всяких уговоров взял вину на себя, подписав акт о несчастном случае «по собственной неосторожности». Этой милостью пострадавшего Лесли и я были спасены. Со всеми предосторожностями и почестями, отдаваемым знатному лицу, стахановца посадили в сани, и фельдшер повез его в госпиталь.
Я посоветовался с Лесли в отношении могущих возникнуть для нас последствиях этого несчастного случая и Сережа предложил мне немедленно проехать с ним на лесозаготовки, чтобы на месте выяснить более точно все обстоятельства случившегося, проинструктировать десятника на случай возникновения следствия и провести еще один инструктаж лесорубов по технике безопасности.
В скором времени Лесли подкатил за мной на электростанцию на саночках запряженных его персональным конем. Лошадка была выхоленная, можно было сразу понять о принадлежности ее кавалеристу. Впрочем весь конный парк Пушсовхоза был в отличном состоянии заботами самого Дробатковского, кавалерийского офицера в прошлом. На ходу выездная лошадка меня разочаровала, она еле плелась, явно не желая показывать свои возможности, несмотря на все старания Сережи, легким пошлепыванием вожжами подогнать своего скакуна. А ехать скорее нам было бы очень кстати, так как короткий день кончился еще до нашего выезда с усадьбы совхоза и возвращаться ночью не хотелось бы. Правда на небе была круглая луна, так что в лесу, да еще благодаря снежному покрову, было довольно светло.
Шесть километров до лесозаготовок мы проехали около часа. Там уже кончился рабочий день. Лесорубы собрались в бараке, и я провел с ними собеседование, написал протокол собрания, от новеньких отобрал подписи в прохождении инструктажа по техбезопасности и раздал им памятки. Ничего нового об обстоятельствах несчастного случая мы не узнали, Лесли поговорил с десятником, пересказав ему показания потерпевшего. Обратно мы выехали часов в десять вечера. Луна была в зените, и даже в лесу было совсем светло. Мороз крепчал, однако ветра не было и, если бы не осадок от пережитой неприятности, была бы великолепная санная прогулка. Укатанная вывозкой древесины санная дорога была настолько гладкая, что казалось – мы не едем, а плывем на лодке по зеркальной поверхности озера. Несмотря на распространенное мнение о появлении резвости у лошади, когда она идет в конюшню, наш рысак не прибавил скорости на обратном пути и так же не спешил домой, как и из дома, как ни похлопывал его Сережа вожжами, что оказывало на него воздействие лишь на несколько минут, после чего он снова переходил на неторопливую рысь.
И вдруг конь захрапел, прижал уши, рванул и помчался во весь дух. Мы оба чуть не вылетели из саней от резкой перемены скорости. Сережа ухватился за вожжи, я за него. Мы как-то разом посмотрели назад и поняли причину испуга лошади. У нас самих волосы стали дыбом. За нами гнался огромный волк. Он хорошо выделялся на снегу при лунном свете, уже ясно были видны его горящие глаза. Наше спасение было только в быстроте коня. Мы были безоружны – не говоря уже об огнестрельном оружии – у нас не было даже ножа, так как мы были заключенные. Мы выставили из саней с каждой стороны по ноге, чтобы предотвратить перевертывание узеньких саней, хотя на такой скорости, кроме полома ноги, из этой предосторожности ничего бы не вышло. Если бы сани перевернулись, то конь с волочащимися санями должен был бы сбавить ход и стать жертвой волка, но скорее всего мы оба, беспомощно барахтающиеся в снегу, стали бы его легкой добычей. Умереть от волчьих зубов, отсидев в лагере семь лет, было бы просто глупо. По временам, оглядываясь назад, мы с ужасом констатировали все сокращающуюся дистанцию между нами и волком – волк явно нагонял нас, идя галопом. И вдруг через опушку леса, как луч надежды засветились огни усадьбы совхоза. Конь, почуяв жилье человека, напряг все силы, еще увеличил скорость и волк стал отставать. Вихрем мы помчались по дороге через поле и влетели на усадьбу совхоза. Лошадь сама нас повезла к конному парку и остановилась вся в мыле. Мы с Сережей сидели в санях недвижимые, еще не веря в свое спасение.
Мы спаслись не только от волка, но и от последствий несчастного случая со стахановцем. Дела никто не завел, следствия не было.
Но не только в плане собственного спасения, в перестраховке себя от последствий возможных несчастных случаев на производстве протекала моя деятельность инженера по технике безопасности. В одну из поездок в командировку на Медвежью гору, при свидании с профессором Ноа, я ознакомился и списал для себя инструкцию ГУЛАГа ОГПУ запрещающую производство работ на открытом воздухе, во избежание обмораживания заключенных, при температуре воздуха ниже -35* градусов Цельсия. Эта инструкция держалась под спудом, нигде не применялась и количество обмороженных, в особенности ветеранов постройки Беломорканала, было велико. Мне представился случай провести эту инструкцию в жизнь в Пушсовхозе в защиту заключенных, хотя приказ ГУЛАГа о назначении инженеров по техбезопасности и не давал мне таких прав.
Погода в феврале 1936-го года была неустойчива с резкими переходами от теплых дней с почти плюсовыми температурами до сильных морозов около -50* Цельсия по вечерам, ночам и ранним утром. В один из февральских дней я обратил внимание на резкое внезапное похолодание. Утром почти таяло, к полудню термометр уже показывал минус 25* при все усиливающемся ветре. В 2 час дня термометр показал минус 35*. Я взволновался, поскольку при ясной погоде рабочий день в лесу даже в феврале мог продлиться до 5-6 часов вечера и лесорубы могли обморозиться. За заключенных работавших на открытом воздухе в самой усадьбе совхоза я не опасался, так как они могли временами обогреваться тут же в помещениях, но с лесорубами дело обстояло иначе – в лесу негде было укрыться, чтобы обогреться. Чтобы договориться с Лесли о прекращении работ в лесу, согласно инструкции, я стал его разыскивать по телефону. Не оказалось его в управлении, не было и в бараке на лесозаготовках. Помощник начальника отделения по производству Дробатковский был в этот день в командировке в управлении ББК на Медвежьей горе. Я поспешил в управление отделения к Николаю Николаевичу, чтобы обратить его внимание на сильный мороз и просить его дать распоряжение о прекращении работ в лесу. В кабинете его не было, он уже ушел к себе на квартиру. Было уже около 4-х часов дня и по неписанному закону, начальника, как я уже рассказывал, беспокоить на квартире никто не решался. И все же я решился позвонить Николаю Николаевичу на квартиру. Телефон не отвечал. Телефонист на коммутаторе боялся повторить вызов, но все же я его упросил еще два раза повторить звонок. В трубке я услышал пьяный голос Николая Николаевича: «Ну что еще»? Телефонист доложил ему, что звоню я. Я поставил в известность начальника о крепнущем морозе, но он перебил меня недовольным голосом: «Ну и что»? Я попросил разрешение прекратить работу на лесозаготовках. «Делайте что хотите», - пролепетал заплетающимся языком начальник отделения и повесил трубку.
Положение мое оказалось затруднительным. «Телефонный разговор к делу не пришьешь», - говорили заключенные. От разговора по телефону и косвенного разрешения приостановить работу на лесозаготовках начальник отделения мог спокойно отпереться даже только потому, что был пьян и ничего бы не вспомнил. И все же я решился подменить по этому вопросу начальника отделения вольнонаемного чекиста и позвонил на лесозаготовки прекратить работу в лемму. В бараке оказался Лесли, которому я и отдал распоряжение, сказав, что ответственность беру на себя, а если и на следующий день будет ниже 35*, то заключенных в лес не посылать.
На другой день с утра я явился в кабинет к начальнику отделения и доложил о прекращении работ в лесу на основании инструкции ГУЛАГа. Он даже похвалил меня за инициативу, попросил экземпляр инструкции себе и с тех пор все работы на открытом воздухе приказал прекращать в -35*С и ниже, о чем поставил в известность всех заведующих производствами. О нашем телефонном разговоре накануне ни начальник, ни я не упомянули.
Ни пайка ИТР (инженерно-технического работника) ни какого-либо улучшения жилищных условий моя новая должность по совместительству мне не дала. В отношении питания, мне бо́льшего чем я получал в столовой с самого начала и не надо было, так как в столовой наравне с другими меня кормили хорошо и лучшего в концлагерных условиях и желать не приходилось. Единственной компенсацией за нагрузку и дополнительную и немалую ответственность служило увеличенное мне вдвое ежемесячное премиальное вознаграждение. Как заведующий электростанцией я получал 30 рублей, с назначением меня инженером по технике безопасности мне добавили еще 30 рублей. По масштабам концлагеря сумма премиальных в 60 рублей была огромна, я стал получать больше заключенных начальников частей отделения.
К стахановскому движению в концлагерях стоит вернуться в связи с проделанным мною трюком в конце зимы 1935-36-х годов. На широте Пушсовхоза в первую половину года прибывание светлой части дня происходит очень стремительно и сокращение числа часов работы электростанции происходит тоже быстро. В марте месяце электростанция уже работала не более 10 часов в начале месяца и в конце около 9 часов в сутки. Такую работу могла вполне нести одна смена уже в марте, не говоря о дальнейших 5-6 месяцев, когда число часов работы в сутки еще сокращается и даже одна смена остается незагруженной. Мне и в голову не пришло бы сократить персонал электростанции для бо́льшей эксплуатации заключенных моих подчиненных, если бы я не хотел отделаться от бывших моих учеников-уголовников малолеток, зачисленных в штат электростанции на должности по обученным профессиям. На самостоятельную работу электромонтерами они не годились, кочегарами-машинистами они тоже не могли быть, да и не хотели – им надо было труд полегче, а еще лучше ничего не делать. От безделия они стали на глазах разлагаться, совершили кражу в бараке, уйдя с дежурства, но строгих мер против них 3-я часть не предприняла, так как они были «малолетки», то есть несовершеннолетние и их надо было «не наказывать, а только перевоспитывать», как гласил приказ по ГУЛАГу.
Я переговорил с паровозным машинистом и кочегаром, Гюль-Ахмедом и женой Морозова и они согласились с моим мнением о необходимости сократить всех четырех малолеток и остаться вчетвером (я пятый) для обслуживания одной сменой все часы работы электростанции. Я пригласил начальника Культурно-воспитательной части, бесцветную личность, из заключенных бытовиков (Крупняк не удержался начальником КВЧ после падения Дича и перевода Марка и был переведен в какое-то другое отделение ББК) на производственное совещание на электростанцию и внес от имени коллектива на обсуждение принятие стахановских обязательств справиться с работой численно – уменьшенным персоналом до 5 единиц. Резолюция по предложению была принята единогласно, одобрена начальником КВЧ, как председателем штаба социалистического соревнования Пушсовхоза и направлена на утверждение начальника отделения. Взятие стахановских обязательств с сокращением штата на 50% вызвало сенсацию. В управление ББК полетела победная реляция. Общелагерная газета «Перековка» два дня освещала опыт коллектива электростанции Пушсовхоза о переходе на стахановскую работу под большими шапками: «От единичных стахановцев к стахановскому коллективу» и «Распространите опыта стахановского движения на электростанции Пушсовхоза». На третий день газета замолкла, потому что выяснила кто стоит во главе стахановского коллектива: не заключенный-уголовник или бытовик, а презренный контрреволюционер, восхвалять и упоминать о котором не следует. Но все же наравне с начальником отделения «Пушсовхоз» Николаем Николаевичем и начальником КВЧ, отметил и меня начальник ББК Раппопорт в своем приказе по ББК, вынеся нам троим благодарность «за умелое руководство и хорошо поставленную политико-воспитательную работу среди заключенных».
Такой резонанс мое предложение вызвало потому, что после несчастного случая со стахановцем-лесорубом ни одного стахановца в Пушсовхозе так и не удалось создать. А тут, вдруг, появился сразу целый стахановский коллектив, стахановское предприятие. Такого еще не было и на всей территории принадлежащей Раппопорту от Петрозаводска до Баренцева моря. Электростанция Пушсовхоза оказалась первое полностью стахановское предприятие ББК НКВД. Я выбрал удачный момент. И от уголовников-малолеток избавился (всех четырех малолеток с электростанции перевели в полеводство) и политический капитал нажил для себя и своего начальства в Пушсовхозе. И не известно, не сыграл ли какой-нибудь роли этот мой трюк, в благоприятном обо мне отзыве начальства ББК, когда стал вопрос в спецотделе НКВД о моем освобождении из концлагеря, происшедшем меньше через три месяца после объявления электростанции стахановским предприятием?
ВЫЗЫВАЕТ МЕДГОРА
«Вызывает Медгора», доложила мне дежурная по распределительному щиту электростанции в один осенний вечер 1935-го года. «Медгора» сокращенно от названия поселка Медвежья гора, где находилось управление ББК и управление Белбалтлага. Служебные разговоры по телефону с Медгорой у меня довольно редко, но бывали. Мне звонил, заботясь обо мне, мой покровитель главный механик ББК политзаключенный Боролин. Я докладывал ему о работе электростанции, просил об отпуске дефицитных материалов для эксплуатации и электросети. Другие лица начальствующего состава с Медгоры ко мне непосредственно по телефону не обращались. Звонил мне еще через загородную телефонную станцию на Медгоре мой соловецкий друг политзаключенный Н., заведовавший электростанцией в Надвоицком отделении ББК на Беломорканале. С ним мы по телефону болтали на нейтральные темы, делились опытом работы, но главное он звонил, чтобы узнать существую ли я на этом свете, в частности в Пушсовхозе.
Я подошел к телефону и был несколько удивлен, услышав кто на другом конце провода. Мне звонил никогда ранее не звонивший, мой сосед по нарам на Медгоре политзаключенный украинский национал-демократ (эндек). Бывая в командировках на Медвежьей горе в управлении ББК, когда у меня хватало времени, я виделся с ним так же, как и с другими своими знакомыми по концлагерю, но особой дружбы у меня с ним не было. После вежливого вопроса о моем житье у него произошла какая-то заминка, и он извинился, что забыл мое имя, отчество. Мое удивление возросло, но я назвал себя. Тогда он спросил, не учился ли я в городе Нежине. Я ответил утвердительно, так как действительно в городе Нежине я окончил семилетнюю школу и получил среднее специальное образование. Последовала совершенно ошеломляющая фраза: «В таком случае передаю трубку …» и он назвал имя и фамилию дочери директора того самого специального учебного заведения, которое я окончил в городе Нежине.
Первой мыслью у меня было, что и Женя С., дочь директора, не избежала общей участи и я встревожился за нее. «В качестве кого Вы находитесь на Медвежьей горе?», - спросил я с дрожью в голосе. «В качестве жены своего мужа!», - ответила она голосом с ноткой игривости, какая мне запомнилась и сохранилась в памяти несмотря на столько лет нахождения в концлагере. У меня отлегло от сердца, хотя осталось сомнение не муж ли ее находится в концлагере политзаключенным. «Хочу Вас видеть», - продолжала Женя. Это уже было верх наивности, но откуда ей было знать все параграфы концлагерного устава?! «Завтра буду на Медгоре», - ответил я довольно смело для моего положения политзаключенного. Обещание я дал уверенный в отсутствие подслушивания разговоров при новом начальнике отделения и новом начальнике 3-й части. Снова трубку взял мой знакомый эндек и мы условились, что по приезде на Медвежью гору я зайду к нему в Плановый отдел ББК, в котором он работал.
Женю С. я знал довольно мало. Она не была в нашей компании, познакомился я с ней в последний год своей учебы, когда возглавлял старостат учебного заведения и бывал на квартире у ее отца, директора заведения. Она училась на два курса моложе меня. Хорошо знал ее двоюродную сестру, которая училась на одном курсе со мной. И все же этот голос страшно меня взволновал. За ним стоял единственно встреченный мною после ареста человек из того мира, который давно перестал для меня существовать, в реальность которого я уже не верил, видя в окружении себя столько лет только заключенных, одних заключенных, тысячи заключенных. И хотя эти тысячи приходили не откуда-нибудь, а из этого, для меня многие годы потустороннего мира, в его существование как-то не верилось, потому что я не видел как туда возвращаются люди и в свое возвращение туда когда-либо уже тоже не верилось. Это странное психическое состояние нарастало постепенно в течение многих лет заключения и с этой навязчивой идеей я мог показаться ненормальным – человеку не испытывавшему, что значит быть заключенному с большим сроком заключения. Однако в повседневной концлагерной жизни я был безусловно вполне нормальным, по крайней мере никто не замечал, чтобы я был сумасшедшим.
Желание повидать человека с воли, человека с которым я общался, ходил по одной земле в те далекие счастливые времена, когда я был на свободе, было настолько велико, что я решил непременно выполнить обещание данное по телефону, сорвавшееся у меня необдуманно, получить на завтра командировку в Управление ББК под любым предлогом или даже рискнуть поехать без командировки. Последнее обстоятельство могло и плохо кончиться для меня, если бы я попал в проверку документов. Тогда я был бы схвачен, как беглец, с последствиями для меня добавлением срока заключения и отправки на штрафной лагпункт на лесозаготовки. Однако из моих наблюдений о проверке едущих в автобусе по трассе Медвежья гора – село Повенец и обратно, проверка происходила в Повенце перед отправкой автобуса. Однажды, когда мне по делам производства необходимо было быть утром в Повенецких мастерских, а затем в этот же день в управлении ББК на Медвежьей горе, я, после посещения мастерских в Повенце, сел в рейсовый автобус там же. Когда шофер сел на свое место, в автобус поднялась некая личность в засаленной спецовке. Я сидел на первом от входа месте и он мне предъявил свой документ, в котором было сказано, что он оперуполномоченный 3-го отдела Белбалткомбината ОГПУ Вайнер. Об этом еврее я много слышал, как о грозе для беглецов, имевшем на своем счету не один десяток пойманных им беглецов. По прочтении его документа, он попросил меня предъявить мой документ для проверки. Прочтя мое командировочное удостоверение, он им удовлетворился, а другого командировочного, профессора-энтомолога, оказавшегося в автобусе вместе со своей вольной женой, уезжавшей со свидания с мужем из Пушсовхоза, как я уже об этом рассказывал ранее, Вайнер высадил из автобуса. Это был единственный раз когда я в своих поездках подвергся проверке. Очевидно все остальные разы я избегал проверок, поскольку садился в автобус по дороге на развилке дорог Повенец - «Пушсовхоз». А при поездках в Повенец и обратно из него в Пушсовхоз я только раз, как я уже рассказывал, подвергся проверке и то только из-за Жукова. И проверяли не документы, а везомую Жуковым контрабанду. Кстати, как раз в эту поездку я и не имел никакого документа, так как выступал в роли возчика отвозившего инспектора по котлонадзору в Повенец. А возчику документом служила управляемая им лошадь. Возчику, если только ему по служебной надобности не надо было въезжать на территорию окруженную проволокой, командировочного удостоверения не давали. Это не вязалось со здравым смыслом, но было фактом. Точно возчик не мог бежать на лошади, а если осуществлял побег, то должен был бежать обязательно пешком или на каком-либо другом транспорте!
И все же, несмотря на такую безнаказанность поездки на Медвежью гору без командировочного удостоверения, я до сих пор не знаю, рискнул бы я в последний момент на такую поездку без командировки? Скорее всего, несмотря на страстное желание увидеть вольного человека, я бы не поехал. Восторжествовала бы осторожность, рассудок над порывом души.
Итак, в описываемый мною вечер телефонного разговора с эндеком и Женей, положив трубку, я взглянул на часы. Было начало десятого. Чтобы выехать первым проходящим мимо развилки дорог автобусом Повенец-Медвежья гора, мне надо было получить командировку сейчас же, а не завтра утром с 9 часов, когда начнутся занятия в управлении отделения «Пушсовхоз». Беспокоить в такой час начальника отделения по поводу командировки исключалось в силу его образа жизни. Я направился к начальнику Общей части, которого, к счастью, застал в его кабинете. Начальник Общей части был все тот же телеграфист, красный командир, что и при Диче. По своему внутреннему содержанию он не подходил ни к Дичу, ни к Марку, скорее к новому нашему начальнику Николаю Николаевичу и потому был оставлен им в Пушсовхозе на прежней должности. Начальник ОЧ хорошо меня знал, знал мою дисциплинированность и правдивость и потому легко мне поверил, когда я ему рассказал о плачевном состоянии донки (насоса подающего воду в котел локомобиля), которая якобы меня окончательно извела этим вечером, пропуская воду поршневыми кожаными манжетами, которые непременно надо срочно менять на новые. Начальник ОЧ прекрасно знал какой дефицит представлял собой в те годы кусок кожи, а также мое искусство доставать в управлении ББК через главного механика любые дефицитные материалы. Закончил я разговор просьбой меня командировать завтра же, как можно раньше на Медвежью гору, чтобы я успел вернуться с поршневыми манжетами и еще засветло поставить их на донку. Начальник ОЧ имел в своем распоряжении не только бланки командировочных удостоверений, но и несколько их подписанных заранее начальником отделения с приложением печати на случай экстренных командировок. Такой бланк начальник ОЧ и заполнил на мое имя, скрепив его своей подписью. С этим командировочным удостоверением я еще в полной темноте остановил на следующий день утром проходящий на Медвежью гору автобус «Карелавто» и на нем благополучно доехал до Медвежьей горы, выполнив свое обещание Жене.
В 10-м часу утра я уже входил в Плановый отдел ББК на Медвежьей горе. Украинский эндек встретил меня за своим столом, провел в другую комнату к мужу Жени и по дороге признался почему позвонил мне. Причина его звонка лучше не могла проиллюстрировать понятие «случай». Случай и только случай свел меня, пропавшего в дебрях концлагерей для всех моих знакомых моей юности, с директорской дочерью. Я рассказывал какой ловелас был мой сосед по нарам украинский эндек и сколько я переживал за него, когда он исчезал по ночам из барака у представительниц прекрасного пола из вольного населения поселка Медвежья гора. И тут он не удержался, чтоб не начать ухаживать за вольной дамой, женой своего вольнонаемного начальника, за Женей. «Понимаете, - говорил мне эндек, на ходу, - я был у нее на квартире, а муж задержался в управлении, и у нас с ней так вышло, что как-то надо было сделать паузу, загладить полученный мною отпор и я схватился за трубку. Почему мне пришла в голову Ваша фамилия и я попросил у телефониста Пушсовхоз мне самому совершенно непонятно. А услышав Вашу фамилию, она заинтересовалась не Вы ли это, вот так все и вышло»? Такую ситуацию не мог бы придумать и маститый писатель.
Когда при представлении меня мужу Жени, он назвал свою фамилию – Криштофович, я всмотрелся в него и узнал его. Я его встречал и раньше на Медвежьей горе мельком, но никогда не задумывался, что он мог быть из города Нежина где впрочем я с ним не был знаком, и тоже мельком встречал на улицах. Криштофович в городе Нежине был военруком местного Педагогического института, размещавшегося в здании около городского парка, где я встречал иногда его. Тогда Криштофович ходил в военной форме с одним ромбом в петлице, что означало его звание комбриг. Уже тогда он был с проседью, а теперь почти полностью седой, ему было лет под шестьдесят. Разница между супругами в летах была безусловно более тридцати. Эндек осведомился можно ли нам посетить сейчас его супругу, не рано ли? «Может быть, она еще не встала?», - добавил мой сопровождающий. Криштофович весьма любезно попросил меня пройти на квартиру, а эндека показать мне путь.
Женя встретила меня радушно и сразу накормила завтраком (эндек сразу же удалился). Она мало изменилась за те семь с лишним лет, что я ее не видел. Пожалуй, прибавилось важности, но присущая ей ветреность осталась та же. Разговоров не было конца. О моем теперешнем положении, о составе моего «преступления» расспросов не было. И не потому, что моя собеседница знала какая угроза таится для меня в разглашении концлагерных порядков, знала, что преступники не говорят правды о своем деле. Нет, эта ветреная особа, всегда скользившая по поверхности, не могла и подумать, что в положении заключенного, кроме переселения его в места не столь отдаленные, может быть еще более ужасное. Женя поинтересовалась только состоянием моего здоровья, имея в виду перенесенное мною до ареста тяжелое заболевание туберкулезом. Разговор за завтраком и после него во время совместной прогулки по поселку вертелся около нее самой и об общих наших знакомых. По-видимому ей очень импонировало, что на нее девчонку, обратил внимание пожилой военрук с одним ромбом в петлицах. Она принимала его ухаживания (об этом, будучи в городе Нежине, я не знал), мечтая стать красной генеральшей. Мне осталось не ясно, успела ли осуществиться ее мечта до ареста красного генерала? Криштофович был арестован ГПУ в один год со мной в порядке изъятия из учреждений и армии офицеров Русской армии, каким он был, получил пять лет срока заключения в концлагере по 58-й статье. Освобожденный из концлагеря по учету рабочих дней до убийства Кирова в 1934-м году, он остался работать вольнонаемным на том же месте в Плановом отделе ББК, которое занимал последнее время заключенным. После убийства Кирова Криштофовича, как бывшего заключенного уволили, однако он с Медвежьей горы никуда не уехал, переждал волну и его снова взяли вольнонаемным на то же место. Очевидно, он был знающим экономистом и без него не могли обойтись.
Подробности биографии Криштофовича я узнал от супругов уже за обедом, на который пригласила меня Женя и который состоялся у них на квартире после окончания работы в управлении в седьмом часу вечера. А до обеда я еще узнал, что Женя после ареста Криштофовича вышла замуж за своего сверстника какого-то школьного преподавателя физкультуры, от которого у нее двое детей, оставленных теперь ею в городе Нежине у этого мужа. Я остался в недоумении о дальнейшей семейной жизни четы Криштофовичей в свете откровенных сообщений Жени. Забегая вперед, могу только отметить, что худшие мои опасения в отношении супружеской жизни этого симпатичного пожилого человека подтвердились. Когда в следующую командировку на Медвежью гору, я посчитал своим долгом к нему зайти в отдел, я был поражен до чего изменился с виду Криштофович. При виде его осунувшегося, постаревшего еще более, у меня сжалось сердце. Криштофович поздоровался со мной так тепло, точно я был близким ему человеком, пришедшим к нему в трудную минуту, как будто само мое появление пахнуло на него далекими хорошими воспоминаниями. Отведя глаза в сторону, стесняясь и за себя и за поступок своей жены, он объяснил мне, что Женя от него уехала в город Нежин, так как получила телеграмму от своего мужа (он так и сказал через силу «мужа», очевидно полагая, что мне можно все рассказать) о заболевании ребенка скарлатиной.
Так ли это было на самом деле или это был эпизод из вечной проблемы треугольника (два мужчины, одна женщина в данном случае), но через некоторое время в Пушсовхоз пришло от Жени письмо, в котором она жаловалась на свою судьбу поставившую ее перед выбором двух мужей и просила моего совета. По концлагерному уставу я не имел права писать кому-либо, кроме своей матери. Но я все же ответил Жене нелегально, опустив письмо на Медвежьей горе в одну из своих последующих командировок. Я посоветовал Жене, чтобы ее дети были со своей матерью, а выбор одного из мужей для постоянного проживания предоставил ей самой. На это письмо ответа не последовало. Когда я был освобожден из концлагеря, я написал письмо Жене, но ответ не приходил больше года. В ответном письме она изобразила себя, как несчастную женщину, оставшуюся с двумя детьми одной. Письмо насторожило меня, и я решил не рисковать ответом на него. Кончался 1937-й год. Может быть, отец ее детей бросил ее, а может быть физкультурник и был посажен. Последнее предположение и удержало меня от ответа, чтоб не было лишнего предлога снова меня сажать за знакомство с женой посаженного. К сожалению, мое второе предположение оказалось верным. Когда в 1938-м году я был проездом в городе Нежине, я узнал от старых знакомых моей бабушки об аресте и заключении в концлагерь физкультурника Жени. И я предпочел с ней не видаться из тех же соображений осторожности. Дальнейшая судьба Жени С. мне не известна, так же, как и судьба Криштофовича. Или Женя, оставшись одна, к нему не поехала, или он ее снова не принял, или вполне возможно, что снова в эти страшные годы был посажен за проволоку с новым сроком заключения.
Однако не мотание Жени между двумя мужьями так поразило меня при этом свидании с ней на Медвежьей горе, мотание, которое могло быть и не характерным для падения нравов за годы моего заключения в концлагерях, так как единичные аналогичные случаи бывали и раньше и не столь могли зависеть от социальных условий. Меня поразило и перевернуло всю душу другое, когда разговор с Женей коснулся наших общих знакомых по городу Нежину. В городке мы знали почти все друг друга вследствие малочисленности населения. Знали друг друга не только молодежь учившихся в семилетках, которых было всего две на город, но и все старшее поколение, отцов и матерей своих сверстников. И кого только я или Женя не вспоминали, как тут же Женя мне рассказывала, что на протяжении последних лет такой-то был арестован ГПУ, посажен в концлагерь или расстрелян или отправлен в ссылку. С улицы, где я жил и где было всего 13 домов, в которых проживало не более 15 семейств и где я знал всех мальчишек моего возраста и старше, большую часть их постигла эта участь. Кого арестовали в городе Нежине, кого в Москве, кого в Киеве. Из знакомых моих сверстников по городу тоже почти никто не уцелел. Не пощадили и интеллигентов старшего поколения, тех, которые не бежали при отступлении на юг Добровольческой армии генерала Деникина, решив отсидеться по домам, и которые сотрудничали с большевиками. В большинстве это были украинские националисты, которые враждебно относились к лозунгу генерала Деникина «Единая и неделимая Россия». Этим, так называемым «самостийникам», от украинского слова «самостiйнiсть», то есть независимость, хотелось видеть Украину независимую, отделенную от Русского государства в самостоятельное государство, которым они правили бы на принципах демократии. Такими самостийниками были отец Жени С., его брат, врач по профессии, заведующий 1-й советской трудовой школой (семилетка, в которой я обучался) Данчевский и многие, многие другие интеллигенты и полуинтеллигенты мечтавшие за свои политические убеждения получить во вновь образованном государстве командные должности, заменив старое русское чиновничество и большевицких комиссаров.
Истребление интеллигенции на Украине произошло в более сжатые сроки, чем в Российской федерации и к 1931-32-у годах было почти закончено. На Украине, так же как и по всей стране, ОГПУ, для целей ареста интеллигентов, причисляло их к бесчисленным создаваемым самим же ОГПУ, так называемым, контрреволюционным организациям «вредителей», «антисоветчиков» местного и общегосударственного масштаба, как например, «Промпартии», «Трудовой крестьянской парии», «Бюро социалистической партии». На Украине к сонму этих бесчисленных мифических организаций была прибавлена еще одна: «Спiлка визволення Украiны», сокращенно «СВУ». В переводе на русский – «Союз освобождения Украины». Зная националистические тенденции очень развитые у украинских полуинтеллигентов, в особенности среди сельских учителей, работников потребительской и промысловой кооперации, работников советского аппарата, можно предположить, что в отличие от вышеописанных дутых организаций, «СВУ» действительно существовала и сочувствующие ей имелись в каждом населенном пункте, больше в селах, чем в городах. Организационно вряд ли ячейки были как-то связаны между собой и сомнительно, чтоб «СВУ» проводила какую-нибудь агитационную работу среди населения. И этот тлеющий трут без пороха был использован ОГПУ для поголовного изъятия с Украины городской и сельской интеллигенции и полуинтеллигенции. Дело «СВУ» ОГПУ представило как потушенный им всеобъемлющий пожар, охвативший не только всю Украину, но и захвативший на Кубани казаков-черноморцев украинского происхождения. Вслед за кампанией раскулачивания на Украину обрушился новый шквал арестов. В короткий срок Украина осталась без национальных кадров.
В этот шквал и попало большинство наших общих знакомых. По «Делу СВУ» были высланы с семьями отец и дядя Жени, первый в Бологое, где он стал заведовать педагогическим техникумом, второй поступил врачом в больницу в городе Калинине. Заведующий семилетней школой, в которой я учился, Данчевский был заключен в концлагерь. И так далее и тому подобное. О судьбе большинства арестованных в городе Нежине ничего не знали. По дошедшим до меня впоследствии сведением лица попавшие по «Делу СВУ» и отделавшиеся на «первом этапе изоляции» высылкой из родных мест в пределы Российской федерации на «вольное поселение», в 1937-39-х годах были снова арестованы по месту ссылки и разделили участь местных жителей. Ссылка оказалась лишь нечто вроде пересыльной камеры перед заключением в концлагеря или расстрелом. Точных сведений о дальнейшей судьбе отца и дяди Жени мне не удалось собрать, но вряд ли долго заведовал первый и лечил второй.
После затянувшегося в разговорах обеда у Криштофовичей, я в сопровождении их дошел до автобусной станции и тепло распрощавшись с ними уехал с Медвежьей горы последним рейсом автобуса. Днем я успел забежать в отдел главного механика и получить отметку на командировочном удостоверении.
Удрученный, с тяжелым сердцем, я ехал в автобусе в тот вечер с Медвежьей горы. В автобусе я никак не смог собраться с мыслями, да и ночью в своей комнате на электростанции я долго не мог уснуть. Даже когда нашему автобусу по дороге грозила опасность перевернуться в кювет, я как-то вяло реагировал на опасность и не отметил в себе ни ужаса перед катастрофой, ни радости по поводу спасения. А перевернуться мы могли, так как неожиданно встретились с громадным лесовозом, и было совершенно непонятно, как наш шофер смог благополучно разминуться с такой громадиной на узкой дороге. Такой лесовоз я видел впервые, значительной высоты, он вез штабель лесоматериалов в мощной раме, закрывающейся снизу, как бы под собой. Ширина этой рамы с везомым штабелем была больше половины уложенной части, которая безусловно не могла нормально пропускать такие лесовозы при встречном движении. Но дорожная инспекция пасовала перед таким грозным предприятием, как ББК, потому что ББК принадлежал ОГПУ, не посмела запретить движение этих лесовозов по проезжей магистрали и обезопасить пассажирское движение и предотвратить катастрофы с грузовым транспортом. Инспекция предпочитала показывать свою власть над шоферами «Карелавто», не подчиненного ОГПУ, чему я был свидетелем в одну из своих других поездок в командировку на Медвежью гору и о чем я еще расскажу поподробнее.
Свидание с моей Молодостью оказалось для меня не радостным. Я совершенно не подозревал, что где-то в глубине сознания, как-то подсознательно у меня теплилась какая-то надежда на возвращение в мир, в действительности навсегда потерянный мною, в тот мир, в котором я должен был проснуться от кошмара последних лет и зажить прежней счастливой жизнью, жизнью моей молодости. Для меня, поглощенного в концлагере ежедневной борьбой за существование, за то, чтобы как-нибудь, но выжить, это представление о мире, из которого я был так жестоко выхвачен, застыло для меня в неподвижности, в милых образах моих сверстников, во всем укладе тогдашнего образа жизни. Это представление о потустороннем для заключенных мире было совершенно не реальным, потому что формы уклада жизни так быстро менялись в нашу бурную эпоху и, если бы мои друзья молодости даже остались на свободе и я после освобождения свиделся бы с ними, вряд ли мы нашли что-нибудь общее, слишком различными путями мы прошли эти семь лет разлуки. Однако этот миф о возможности вернуться к старому укладу жизни, жизни освещенной радостью молодости и дружбы со сверстниками, оказывается настолько прочно засел во мне, давая силы на борьбу за жизнь, за возвращение, что теперь я почувствовал себя обессиленным. Новости услышанные мною от Жени об отсутствии на воле моих друзей погрузила меня в такую пучину безнадежности, что я впервые поставил перед собой вопрос: а стоит ли вообще освобождаться, в чем собственно прелесть жизни на воле, когда там никого, никого не осталось? Сердце мое было привязано здесь, потому что Она была в концлагере, с Ней вместе освобождаться? – Да это стоило бы и надо было. И только сознание долга перед матерью страстно ждавшей моего освобождения из концлагеря, ради этого только и живущую, заставило меня побороть эту нахлынувшую на меня усталость от жизни и снова собрать воедино свою волю выжить обязательно, выжить во что бы то ни стало до дня освобождения, который когда-то все же должен наступить, не терять веры в этот грядущий день.
И все же впоследствии, когда я был освобожден из концлагеря, потусторонний для заключенного мир предстал передо мной не таким уже пустынным, я несколько ошибся в тот мрачный вечер переживаний под влиянием полученных мною новостей. У меня были даже хорошие встречи с друзьями детства и юности и не так уже я с ними разошелся духовно за десятилетие, как я предполагал. Будучи в однодневной поездке в Ленинграде вскоре после освобождения, я на улице встретил одного «мальчишку» с нашей улицы. Я его узнал, он меня нет, но от этого встреча наша была не менее теплой. Он за несколько лет до меня благополучно уехал из города Нежина, окончил Институт инженеров путей сообщения и работал на Ленинградском железнодорожном узле. Правда, уже с 1935-го года он чувствовал себя неуверенно, признавшись, что ждет ареста. И «данные» к этому, как он мне рассказал, были. Половина инженеров его выпуска уже сидели в концлагерях или были расстреляны, как «вредители-предельщики» («вредителями-предельщиками» официально назывались те железнодорожники, которые осмелились указать на недопустимость эксплуатации паровозов и пути сверх расчетных данных, в частности при вождении тяжеловесных составов), он сам был единственный дворянин уцелевший пока из их курса. А его двоюродный брат, тоже из нашей компании, окончивший в Киевском университете юридический факультет, остался в городе Нежине, и, будучи секретарем окружного прокурора и членом большевицкой партии, был расстрелян, как троцкист. В 1939-м году я встретился тоже в Ленинграде с одним своим однокурсником по средне-специальному заведению из города Нежина. Я его не узнал, он меня узнал и подошел ко мне. Я уже рассказывал, как я в начале ареста думал, что меня посадили из-за него, так как он сел раньше меня, но из-под следствия был освобожден без последствий. Хотя прошло 11 лет, как мы с ним не виделись, встреча была очень теплая. Связь с первым я потерял в 1937-м году, со вторым в начале войны. Несмотря на эти две встречи, чем больше проходило времени после моего освобождения, тем больше оправдывалось мое первоначальное предположение о пустоте на, так называемой, Воле.
Поездка моя на Медвежью гору, чтобы повидать Женю, оформленная командировкой, была единственной для удовлетворения моих личных желаний. Все остальные поездки на Медвежью гору по командировкам вызывались производственной необходимостью. В Управление ББК на Медвежью гору меня посылал Дич и сам я просил послать меня, в особенности, когда Дича сменил Николай Николаевич, для получения дефицитных материалов по ремонту и эксплуатации, сначала машинного парка совхоза, затем электростанции и электросети. Производственная необходимость командировок не означало, что командировки были для меня не приятны, что ездил я только из подчинения дисциплине. Наоборот, в командировку я просился и ехал с громадным удовольствием, хоть на день оторваться от повседневных забот, повидать своих друзей политзаключенных оставшихся на Медвежьей горе, не прерывать общение со своими покровителями Боролиным и Лозинским. А как умиротворяющее действовала тишина темной тайги, когда возвращаясь последним рейсом автобуса с Медвежьей горы, я слезал на развилке дорог на Повенец и Пушсовхоз, удовлетворенный результатами достигнутыми для производства, и шел один одинешенек по еле заметной в темноте дороге до Пушсовхоза. Кроны могучих сосен еле шевелились, заслоняя то одну, то другую звезду, а небо, если не было покрыто низкими тучами, своей бесконечностью смягчало масштаб страданий, как-то делая их незначительными в сравнении с величиной Вселенной.
Безлюдие в лесу освобождало от чувства вечно ощущаемой за тобой слежки, просто от круглосуточной толчеи в людской массе, реакцией на которую возникало желание побыть одному, собраться с мыслями, продумать что-либо до конца, даже помечтать или вообще ни о чем не думать, без риска быть прерванным в такой блаженный момент вторжением все время окружавшей среды. Ложкой дегтя в бочке меда была бы посылка меня в командировку с конвоиром. Тогда я и сам отвиливал бы от таких командировок или число их свелось бы к минимуму, так как для меня вряд ли находился свободный солдат ВОХРа, чтобы меня сопровождать. Эта езда под конвоем лишила бы меня возможности видеться с друзьями и лишний раз напоминала бы о моем подневольном положении («шаг вправо, шаг влево – конвой стреляет без предупреждения»), которое не так остро я чувствовал, повседневно находясь в составе концлагерной элиты. По-видимому, я пользовался доверием даже у Дича, так как в моем личном деле за столько лет пребывания в концлагере не было никаких компрометирующих меня записей, хотя бы косвенно указывающих на склонность к побегу. Кроме того с переводом меня в Пушсовхоз мне пошел уже седьмой год заключения, что при номинальном восьмилетнем сроке официально давало чекистам гарантию, что я не сбегу. Только на ночь я был обязан непременно возвращаться из командировки в Пушсовхоз.
Процесс передвижения из Пушсовхоза на Медвежью гору был несложный. От усадьбы Пушсовхоза надо было пройти метров триста по дороге упиравшейся в тракт Медвежья гора – Повенец, по которому курсировали от Медвежьей горы до Повенца и обратно по расписанию автобусы Белбалткомбината ЛГПУ и автотранспортного предприятия «Карелавто». Заключенным по командировкам разрешалось ездить на автобусах обеих фирм. Плата за проезд была пять рублей на тех и других автобусах и оплачивалась вместе с суточными финчастью наравне при предъявлении билетов. Выйдя на тракт ко времени прохождения автобуса, стоило только поднять руку при приближении автобуса и шоферы тех и других автобусов останавливали машину и подбирали меня. Шоферы исполняли обязанности и кондукторов. На автобусах ББК почти все шоферы были заключенные, досиживавшие срок. Автобусами ББК пользовалось и вольное население Карелии и в автобусах обеих фирм происходило смешение вольных людей с заключенными, причем было трудно определить, за исключением женщин, кто заключенный кто вольный гражданин. Заключенные командировочные обычно ездили в гражданской одежде, почему и сливались с вольными. Выделялись одеждой только заключенные чекисты и бывшие красные командиры в гимнастерках, шинелях, фуражках или буденовках. За вольнонаемных чекистов их принять было нельзя, так как у них отсутствовали красные звезды на головных уборах и красные петлицы на одежде.
Тракт представлял собой довольно узкую гать из поперечных бревен утрамбованную вручную и колесами автомашин смесью песка с гравием заполнявшей углубления между круглыми бревнами. Большая часть этого дорожного покрытия была проложена по болотистой почве, в которую постепенно погружались бревна, а на них накладывался новый слой с очередным заполнением пустот. Тракт в теплое время постоянно ремонтировался дорожными бригадами из заключенных и все же его состояние было плачевное. Тракт изобиловал рытвинами, ухабами от неравномерно погрузившихся в болото бревен гати. Такое состояние гати вызвало один инцидент, свидетелем которого я был.
Я ехал в командировку на Медвежью гору чтобы договориться с инспектором по котлонадзору о дне приема локомобиля электростанции. На этот раз меня подобрал автобус «Карелавто». На нашем пути как-то оказалось больше рытвин по правой части гати, по которой по правилам мы должны были ехать. Наиболее избитой эта правая часть гати по направлению следования автобуса, вероятно, была вследствие движения по ней груженых лесом лесовозов на станцию Медвежья гора, в то время как возвращались они пустырем, менее тяжелыми и потому левая от нас сторона была менее избита. Шофер, щадя машину и пассажиров, пользуясь отсутствием встречных машин объезжал рытвины и большей частью ехал против правил по левой стороне, одновременно развивая и бо́льшую скорость. Во время одного из таких проездов автобус был властно остановлен каким-то субъектом в полувоенной форме с кобурой на ремне. Тормозя, автобус отъехал от него на некоторое расстояние и остановился. Шофер, вольный карел, высунувшись со своего места, вопросительно смотрел на остановившего автобус чина, который ленивой походкой направился к нам.
Эта задержка меня крайне не устраивала, так как автобус по расписанию приходил на Медвежью гору к началу занятий в Управлении ББК, когда я мог с уверенностью застать инспектора котлонадзора, обычно находящегося затем в разъездах. Успех цели моей командировки всецело зависел от прибытия автобуса без задержки и я сидел как на иголках, но протестовать я не посмел. За меня это сделал один из пассажиров в морской шинели и фуражке без знаков различия. С большой бородой, пожилой, он выглядел бывалым моряком. Вероятнее всего это был морской офицер Императорского флота, политзаключенный, или оставшийся после окончания срока вольнонаемным на большом посту на Беломорканале. Он высунулся в окно и прокричал неспешившему типу: «Если остановили автобус, то по крайней мере поторапливайтесь объяснить в чем дело, я опаздываю с докладом к Раппопорту (начальнику ББК)»! Чин не обратил никакого внимания и не прибавил шагу. Моряка дружно поддержали несколько мужчин в гражданской одежде, очевидно, командировочные заключенные, обрадовавшиеся случаю излить свою ненависть хоть и не на чекиста, но на фигуру похожую на него. К общему хору присоединилось и несколько карелок, осмелевших от выраженного мужчинами негодования. Посыпались насмешки: «А зачем у него пистолет»? – «От воров»! Чин подошел к шоферу и начал его отчитывать за езду по левой части дороги, намереваясь его оштрафовать. «Лучше следили бы за состоянием дороги, - снова возмутился моряк, - предъявите Ваши документы, я буду жаловаться Раппопорту»! Властный тон и респектабельная внешность беломорканальца возымели действие. Инспектор погрозил еще шоферу и отступил от автобуса.
Как ни странно, но поездки командировочным в автобусе дали мне больше наблюдений над местным вольным населением, чем пребывание в самом центре города Кеми в течение более года. В городе я был отгорожен от вольного населения не проволокой, а, невидимо, уставом концлагерей, воспрещающим общение заключенного с вольными людьми, почти полным отсутствием точек соприкосновения с ними. В автобусе я как бы вливался в общую массу пассажиров, был пассажиром в каждую поездку, сидя в течение более часа рядом с вольными местными жителями, слушая их разговоры, узнавая их заботы и чаяния. А нигде, как в дороге можно лучше изучить человека. В г. Кеми население делилось на русских, так называемых поморов, и карелов, национальности родственной финнам. Полугородская жизнь нивелировала особенности национальностей. На тракте Медвежья гора – Повенец в автобусах ездили преимущественно жители близлежащих деревень и сел – чистокровные карелы. Пассажиры других национальностей были представлены почти исключительно заключенными командировочными, правда по одежде в большинстве не похожие на заключенных. Почти неограниченные просторы необжитого края, отдающего годные для сельского хозяйства участки только после приложения большого труда, с одной стороны накладывали отпечаток свободолюбия и независимости на местное население, с другой закаляли его из поколения в поколение в отвоевании этих участков для земледелия и главным образом для скотоводства. И все же главное занятие этих мужественных, замкнутых, знающих себе цену людей, было рыболовство, охота, сбор ягод и грибов, о чем и велись дорожные разговоры.
В одну из таких поездок я ехал с двумя молодыми людьми, назначенными после окончания педагогического техникума учителями в школы карельских деревень. Уроженцы города из средней полосы России, комсомольцы, они находились в полном смятении и излили мне все накипевшее в них за их еще краткую деревенскую жизнь. Не знаю за кого они меня приняли, только не за заключенного, и были со мной откровенны. Их рассказы только подтвердили мои наблюдения о стойкости старых устоев сохранившихся в карельских деревнях, которые не поколебали ни революция, ни коллективизация, никакие другие перемены, не оставившие камня на камне в центральных областях России, на Украине, в Белоруссии, отчасти в Сибири. Соблюдение старых обрядов, нетронутый фольклор, религиозность старообрядческого уклада, почитание старших по возрасту казались комсомольцам проявлением дикости и опрокидывали их представления о победной поступи социализма и, даже, о преимуществах происшедших всюду перемен социальных условий.
В личных целях я использовал командировки не только, чтобы повидаться с друзьями на Медвежьей горе. Однажды я проник к прокурору по надзору за деятельностью ОГПУ, чтобы выяснить свою судьбу. Институт таких прокуроров существовал во всей стране. При каждом ГПУ такой прокурор существовал. Как он наблюдал за деятельностью ГПУ неизвестно, но носил он почему-то тоже форму ОГПУ. При управлении Соловецкого концлагеря, ни когда оно было на Соловецком острове, ни даже, когда оно было в городе Кеми, такого прокурора не было. Это вполне соответствовало полному отсутствию даже формальной законности в концлагерях, где заключенные были отданы на произвол чекистским тюремщикам и никто в стране, какое бы высокое положение он не занимал, не мог и помыслить вмешаться в действия тюремщиков. У меня в сознании глубоко запало первое приветствие концлагерной администрации обращенное к нам, только что прибывшим в 1929-м году на Кемперпункт, заключенным: «Вам здесь не тюрьма, здесь лагерь особого назначения ОГПУ и здесь вас никакой прокурор не услышит»!
Поэтому во мне вызвало большое удивление, когда я случайно в разговоре с кем-то в управлении ББК узнал о существовании при управлении ББК-Белбалтлага прокурора наблюдающего за деятельностью ОГПУ. У меня сразу возникла мысль обратиться к этому прокурору лично, и только лично, так как заявление посланное ему из Пушсовхоза было бы, безусловно, перехвачено и не дошло бы до прокурора. Была уже середина лета 1935-го года, когда при сохранении мне зачетов рабочих дней я должен был уже несколько месяцев находиться на свободе. Теплилась надежда на возвращение отнятых у меня заработанных рабочих дней при вмешательстве прокурора и тогда я буду немедленно освобожден из концлагеря.
В одну из последующих командировок на Медвежью гору в июле 1935-го года я осуществил свой замысел. Дела в управлении ББК я закончил быстро, у меня оставалось много времени до вечера и я рискнул. Некоторые колебания во мне вызвало пребывание прокурора наблюдающего за деятельностью ОГПУ в здании управления концлагеря, да еще в 3-м отделе Белбалтлага, этом ОГПУ в концлагере ОГПУ. Мне казалось, что прокурор должен был опротестовывать действия ОГПУ, а тут он был, находясь в здании концлагеря, в полной зависимости сам от поднадзорных. Кроме того мне очень не хотелось идти в здание 3-го отдела, следственного и информационного, по своей воле. И все же я себя пересилил, потому что надо было воспользоваться и этой возможностью.
После зимы 3-й отдел переехал в отдельное двухэтажное новое здание, в двери которого я и вошел. В вестибюле я был озадачен встретившись лицом к лицу с дежурным комендантом вольнонаемным чекистом в форме ОГПУ без знаков различия. Я обратился к нему с просьбой пропустить меня к прокурору. Все оказалось проще, чем я думал. Я был одет во все гражданское, как всегда ездил на Медвежью гору, даже галстук бабочкой выглядывал в отворотах воротника толстовки и не вызвал никакого подозрения у коменданта. Уже настало время, когда стали встречать по одежке. Комендант спросил мою фамилию, снял телефонную трубку и доложил прокурору о моем желании, назвав мою фамилию. Выслушав ответ, комендант выписал мне пропуск, не спросив документа, и объяснил, как пройти к прокурору. Никакой очереди у кабинета прокурора на втором этаже не оказалось, и на мой стук в дверь я получил разрешение войти. Прокурор оказался средних лет брюнетом, ничем не примечательным, явно скучающим от безделья. Форма ОГПУ сидела на нем как-то мешковато, но меня поразило отсутствие знаков различия в петлицах гимнастерки. Я поздоровался и подошел к столу, положив на него свой пропуск. На приветствие прокурор мне не ответил, сесть не предложил, а спросил: «Что у Вас»? – «Я считаю, что пересиживаю в лагере …», - начал я. Прокурор не дал мне договорить и перебил меня: «По какой статье сидите»? «По 58-й», - ответил я. «Не пересиживаете», - махнув небрежно рукой, ошарашил меня прокурор, взял мой пропуск, подписал его, чтоб дежурный выпустил меня из здания, протянул его мне: «Можете идти».
Более краткого разбирательства жалобы прокурорским надзором трудно было представить. Моя затея с треском провалилась, хорошо еще что ноги унес из этого здания. Мне стало ясно, что политзаключенных даже после окончания ими концлагерного срока заключения не собираются освобождать из концлагеря. Все говорило за то, что после убийства Кирова мы превратились в пожизненно заключенных.
Однако если мое посещение прокурора и не сдвинуло с места дело моего освобождения из концлагеря, оно возымело другое, благоприятное для меня воздействие на чекистов Пушсвохоза. Едва по возвращении из командировки я появился в коридоре управления ОЛП «Пушсовхоз», ко мне навстречу устремился оперативник «Б» с пачкой писем от матери, от которой я не получал уже около двух месяцев писем и страшно беспокоился о ней. «Извините, - говорил мне оперативник, передавая пачку писем, - как-то залежалось в цензуре и нам было ни к чему. Вас просил зайти к нему начальник лагпункта». И извинение исходящее от оперативника 3-й части и вместо «приказал» - «просил» - все было что-то необычное. Радостный от получения писем от матери я влетел в кабинет к Дичу. Он сидел за столом, по обыкновению, несколько боком и накинулся на меня: «Вы что жаловались прокурору на меня! Что Вам плохо живется у меня?! Вы мне бы сказали, ведь я к Вам хорошо отношусь, я все для Вас бы сделал»! Я оторопел от такой встречи и не столько от крика Дича, сколько от быстроты полученного им известия о моем заходе к прокурору. Не прошло и трех часов как я был у прокурора. Ну и слежка, только и осталось мне подумать, ну и оперативность! Ясно было, что сообщение Дич получил по телефону и скорее всего от своих дружков из 3-го отдела, возможно видевших меня входящим к прокурору или выходящим от него. В то же время эта была самодеятельность дружков Дича, иначе они бы знали повод моего посещения прокурора и Дич так не испугался бы моего демарша. Дич был на меня зол и в то же время явно трусил, что я мог наговорить на него. Рыльце у Дича было в пушку, он прекрасно это и сам чувствовал.
«Да что Вы, Меер Львович, совсем я ни на кого не жаловался, - старался я его успокоить, - мне очень хорошо у Вас живется, я очень Вам благодарен за Ваше отношение ко мне, я выяснял у прокурора вопрос об окончании своего срока». Дич сразу смяг и успокоился. Он знал, что я хитрить не умею, и поверил мне. Затем весело мне ответил «Ну что Вы право беспокоитесь, я сам слежу и навожу справки, чтобы Вы не пересидели, но сейчас, сами понимаете, такое положение, что даже и мои хлопоты за Вас ни к чему не приводят». Дич, конечно, врал, да еще и прихвастнул. Я вполне был уверен, что никаких справок он не наводил и, конечно, не хлопотал за меня, да и, подумаешь, какая он был персона, чтобы на его хлопоты обратили внимание. А вот задержка писем от матери было незаконным притеснением меня и было дело рук Дича и Марка за мой категорический отказ быть у них стукачом. И с точки зрения производства момент для задержания писем ими был выбран просто глупо, так как отсутствие писем меня очень нервировало как раз тогда, когда я должен был развить всю энергию на скорейшее производство капитального ремонта локомобиля электростанции и электросети, без которого Пушсовхоз в целом страдал бы и дальше от темноты. Но что Дичу и Марку было до благополучия производства подчиненного им Пушсовхоза?! У этих голов с на сторону свернутыми мозгами на первом месте была чекистская работа, слежка за политзаключенными, их удушение, а не производственная деятельность ОЛП. «А все-таки прокурора побаиваются», вывел я заключение из испуга Дича и вручения мне задержанных писем.
Но не только лично для себя я попутно использовал командировки на Медвежью гору, но однажды и на благо всего персонала электростанции. Как-то в октябре 1935-го года, находясь в командировке, я зашел в отделе главного механика к инженеру-экономисту, моему хорошему знакомому Иванову-Смоленскому, чтобы лично отдать месячный отчет работы электростанции Пушсовхоза. Он всегда радушно меня встречал, а на этот раз еще и показал приказ по ГУЛАГу о переводе концлагерных предприятий на хозяйственный расчет.
Направление данное концлагерям Натаном Френкелем становилось все более ощутимым. Проводимый им в жизнь принцип превращения концлагерей из потребляющей отрасли в производящую не только для самоокупаемости ее, но и для выкачивания из рабского труда все бо́льших доходов в государственную казну, расширился теперь и на подсобные предприятия внутреннего потребления концлагерей с тем, чтобы еще больше сократить расходы на содержание концлагерей и тем самым понизить себестоимость продукции концлагерей. Из полученного мною от Иванова-Смоленского приложения к приказу, касающегося электростанций, становилось очевидным, что на этот раз и к заключенным был применен способ «пряника». Обращалось внимание начальников концлагерных подразделений (отделений, лагпунктов) на высокую себестоимость киловатт-часа, взвинчивавшего стоимость содержания концлагерей и стоимость выпускаемой продукции. А так как главной составляющей стоимости электроэнергии было топливо и смазочные масла, предлагалось вести борьбу за экономное расходование этих материалов и, чтобы заинтересовать заключенных в эффективной экономии, выплачивать поквартально обслуживающему электростанции персоналу, сверх премиальных денег за перевыполнение норм выработки, 50% стоимости сэкономленных материалов.
Я разу ухватился за приказ и приложение к нему касающееся электростанций. От персонала я скрыл пункт о премии за экономию смазочных масел, считая последнюю вредной для производства, влекущей за собой не только повышенный износ трущихся деталей машины, а, следовательно, и сокращение срока их службы и отсюда повышения расходов на их ремонт и замену, но и возможность больших аварий, устранение которых тоже влетит в копеечку, не говоря о хлопотах с ремонтом и опасности репрессий чекистов против допустившей аварию дежурной смены и заведующего.
Пункт о премировании за экономию топлива я тщательно проработал с машинистами и кочегарами, от которых зависел режим работы локомобиля. Заработать хотя бы несколько рублей сверх обычных премиальных денег очень заинтересовало моих подчиненных и в ведении топки котла локомобиля появились новые черты. Машинисты перестали бездумно погонять кочегаров в форсировании топки, когда при снижении нагрузки в этом не имелось никакой необходимости, отчего прекратилось травление избыточного пара через предохранительный клапан котла. Кочегары чаще регулировали тягу шибером в дымовой трубе, в которую теперь не выносилось избыточное тепло, и она не выбрасывала густой дым. Более эффективно работала топка, переделанная по типу шахтной, вследствие более регулярной загрузки кочегарами шахты топливом, а следовательно, и более длительной подсушки топлива до попадания его в пламя, что повышало теплотворную способность топлива.
Однако все эти старания машинистов и кочегаров давали лишь минимальную долю полученной электростанцией экономии топлива и, вероятно, исчислялись бы копейками на работающего в месяц, при такой сравнительно незначительной выработке электроэнергии электростанции ввиду ее малой мощности. Львиная доля экономии топлива в натуральном выражении получалась от самого рода топлива, на котором работал локомобиль.
На электростанцию не отпускались дрова, а только выкорчеванные с корнями сосновые и еловые пни с осваиваемых под земледелие участков порубки леса. Содержащие большое количество смолы корни имели теплопроизводительность выше самых сухих дров самых жарких пород древесины и на их сжигании мы получали ощутимую экономию даже без всякого применения коэффициента на влажность топлива.
Здесь надо сказать о методе подсчета получаемой экономии топлива, сопоставлении плановых и фактических показателей расхода топлива в «условном топливе» на произведенный киловатт-час и затем множилась на выработку электроэнергии в киловатт-часах за квартал. Вся загвоздка при определении действительной экономии заключалась в правильном применении коэффициента перевода реального топлива в условное в зависимости от степени его влажности. Для этого надо было из каждой партии топлива брать пробу и подвергнуть ее лабораторному анализу для определения процента влажности. А где же это было возможно в концлагерных условиях на электростанциях малой мощности при отсутствии не только лабораторий, но и просто технически грамотных заключенных в составе финчастей, от которых зависело в полной мере определение экономии и выписка премий?! Сам по себе вполне технически-грамотный и объективно-справедливый пункт приложения по вопросу исчисления экономии топлива, в концлагерных условиях сводил на нет и весь приказ, и все старания заключенных, обертываясь издевательством над их самоотверженным трудом, при работе на средней влажности топливе. Вот почему, прикинув размер экономии топлива в рублях за IV квартал 1935-го года и причитающуюся сумму для выплаты персоналу за экономию, я не стал лезть в дебри коэффициентов влажности, не спорить бесполезно с начальником финчасти отделения о проценте влажности пней и, отбросив перевод реального топлива в условное, принял теплотворность пней равной теплотворности условного топлива.
Насколько мне стало известно потом от Иванова-Смоленского, суммировавшего отчеты всех электростанций ББК, ни на одной электростанции на дровяном топливе доказать экономию топлива никому ни разу не удалось, исключительно из-за споров с финчастями, не принимавшим поправок даже на среднюю влажность древесины. Потому достигнутая и доказанная мною финчасти экономия топлива на электростанции Пушсовхоза вызвала большой интерес и у Главного механика ББК, политзаключенного Боролина, и у его аппарата и сыграла кое-какую роль в продвижение руководимой мною электростанции в первое стахановское предприятие ББК.
Первый итог работы электростанции на хозрасчете был подведен на 1-е января 1936-го года за неполный IV квартал предыдущего года. 50% стоимости сэкономленного топлива причитающихся персоналу, выразились в сумме около 60 рублей. Эта сумма по концлагерным масштабам для заключенных оказалась весьма приличной. Машинисты и кочегары получили по 10 рублей, электромонтеры и дежурные по распределительному щиту получили по 2 рубля. Мне не хотелось обижать последних и мне удалось убедить, утверждавшего ведомость, помощника начальника отделения по производству, политзаключенного Дробатковского, о причастности всего персонала к достигнутым результатам. Я сослался на усилия электромонтеров по поддержанию электросети на высоком уровне, исключающем утечки электроэнергии в проводах, и старания дежурных у распредщита по регулировке, в зависимости от нагрузки, положения ярма со щетками на коллекторах динамо-машины, что подняло коэффициент полезного действия динамо-машин. Премию мне Дробатковский проставил в ведомости в сумме 12 рублей.
Экономия за I квартал 1936-го года, хотя он и содержал меньшее количество часов работы электростанции, а, следовательно, и ее выработки в киловатт-часах, оказалась даже бо́льшей и 50% экономии был распределены среди персонала в таком же соответствии, как и за IV квартал предыдущего года. Хозрасчет стал на крепкие ноги.
В заключение о командировках. Они, особенно на Медвежью гору, остались в моей памяти, как лучи света в период моего пребывания в Пушсовхозе, особенного мрачного до снятия Дича. Командировки избавляли от повседневного гнета, хотя бы на день. Сам процесс езды в автобусе с вольными людьми на равных началах благотворно влиял на психику. День пребывания на Медвежьей горе, как бы прерывал бесконечный срок заключения, как будто на день я выходил из концлагеря.
ПРИКАЗ 100-Я
Приказ 100-Я по НКВД (Народному комиссариату внутренних дел) дошел до Пушсовхоза в начале марта 1936-го года. Приказ был подписан народным комиссаром внутренних дел Генрихом Ягодой, к тому времени, безраздельно управлявшем уже больше года в этом страшном на многие годы учреждении, неповторимом в истории человечества, государством в государстве.
В структуре управления каждого государства есть учреждение для обеспечения безопасности государственного строя от элементов стремящихся силой свергнуть правительство или даже изменить строй. Это учреждение в разных странах, в разные времена носило и носит разные названия: «Государственная безопасность», «Тайная полиция», «Охранное отделение» (в Российской империи). Верхушка большевицкой партии для обеспечения собственной безопасности и установленной диктатуры создало «Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом», сокращенно ЧК (чека). Затем чека было переименовано в объединенное государственное политическое управление, сокращенно ОГПУ. ОГПУ было переименовано в НКВД. Но суть учреждения не менялась со сменой вывески. Суть его было в той неограниченной власти данной в самом начале чека, в том пронизывании явными и тайными агентами чеки всех учреждений и предприятий на всех ступенях советской власти, всех слоев советского общества, в колоссальном количестве этих агентов, в масштабе террора, осуществленном чекой, ОГПУ, НКВД, при полном игнорировании официальных законов государства, изданных самой же большевицкой верхушкой, в игнорировании нормального судопроизводства при расправе со своими жертвами, в полном произволе чекистов в отношении народных масс и полной безнаказанности чекистов за совершаемые ими противозаконные действия. В деятельности Чека-ОГПУ-НКВД наиболее ярко отразилась сущность диктаторского режима установленного после захвата власти большевиками.
Соответствующие органы безопасности в, так называемых, буржуазных демократиях, стиснутые в своей деятельности рамками закона, открытого и независимого судопроизводства, свободой слова и печати, не годятся и в подметки большевицкой госбезопасности. Бледнеет по сравнению с ней и деятельность «охранного отделения» со всем аппаратом жандармерии по малым масштабам борьбы с инакомыслящими, либеральным подходом к революционерам, организовывавшим свержение монарха, и покушавшимся на его физическое уничтожение.
Такая обширная по масштабу и методам работы деятельность советского органа госбезопасности выдвинула главу этого учреждения во второе лицо в государстве после вождя. Таким был председатель Чека, а потом ОГПУ, Дзержинский при Ленине, Ягода, Ежов, Берия, Абакумов, Меркулов при Сталине. Менжинский, сменивший Дзержинского на должности председателя ОГПУ как-то пришелся не ко двору и занимался исключительно организацией шпионажа за рубежом, проводя все время на работе в Иностранном отделе (ИНО) ОГПУ и передоверив своему заместителю Ягоде всю деятельность внутри государства, которая была главной, хотя бы по масштабам, деятельностью ОГПУ. Пожалуй «передоверил» не то понятие, которое выражало истинные взаимоотношения Менжинского с Ягодой. Жестокий, властный, честолюбивый авантюрист Ягода духовно был больше сродни Сталину и легко оттеснил Менжинского на задний план еще в самом начале его карьеры. В массах с ОГПУ всегда ассоциировался Ягода, очень многие даже не слышали о Менжинском, не знали, что он, а не Ягода официальная глава ОГПУ.
И все же, несмотря на полновластное хозяйничание Ягоды в ОГПУ, где верхушка этого учреждения, как, впрочем, и верхушка большевицкой партии, напоминала банку со скорпионами, пытающимися съесть вышестоящего товарища и сесть на его место, самолюбие Ягоды все время ущемлялось сознанием своего титула «заместитель». Он вершил всеми делами, в его руках была даже верхушка большевицкой партии, а он был только заместителем.
В 1934-м году Ягода избавился от, ставшего ему бельмом на глазу, Менжинского. Прямехонько в ад отправился вторым из четырех дворян, находившихся в верхушке большевицкой партии. Третий дворянин Куйбышев был отправлен туда же 25 января 1935-го года. Четвертый, Чичерин, был не удел с 1925-го года под видом тяжелого заболевания, сначала высланный «для лечения» заграницу, потом возвращенный восвояси в 1930-м году и якобы тихо скончавшийся в 1936-м году. Зная повседневную расправу Сталина со всем бывшим ленинским окружением, которое отлично помнило Сталина, как ничтожество, не трудно себе представить конец существования этих трех дворян. К тому же Менжинский был еще и помехой самому Ягоде, через которого проводилась ликвидация большевицкой верхушки, и не только верхушки. Одни источники, с одобрения Сталина, а затем и его приспешников упорно твердили о тяжелом недуге, якобы снедавшем Менжинского, другие, как например, «Большая советская энциклопедия» в томе, который вышел еще при жизни Сталина, трактует, что Менжинский «погиб на боевом посту от руки врагов - «правотроцкистской банды» в 1934-м году, причем точная дата смерти, в противоположность сведений данных там же о Куйбышеве, не указывается. Народ узнал о насильственной смерти и Менжинского и Куйбышева лишь в 1938-м году из материалов показательного процесса над «Правотроцкистской бандой», в которой в кучу были свалены и «путчист» Тухачевский и «уголовный преступник» Ягода и «презренный предатель» Бухарин и многие другие высокопоставленные большевики, обвиненные в несусветных преступлениях, как агенты иностранных разведок. Им вменяли в вину и убийства Менжинского, Куйбышева и многих других деятелей большевицкой партии. В отношении таинственных сначала смертей этих дворян процесс внес ясность, но не полную. Осталось не выясненным на процессе и до сих пор, по чьему приказу или с чьего одобрения были произведены эти террористические акты уголовным преступником Ягодой? Не сталинских ли указаний?
Мертвый Менжинский освободил Ягоде кресло председателя ОГПУ. Но второму лицу в государстве, честолюбивому Ягоде, это показалось мало. Обладая фактически неограниченной властью после Сталина, Ягоде захотелось быть официально не меньше Народного комиссара, члена Совета народных комиссаров СССР, тем более, что и все наркомы и председатель Совнаркома Молотов фактически были в его руках и для расправы с ними надо было иметь только оброненное Сталиным слово, санкционирующее расправу. Еще не будучи наркомом и даже официально председателем ОГПУ, Ягода уже набил руку на физическом устранении наркомов неугодных Сталину.
ОГПУ было переименовано в Народный комиссариат внутренних дел, сокращенно НКВД, Ягода был назначен наркомом внутренних дел СССР. Слово «НКВД» прочно вошло в русский язык, как обозначение понятия ужаса, ночного кошмара для всего народа, вездесущего органа власти творившего расправу над десятками миллионов своих жертв от имени того же народа. Большинство слово «НКВД» произносило шепотом, оглядываясь; подлецы, для показа своего превосходства над собеседником, для запугивания советского служащего при вымогательстве незаконного, вставляли фразу: «Мой родственник работает в НКВД». Вызов в местное управление НКВД выводил из строя любого гражданина, который брал с собой все необходимое, не надеясь вернуться оттуда. Слово «НКВД» настолько прочно въелось в народное сознание, что даже после последовательных переименований народного комиссариата в министерство, а затем министерства в комитет, когда учреждению официально присваивались наименования Министерство внутренних дел, Министерство государственной безопасности, Комитет государственной безопасности, никто, подразумевая их, не говорил «МВД, МГБ, КГБ», а только «НКВД».
НКВД существовал и раньше, до приобретения им такой ужасной известности. После октябрьского переворота в 1917-м году при организации советского правительства был создан и НКВД, ведавший Рабоче-крестьянской милицией, некоторыми тюрьмами, для уголовников, пожарной охраной, коммунально-жилищным хозяйством, а нарком внутренних дел числился третьестепенной фигурой в Совнаркоме. С конца 20-х годов функции НКВД начали сужаться. Сначала в ведение ОГПУ перешли все тюрьмы, затем в начале 30-х годов милиция, потом пожарная охрана. ОГПУ разрасталось, НКВД хирел и превратился в народный комиссариат коммунального хозяйства.
При переименовании ОГПУ в НКВД вышеперечисленные службы автоматически вернулись в НКВД, начиненные чекистами, а вопросы коммунального хозяйства были переданы вновь образованным республиканским народным комиссариатам коммунального хозяйства. И все же Ягоду не устраивало распоряжаться только тем, что уже входило в ОГПУ, и собственно ГПУ, и ИНО, и громадной империей концлагерей, и тюрьмами, и войсками НКВД, и погранохраной и пожарниками. В НКВД на правах управлений, под власть Ягоды были отданы Центральное управление шоссейных дорог (ЦУШОСДОР) и даже Палата мер и весов, строго научное учреждение основанное еще великим Менделеевым для научного определения наиточнейших эталонов единиц длины, веса, времени и массы. Палата мер и весов Академии наук была переименована в «Институт метрологии и стандартизации НКВД СССР». Директор Палаты профессор А.А. Иванов был смещен в заместители начальника Института по научной части, а начальником Института метрологии и стандартизации НКВД был назначен старший лейтенант госбезопасности, восседавший в научном учреждении в полной форме чекиста. «Как-то даже неудобно получилось, - сказал мне профессор Иванов, когда я заехал к нему на квартиру в Ленинграде после освобождения из концлагеря, - я стал работником НКВД». И он развел руками, но тут же, спохватившись, добавил: «Впрочем, это закономерно, наука не должна оставаться аполитичной, я изучаю историю ВКП(б)».
Переименование ОГПУ в НКВД и расширение функций органа государственной безопасности лишь как бы официально утвердили тенденцию проникновения чекистов во все сферы жизни, тенденцию начавшуюся с самого основания чека. Этот охват чекистами всего государства, всех звеньев государственной власти послужил предлогом к одному из главных обвинений выдвинутых против бывшего главы советских органов безопасности Л.П. Берия, когда в закрытом судебном заседании (а было ли таковое?) в 1954-м году он был приговорен к смертной казни. Берия обвинили в стремлении поставить органы государственной безопасности над партией и над государством. Это было не стремление, это был совершившийся факт еще задолго до назначения наркомом внутренних дел Берия, задолго еще до его предшественников Ежова и Ягоды, факт вошедший в систему с основания чека.
Освоившись в кресле наркома, Ягода добился для возвеличивания своего учреждения декрета Совнаркома о присвоении чекистам общеармейских офицерских и унтер-офицерских званий, введенных незадолго до того в армии и на флоте. Однако Ягода шагнул дальше, отбросив для своих подчиненных звания от комбригов и выше, сохранившихся тогда еще в армии, но которые пахли пережитками гражданской войны, когда комсостав был запанибрата с рядовыми красноармейцами и считался наравне с последними. Даже Сталин, введя офицерские звания в вооруженных силах, в те годы не решился назвать высший комсостав генералами. Слишком еще свежа была в народных массах, оболваненных большевицкой пропагандой, неприязнь к званию «генерал». «Царский генерал», «Белый генерал» или просто «генерал» были ругательными словами. Звания генералов для высшего командного состава в вооруженных силах были введены только в 1938-м году. Ягода сразу же обошел и неприязнь масс к генералам и панибратские звания «комбриг», «комдив». Чекистам занимавшим должности выше полковничьих были присвоены звания комиссаров госбезопасности I, II, III рангов, что соответствовало армейским от комкора до комбрига, а впоследствии от генерал-полковника до генерал-майора. Сам Ягода перешагнул через один чин и присвоил себе звание генерального комиссара госбезопасности, что соответствовало званию маршала Советского Союза и стал носить маршальскую звезду на петлице.
Одновременно с присвоением чекистам офицерских и комиссарских званий, Ягода ввел новую форму отличную от армейской. Новая форма тоже защитного цвета отличалась от армейской широким покроем с плечами реглан, матерчатым поясом на шинелях и нарукавной нашивкой выше локтя, изображавшей обнаженный меч в продолговатом венке, опущенный вниз – «карающий меч революции», как называли чекисты свое учреждение. Новые знаки различия также отличались от общеармейских и состояли из пятиугольных звездочек и полумесяцев, своим количеством, комбинациями и расположением на петлицах, определявшие звание офицера и ранг комиссара. Однако в переводе старых званий на новые было и что-то непонятное. До введения офицерских званий и новой формы чекисты носили квадраты, шпалы и ромбы по занимаемым должностям. Так, например, начальник 3-го отдела управления Соловецкого лагеря чекист Глушанин в 1933-м году в городе Кеми носил три ромба, что соответствовало званию комкора или по новым чекистским званиям комиссару I ранга. А когда я с этим же самым Глушаниным встретился, уже освобожденный из концлагеря, в 1938-м году он носил новые знаки отличия только капитана госбезопасности, занимая должность начальника районного управления НКВД. Степень снижения звания была умопомрачительной. Но я не буду утверждать об имевшем месте массовом снижении чекистам званий в связи с реформой проведенной Ягодой. Возможно с Глушаниным был единственный случай.
Став, наконец, официальным хозяином государства в государстве, Ягода, раздобрев и подобрев, решил объехать и лично осмотреть свою империю концлагерей, простиравшуюся от болот Карелии до суровой Чукотки, от островов Ледовитого океана до знойных пустынь Средней Азии. Путешествие было длительным, осмотр дотошным. В некоторые концлагеря были посланы заместители, члены коллегии НКВД, так как концлагерей было уже столько, что самому Ягоде всех было не объехать. В Белбалтлаге Ягода не был, приезжал кто-то из членов коллегии. Потемкинскими деревнями концлагерное начальство не могло отделаться, потрясающие картины концлагерного быта, очевидно, даже превзошли представление о местах заключения такого обо всем прекрасно осведомленного сатрапа, каким был Ягода. И вот появился на свет потрясающий секретный приказ по НКВД № 100-Я, которым Ягода как бы отмежевывался от деятельности своего официального предшественника Менжинского, взваливая на него одного ответственность за все безобразия, жестокость и произвол концлагерного начальства, выставляя себя этаким добреньким дядей, вскрывшим преступления и отныне открывающем новую эру в истории концлагерей. Номер приказа был очередной, но чтобы увековечить себя в этом приказе, честолюбивый Ягода приставил к цифре начальную букву своей фамилии. Впрочем, я не берусь утверждать, что другие приказы по НКВД не имели при номере этой буквы, потому что других приказов я просто не видел. Возможно, что особо важные приказы по НКВД, издаваемые по инициативе самого наркома Ягоды, тоже имели приставку из начальной буквы его фамилии.
Приказ № 100-Я был отпечатан типографским способом довольно толстой брошюрой на прекрасной бумаге, очевидно, импортной. Тогда в стране кроме газетной и оберточной бумаги, никакой другой не производилось и на ней печатались все от газет и книг до учебников и ученических тетрадей. Даже в качестве бумаги для приказа 100-Я чувствовался шик, который показывал Ягода.
Одновременно с приказом № 100-Я начальнику отделения пришло распоряжение проработать приказ в тесном кругу начальствующе-административного персонала при закрытых дверях, чтобы о содержании секретного приказа не узнали массы рядовых заключенных. Или наверху считали реальностью безукоризненное соблюдение в концлагерях декрета Совнаркома о недопущении на административно-производственные должности политзаключенных (хотя Ягода должен был знать обратное), а потому не сделали оговорки в распоряжении о недопущении к изучению приказа политзаключенных, или начальник отделения Николай Николаевич не учел содержание приказа, но я был весьма удивлен, когда к изучению его был привлечен и я, в числе других политзаключенных, начальников частей управления отделения и производств. Занятия по изучению приказа 100-Я были рассчитаны на продолжительное время для более детального его изучения. Занятия проводились один раз в неделю по часу после окончания занятий в управлении. Занятия проводил сам Николай Николаевич, в редких случаях Ванька Логинов. Посещение занятий строго контролировалось, чтобы каждый раз оно было стопроцентным из выделенных лиц. После того, как все ответработники собирались без опозданий в кабинете начальника, входная дверь закрывалась изнутри на ключ, чтобы непосвященные чего-нибудь не услышали. Приказ читал Николай Николаевич без комментариев. Если занятия вел Логинов, он поручал читать начальнику 3-й части, а сам мешал ему, вставляя либо глупые замечания о, якобы имевшихся таких же фактах, какие были изложены в констатирующей части приказа, и в Пушсовхозе, и им уже ликвидированные, или стучал кулаком по столу, приказывая слушателям повысить внимание к казавшимся ему особенно яркими замечаниям в приказе. Занятия по изучению приказа походили на занятия по изучению проекта сталинской конституции, проводившиеся на воле в 1936-м году в кружках политграмоты, которые в обязательном порядке после освобождения я должен был посещать, как советский служащий. А здесь, с таким же благоговением к кладезю мудрости Ягоды выраженной в приказе 100-Я, мы должны были внимать словам приказа, как на воле внимали словам классиков марксизма-ленинизма. Атмосфера изучения приказа была создана такая, что слушали чтение чуть не стоя. Намекая на эту атмосферу подхалимства, пользуясь созвучием слов «100-Я́» и «стоя», остряки из заключенных каламбурили: «Изучаем приказ сто́я».
Констатирующая часть приказа была написана с большим пафосом, доходившим местами до эпических высот, при описании адского труда рабов, нетерпимых жилищно-бытовых условий, голодного пайка, еще урезываемого пищеблоками в свою пользу, зверств концлагерной администрации. Констатирующая часть приказа 100-Я по НКВД могла быть полностью включена в текст обвинения в преследованиях против человечности, предъявленного десятью годами позже на Нюренбергском процессе гитлеровской верхушке, организациям СД, СС и Гестапо. Недаром очередной наркомвнудел Меркулов, как сообщали советские газеты, после заключения Сталиным пакта дружбы с Германией, ездил в 1940-м году в Германию к шефу нацистской госбезопасности Гимлеру, по-видимому, для обмена, так сказать, опытом. Впрочем, при этой встрече Меркулов вряд ли мог что-нибудь перенять у своего нацистского коллеги, тот, вероятно, выглядел ребенком по сравнению с Меркуловым, возглавлявшем учреждение имевшее за плечами двадцатитрехлетний опыт подавления народа, в создании концлагерей. Гестапо же много дал приезд Меркулова и нацисты, с присущим немцам педантизмом, лишь усовершенствовали машину истребления людей.
В приказе № 100-Я указывались концлагеря, их отделения, лагпункты и фамилии начальников-чекистов, по-видимому, особо выделившихся созданием ада кромешного во вверенных им подразделениях концлагерей.
За констатирующей частью следовало: «Приказываю» и тут начинался перечень пунктов приказа, имевших целью оздоровить внутрилагерную обстановку для заключенных и фамилии чекистов отстраняемых от своих должностей в концлагерях. Эта часть приказа была написана значительно слабее констатирующей и мало давала реального заключенным, обходя суть пороков концлагерной системы, давая шарообразные указания на будущее по режиму концлагерей, которые поддавались толкованию в любом смысле по прихоти концлагерных чекистов. Ни один провинившийся чекист не был отдан под суд коллегии НКВД, которой, и только которой, они были подсудны.
Общее впечатление от приказа сводилось к тому, что перед лицом истории Ягода хотел остаться чистым и непорочным, свалив все ужасы концлагерной системы на своего официального предшественника Менжинского, который, как я уже рассказывал, не то самоустранился, не то был оттеснен самим Ягодой от управления ОГПУ внутренней политикой и фактически за все, что было изложено в констатирующей части приказа № 100-Я, полную ответственность нес сам Ягода, фактический руководитель ОГПУ на протяжении многих лет. Попытка свалить всю вину на предшественника, чтобы только оправдать себя, даже с риском разоблачения всей системы, в истории большевицкой партии в таком масштабе была предпринята впервые Ягодой приказом № 100-Я. Таким образом, разоблачение злодеяний Сталина, сделанное Хрущевым на ХХ партсъезде, не были новым методом отмежевания сообщника от ненавистного народу диктатора-предшественника, взваливая на последнего все злодеяния, не останавливаясь перед риском разоблачения системы во всегосударственном масштабе.
Почти сразу после получения в Пушсовхозе приказа № 100-Я был осуществлен один пункт его, требующий в каждом отделении, лагпункте концлагеря повесить запечатанные соответствующими сургучными печатями ящики для жалоб заключенных. Один ящик предназначался для жалоб на имя начальника концлагеря, второй на имя начальника Главного управления НКВД (ГУЛАГа НКВД), третий на имя самого накромвнудела Ягоды. Ящики в запечатанном виде периодически отсылались в управление ББК и заменялись новыми. Этим реальным новшеством по приказу № 100-Я я и воспользовался. Написав три аналогичных заявления на имя начальника ББК Раппопорта, начальника ГУЛАГа Бермана и наркомвнудела Ягоды, я ночью, чтобы никто не видел, опустил их в соответствующие ящики, висевшие на наружной стене здания управления отделения «Пушсовхоз». Дежурной смене, выходя с электростанции, я сказал, что иду проверять электросеть. В заявлениях я указал о том, что данный мне срок заключения со скидкой в два года по постановлению ЦИК СССР и зачетом заработанных мною ударным трудом дней я давно закончил, а потому незаконно задерживаюсь в концлагере и прошу распоряжения меня освободить.
На подачу этих заявлений меня натолкнули не только вывешенные ящики, но и сам дух приказа № 100-Я, как будто предвещавшего смягчение участи заключенных. Впоследствии я узнал, что чутье меня не подвело, что в 1936-м году последовало распоряжение восстановить зачеты рабочих дней для заключенных имеющих 58-ю статью, но в уменьшенном размере, не три дня срока за два календарных дня ударного труда, как было, а девять дней срока за восемь дней ударного труда. Политзаключенных очень чувствительно обокрали, лишив возможности десятки со многими нолями выйти живыми из концлагеря. За каждый квартал ударного труда я потерял более чем по сорок дней зачета, то есть уменьшения срока заключения. Эта милость была отменена со сменой Ежовым Ягоды на посту наркомвнудела, но уже после того, как я выскочил из концлагеря.
Первым мне ответил начальник ББК Раппопорт в конце апреля, спустя более месяца, как я опустил заявления в ящики. Меня вызвали в УРЧ, где ответ мне на руки не дали, а взяли расписку в объявлении его мне. В ответе подтверждалось получение моей жалобы и направление ее для разрешения в Спецотдел НКВД. Этот ответ можно было толковать двояко: или простая отписка или действительно на месте, в секретных сферах управления концлагеря, захотели поднять вопрос о моем освобождении. Так или иначе оставалось запастись терпением и ждать более конкретных результатов от заявлений направленных Берману и Ягоде, а может быть и запроса Раппопорта в Спецотдел, если только таковой был сделан.
А между тем день у меня становился все меньше загруженным работой в связи со все уменьшающимся количеством часов работы электростанции в сутки. Долгота дня быстро увеличивалась, число темных часов в сутки сокращалось, а с ним и потребность в освещении. Сокращенный численно персонал электростанции, с объявлением нами электростанции стахановским предприятием, работал четко и слажено и без моего непосредственного вмешательства. Оставалось больше времени для технического самообразования, а либеральный режим Николая Николаевича позволял мне больше времени проводить с Ней в ее лаборатории.
Мне давно симпатизировал молодой радист радиостанции отделения «Пушсовхоз», заключенный бытовик. Скромный, вежливый, начитанный и любознательный, словом обладавший качествами мало присущими заключенным бытовикам, он по своему внутреннему содержанию был больше похож на политзаключенного, и как-то не вязалось с тем, что он мог совершить какой-то неэтичный поступок приведший его на скамью подсудимых. По утрам он не был загружен работой, так как на связь с радиостанцией ББК на Медвежьей горе он выходил во второй половине дня, да и спокойный Николай Николаевич по возможности держался подальше от управления ББК, не загружая радиста радиограммами, как Дич. Одним словом, по утрам мы с радистом довольно часто стали играть в шахматы на электростанции, а когда позволяла погода и на пляже за лесом на берегу Онежского озера. Апрель 1936-го года выдался необыкновенно солнечным и теплым по здешней широте. Южный устойчивый ветер нагнал тепла, и снег в середине апреля уже почти весь стаял. В солнечные дни я выходил через лес с одной стороны, радист с шахматами с другой, мы встречались на берегу и в трусах ложились на песок загорать и играть в шахматы. Персонал электростанции я предупреждал об уходе моем на осмотр электросети. С радистом мы почти уподобились «моржам» - физкультурникам купающимся зимой в проруби, так как в то время, как мы лежали на песке, в нескольких метрах от нас торосились льды Онежского озера, прибитые южным ветром со всего озера к его северному берегу. Льды не способствовали прогреванию воздуха, но мы не обращали на это внимание, увлеченные партией в шахматы и даже заметно загорели.
Возможно это лежание на сыром песке в присутствии тающих льдов, а возможно и восьмой год пребывания в заключении сказалось подорванным организмом, но я почувствовал в начале мая острую боль в колене при ходьбе, в том самом колене, в котором у меня был залечен костнотуберкулезный процесс за полтора года до моего ареста. Я стал заметно хромать и появилась опухоль. Заключенный ротный фельдшер, представлявший единственного лекаря в Пушсовхозе и относившийся ко мне всегда благосклонно, весьма встревожился, когда я обратился к нему, рассказав об истории моей болезни. Никакого рентгенкабинета не было не только в Пушсовхозе, но и во всем Белбалтлаге, и о снимке, чтобы подтвердить или отмести мое собственное предположение о возобновлении туберкулезного процесса не представлялось возможным. Ротный фельдшер пошел на крайнюю меру – вызвал ко мне врача из соседнего Повенецкого отделения ББК, из госпиталя для заключенных, находившихся на лагпункте в селе Повенец. Врач приехал и ротный фельдшер привел его ко мне на электростанцию. Каковы же были мои удивление и радость, когда врачом оказался мой «одноделец» Борис Горицын, студент-медик Киевского университета, арестованный с третьего курса. Врачом он был и на Соловках, а теперь он был начальником госпиталя Повенецкого отделения. Я потерял его из виду еще с 1932-го года, когда он с этапом был переброшен с Соловков на Беломорстрой. Встреча была душевная и прошла не столько в осмотре моего колена, сколько в разговорах и воспоминаниях о рассеянных по концлагерям, а частично уже освободившихся наших «однодельцах», с которыми мы сдружились на Соловках, согнанные туда злой волей ОГПУ.
Борис сразу предложил забрать меня с собой, гарантируя мне отдельную палату в госпитале на неопределенный срок и не только для лечения - усиленное питание, и тем самым освободить меня от подневольного труда и возложенной на меня ответственности. Безусловно, я не столь уже нужен был в Пушсовхозе на электростанции, как в прошлом году. Все механизмы были капитально отремонтированы, персонал был сплочен, дисциплинирован и проработал бы, особенно летом, и без меня. Лечение, отдых под крылышком Бориса на неплохом питании, на мягком ложе с постельным бельем, которым я не пользовался уже семь с лишним лет, были очень заманчивы. И все же я согласия не дал. И не столько из-за нежелания разлучиться с Ней, разлука, я знал, была неизбежна в случае моего освобождения из концлагеря, которого я стал так добиваться. Я не согласился из-за другого: из боязни могущей быть отсрочки этого освобождения, вследствие вполне возможной потери моего личного дела при перечислении меня из отделения «Пушсовхоз» в Повенецкое отделение и блуждании ответа из Москвы, которое при этих обстоятельствах может до меня и не дойти. Лечиться я решил лучше уж на воле, возвратиться к матери пусть больным, но все же возвратиться поскорее. Причину моего отказа я изложил Борису откровенно и он не стал настаивать, зная неразбериху в Учетно-распределительных частях, да и самом УРО, набитых преимущественно безграмотными уголовниками.
Я помнил наставление профессора Шенка, лечившего меня при заболевании костным туберкулезом: «Главное покой сустава». Я свел ходьбу до нескольких десятков шагов в сутки и только в пределах электростанции, выходя погреть колено на солнце в затишье у стены здания электростанции. Повязка ограничивала движение сустава и создавала дополнительный покой. Гюль-Ахмед раздобыл тюфячный мешок и набил сеном. Такой мягкой постели я не имел более семи лет, спавши все время на досках на своем тулупе, вместо матраца. Гюль-Ахмед приносил мне обед и ужин из столовой, покупал мне сливочное масло в магазине для усиленного питания. Словом лучшей няньки было трудно и вообразить. ОНА отважилась навестить меня несколько раз под предлогом необходимости зарядки аккумуляторов для Зональной станции. Начальство знало о моей болезни и не вызывало меня в управление отделения, да, собственно, и вопросов ко мне не было. Горицын приезжал ко мне каждую неделю и смотрел колено. Все условия для лечения удалось создать. Некоторые лентяи из управления даже мне завидовали. Проходя мимо электростанции и видя как я сижу и, протянув ногу, грею ее на солнце, говорили: «Вот мне бы так перекантоваться».
Через три недели у меня все прошло, опухоль спала, боли прекратились. Был конец мая и я с Гюль-Ахмедом занялся текущим ремонтом электростанции, забыв о заболевании.
Днем 8-го июня 1936-го года я вернулся с линии за материалами и зашел в машинный зал. Зазвенел телефон, я снял трубку …
ОСВОБОЖДЕНИЕ
«Освобождение Вам пришло, - кричал в трубку помощник начальника УРЧ, знакомый мне армянин, тоже «террорист», - приходите скорее ко мне, поздравляю!», - закончил он с армянским акцентом. «Освобождение, освобождение ….», - это известие, как многократное эхо в горах звенело у меня в голове, а внешне я никак не реагировал на него, лишь опустился на табурет и застыл на нем, держа трубку телефона в руке. Событие совершившееся этим словом, так долго, слишком долго, мною ожидаемое, как безусловное немедленно в первые дни ареста, подлежащее некоторому сомнению в месяцы следствия и так страстно желаемое во все время заключения, хотя и с уменьшающейся надеждой на его осуществление по мере отсутствия ответов на мои заявления о пересмотре дела, теперь сбылось. Такое событие на восьмом году заключения сразу трудно полностью осознать, прочувствовать его и внешне отреагировать. Я продолжал неподвижно сидеть на табуретке, пытаясь определить достоверность мною услышанного, убедиться в состоянии своего бодрствования, явь ли или сон?
Подняться с табурета меня заставила не осознанное желание поскорее удостовериться в УРЧ, что я свободен, а привитая мне производственная дисциплинированность и сознание ожидания Гюль-Ахмедом материалов для работ на линии, за которыми я пошел. Я зашел в кладовую, отобрал материалы, занес их на линию Гюль-Ахмеду и, не сказав ему ничего до проверки услышанного по телефону из УРЧ, направился к армянину.
«Вы освобождены по чистой», - радостно встретил меня армянин, как только я переступил порог УРЧ и бросился жать мне руку. Я мог только опуститься на стул, не выдавив ни одного слова, никак внешне не реагируя на сообщение. Вероятно, армянин переполошился за мое психическое состояние, потому что уставился на меня с явным испугом. Я пересилил себя, выдавил на лице улыбку, такую же вежливую, как мог при самом неприятном известии, и почему-то спросил: «Что значит «по чистой», - хотя сам прекрасно знал значение этого концлагерного слова, употреблявшегося заключенными, когда освобожденный из концлагеря, автоматически не отправлялся на «вольную высылку» в необжитые края. Армянин обрадовался моему вопросу и подробно разъяснил, что мне можно теперь жить где угодно, за исключением …. Вот это исключение и поразило меня и в то же время восстановило душевное равновесие, нарушенное все же неожиданной для меня вестью о моем освобождении. Это «по чистой», а официальным языком «освобождение на общих основаниях» оказывается исключало такое количество категорий населенных пунктов для моего проживания, что было от чего загрустить, а не радоваться освобождению. Во всяком случае то, что перечислил мне армянин превзошло мои знания по этому вопросу и превзошло самые худшие опасения. Я не имел права, под страхом получения нового срока за нарушение «паспортного режима», проживать в столице СССР и союзных республик, в областных городах и местности вокруг них в радиусе 100 километров, в пограничной зоне, а также в городах и близ них, где были расположены не подлежащие оглашению объекты, то есть военная промышленность, в частности тяжелая промышленность.
Хотя армянин вполне успокоился в отношении моего психического состояния, тем не менее, он был явно разочарован отсутствием с моей стороны бурного выражения радости от его известия, которое он так спешил довести до моего сведения, относясь ко мне всегда вполне доброжелательно. Официально объявить он мне должен был на следующий день при вызове для оформления документов на освобождение. Вероятно, он и улыбки моей не увидел, если бы я тогда знал какая участь отверженного меня ждала на, так называемой, воле, куда бывший политзаключенный возвращался не тем, кем был до ареста в правовом отношении, которого мог лягнуть безнаказанно каждый осел, которого из осторожности перед властями или, соблюдая секретные инструкции, не брали на работу в большинство отраслей народного хозяйства, а в которые и брали, так только на низкооплачиваемые должности, которого избегали и человеческое отношение к которому проявляли только те единицы из беспартийных и в редких случаях партийцы, по мужеству своей натуры не могущие не «сметь свое суждение иметь».
С новостью я помчался на Зональную станцию и влетел к Ней в лабораторию. Сознание свободы уже начало овладевать мной и эгоистическую радость я не мог сдержать, делясь с Ней случившимся. С кем же как не с Ней я должен был поделиться радостью, как всегда мы оба делились в первую очередь друг с другом и горем и радостью. Мой восторг перед Ней был тем более неуместен, что эта моя радость означала для Нее разлуку со мной. ОНА меня любила, я был единственный в концлагере близкий для Нее человек, и разлука со мной для Нее была горька. Но Она и виду не подала, стараясь поддержать мою радость и отодвинуть на задний план прорывающееся у меня сквозь радость горе разлуки с Ней. В этот трудный для нас обоих момент Ее поддержало осознание Ею сразу же, Ее ясным умом, далеко идущие последствия моего освобождения для всех политзаключенных, в том числе и для Нее. Я был первым политзаключенным освобождаемым из концлагеря после убийства Кирова. Полтора года прошло с этой ужасной для политзаключенных даты и сколько политзаключенных пересидели свой срок. На моем примере становилось очевидным о наступлении какой-то перемены к лучшему в точке зрения на верхах и политзаключенных перестали рассматривать как пожизненно заключенных.
Сбежавшиеся в лабораторию ученые мужи и прочие сотрудники Зональной станции, все хорошо меня знавшие, поздравляли меня, у всех было восторженное выражение лиц. Я не могу сказать, чтобы их радость была лишь эгоистична от открывавшихся для них перспектив освобождения, многие искренно радовались за меня лично.
Новость о моем освобождении мигом разнеслась по Пушсовхозу и в столовой за обедом я был в центре внимания заключенной элиты. И здесь сыпались на меня поздравления. На электростанции также меня все поздравили, но радость искренняя о моем освобождении была только у преданного мне, очень полюбившего меня всей благородной кавказской душой, Гюль-Ахмеда. Остальные, хотя и скрывали, тревожились о кандидатуре нового заведующего. Кто он будет, как с ним поладить? В особенности, мимолетом отметил я, нервозность паровозного машиниста, коммуниста Вишневского. Узнав о моем освобождении, он бегал куда-то, по видимому, предлагая начальнику 3-й части (на стукача машинист не смахивал) свою кандидатуру.
Помощник начальника отделения «Пушсовхоз» по производству политзаключенный Дробатковский поздравил меня по телефону, но только я хотел от благодарности за внимание ко мне, перейти к уже начавшему меня мучить вопросу – кому передать электростанцию, он повесил трубку и я не решился еще раз ему позвонить, сообразив, что очевидно у него в данный момент высокая температура от легочного туберкулезного процесса и ему совсем не до дел. А вопрос о моем приемнике уже мучил меня всерьез: из-за отсутствия такового я мог быть задержан хотя бы на несколько дней, а мне, не то что не терпелось скорее выпорхнуть из клетки, я считал опасным промедление на каждые даже получаса. Данную мне чекистами милость надо было реализовать, пока «не одумаются». Мало ли что еще может произойти? Какая-нибудь новая драка с выстрелом на верхах, как в случае с Кировым и … прощай свобода! Надо как можно скорее разделаться с электростанцией, получить документы и бежать, бежать без оглядки с территории концлагеря, хотя бы пешком, такая твердая решимость овладела мной.
С такими думами я заснул на своем топчане впервые не заключенным, а вольным гражданином, но еще не отпущенным на волю, словом ни тем ни сем и ночью проснулся от кошмара, что меня в концлагере задержали. Впрочем, этот сон был не единственным на эту тему. Такие кошмарные сны мне снятся с тех пор в течение всей моей жизни в разных вариациях, преимущественно, что я вторично попал в концлагерь.
Утром следующего дня к девяти часам я направился в управление отделения, твердо решив начать с УРЧ, чтобы получить документы об освобождении, а затем уже разговаривать, вероятнее всего с Дробатковским в отношении замены меня на электростанции. Однако в коридоре я натолкнулся на начальника Общей части, который сказал, что меня разыскивает начальник отделения и чтобы я немедленно шел к нему в кабинет. Когда я подошел к столу, Николай Николаевич приподнялся и поздоровался со мной за руку, как с вольным гражданином. По его приглашению я опустился в кресло. Менее чем за сутки я так привык к поздравлениям, что отсутствие его со стороны такого чуткого человека, каким был начальник, несколько удивило меня. Только много лет спустя мне стало понятно отсутствие поздравления с его стороны, когда я на горьком опыте разобрался в хитром механизме подавления, осуществляемом большевицкой партией и органами госбезопасности.
Освобождение из концлагеря отнюдь не означало окончание «расчетов» со мной государства, его карательных органов. Отсидев положенный срок в концлагере, я, как и все политзаключенные, продолжал оставаться в глазах чекистов врагом государства, каким стал в момент принятия ими решения о моем аресте. И таковым врагом мне предстояло числиться до конца дней моих. Переведенный чекистами через Рубикон ареста человек уже никогда не мог стать в их глазах тем, чем был до этого. Даже снятие судимости с политзаключенного через несколько лет, или несколько десятков лет, не причисляло его к 100% советским гражданам, только к эпитету враг прибавлялось «бывший» и в анкетах он все равно должен был упоминать о своей «судимости по 58-й статье», что захлопывало, как и раньше, до снятия судимости, двери многих и многих предприятий и учреждений перед ним. Но даже если некоторым и удавалось получить снятие судимости по 58-й статье, и очень похоже на то, что только при превращении их в секретных сотрудников госбезопасности, и не просто сексотом, а сексотом принесшим пользу, то это явление соре было не как правило, а как исключение. Посаженным по 58-й статье пунктам 6 и 8 судимость не снималась ни за какие «заслуги», эти пункты не подлежали снятию судимости и давались пожизненно. Ни органы Госбезопасности, ни Генеральный прокурор, ни Верховный совет ходатайств о снятии судимости с бывших заключенных посаженных по этим пунктам не рассматривали, в чем я убедился тоже много лет спустя, перепортив на ходатайства ворохи бумаг и не получив в ответ ничего – ни отказа, ни снятия судимости.
Здесь надо отметить вольное обращение большевицкой верхушки с логикой и юридическими терминами. Как можно было считать политзаключенного судимыми и потом единицам «снимать» судимость, когда в концлагерь в заключение попадали не по суду, а административно? Приговор о заключении в концлагерь и срок заключения определял по своей прихоти сам следователь ОГПУ. «Определение» о заключении подписывал единолично начальник отделения районного или городского ГПУ-НКВД или полномочного представительства (ПП) ОГПУ при военном округе (в том числе и для гражданских лиц). Так определение о моем заключении в концлагерь сроком на десять лет было вынесено и подписано начальником отделения ПП ОГПУ при Ленинградском военном округе. Этот документ подшит к моему личному делу и я его читал своими глазами. Выносили приговоры по 58-й статье и, так называемые, «тройки» ОГПУ-НКВД, считавшиеся судом при управлениях ОГПУ-НКВД, тоже в административном порядке без присутствия обвиняемого. По особо большим групповым делам определение начальника отделения ГПУ штамповалось в заседании, называемом «судебным», коллегией ОГПУ, тоже в отсутствии на нем обвиняемого, который заменялся папкой его дела. В таком порядке был проштампован приговор, включая двадцать семь расстрелов, по «делу» организации, к которой я был причислен. Можно ли рассматривать такое заседание коллегии ОГПУ, как судебное без прения сторон, без судебного разбирательства? С 1937-го года приговоры обвиняемым по статье 58-й стали выносить и суды, но опять-таки без нормального судопроизводства, хотя и в присутствии обвиняемого. Эти приговоры были заранее отпечатаны и краткий допрос судом обвиняемого не влиял на приговор, утвержденный заранее свыше.
Николай Николаевич был чекист, все это он знал тогда и для него, как чекиста, я оставался таким же врагом существующего строя, как и до освобождения. Пожатие руки, прибавление к моей фамилии слова «товарищ» имели совершенно другую подоплеку. «Оставайтесь у нас вольнонаемным заведующим электростанцией», - обратился ко мне начальник отделения. Этого я никак не ожидал и взят был им врасплох. Остаться с Ней в концлагере, это же мой долг, а не только счастье, мелькнуло у меня в голове, дорогую мне мать я сразу же перетащу сюда! Но имею ли я право обрекать мать на житье в концлагере? А с другой стороны, продолжали нестись вихрем мысли у меня в голове, оставшись в Пушсовхозе, я только напорчу Ей. Все прекрасно уже осведомлены о нежных чувствах питаемых нами обоюдно, и Ее, политзаключенную, не оставят в одном месте со мной, вольнонаемным, и немедленно отправят в какой-нибудь лесной лагпункт на физическую работу, в ужасные бытовые условия, и этим я только напорчу Ей. Да и я долго могу не остаться в Пушсовхозе, а подписавши договор на работу по вольному найму, буду пешкой, и меня в любой момент могут перебросить в другое место, где я окажусь более полезным с точки зрения отдела кадров ББК. И еще одно соображение окончательно склонило меня к категорическому отказу – реальная опасность за малейшую оплошность, не выезжая из концлагеря стать снова заключенным. К врагу никакого снисхождения ожидать не приходилось. Не зря говорили в концлагере о бывших заключенных, оставшихся работать по вольному найму, что они «временно незадержанные», расшифровывая таким образом сокращенное название «вольнонаемный» - «в/н». Но когда я уже открыл рот, чтоб произнести отказ, меня обуял страх при новой мысли: при царящем произволе, если я откажусь остаться вольнонаемным, поскольку я оказался таким нужным работником, меня не освободят из концлагеря и оставят заведовать электростанцией не вольнонаемным, а заключенным. За 18 предшествовавших часов я уже столько пережил, я уже так вжился в роль свободного гражданина, что у меня недоставало сил добровольно согласиться остаться, хотя бы и вольнонаемным, в концлагере. И я рискнул: «Благодарю, Николай Николаевич, за доверие, но меня Ваше предложение не устраивает». Начальник помолчал и уточнил свое предложение: «Слушайте, я Вам 500 рублей дам»! (Имелась в виду месячная зарплата, размер которой для 1936-го года был порядочный). Я уже твердо решил не оставаться в концлагере, но я решил помягче сформулировать свой вторичный отказ, хотя по существу он был совершенно искренен: «Николай Николаевич, надо переменить обстановку». «Переменить обстановку», - как бы про себя, а на самом деле вслух, но очень тихо, дважды повторил конец моей фразы начальник, уставившись взглядом в угол. Он как-то сразу обмяк, военная гимнастерка на нем оказалась велика, он сгорбился. Передо мной был совсем другой человек, раздавленный, бессильный. Не желая этого, я попал в самую точку его постоянного неотвязчивого желания – самому переменить обстановку, вырваться с чекистской работы в концлагерях. Несколько минут начальник сидел отрешенным от реального мира, потом, овладев собой, спросил, кого я могу рекомендовать на свое место. На радостях освобождения, заботясь как бы не застрять в концлагере, я главное и выпустил из виду: кто же, в самом деле, может быть моим преемником? «Жуков, - мелькнула у меня мысль и я тотчас же высказал ее вслух, - он заведовал электростанцией до меня». Начальник поморщился: «Не годится, какой он может быть заведующий»?! Жукова начальство недолюбливало, не столько за его порок – пьянство, сколько за его независимый характер. Как заключенный-бытовик он мог позволить себе такую роскошь, как плевать на чекистов и их указания. Водворилось молчание, прерванное приходом Дробатковского. Как-то невольно я сравнил Павла Владимировича, каким, больше года при моем прибытии в Пушсовхоз, был он тогда и что с ним сделал легочный туберкулезный процесс, зашедший так далеко, сегодня. И мне до слез стало жалко этого хорошего человека, обреченного на гибель в концлагере в сыром климате Карелии.
Начальник обратился к нему с вопросом, кем меня заменить, добавив о моем предложении назначить Жукова. Дробатковский тоже поморщился и тоже не согласился со мной. Положение оказалось действительно неразрешимым, так как в Пушсовхозе кроме Жукова не было ни одного электрика. Это обстоятельство могло иметь пагубное влияние на быстроту моего освобождения и у меня снова душа ушла в пятки. Выручил Дробатковский: «Вишневского придется назначить». О последнем я и не подумал. Это был тот самый паровозный машинист, коммунист, исполнявший на электростанции обязанности старшего механика и куда-то бегавший, когда узнал о моем освобождении. Локомобиль он, безусловно, знал хорошо, но в электротехнике он ничего не смыслил и тока боялся как огня. Очевидно, Николай Николаевич уже знал об этой кандидатуре, но отлично понимал ее несоответствие, почему и предложил мне остаться вольнонаемным. Но, поскольку его помощник по производству назвал фамилию машиниста, начальник дал согласие и позвонил начальнику Общей части об издании приказа по отделению о назначении заведующим электростанцией заключенного Вишневского.
Дробатковский еще несколько задержал меня, прося проездом прозондировать почву в Ленинградском туберкулезном институте для помещения его туда на лечение, поскольку он надеялся вслед за мной освободиться из концлагеря. Как я уже рассказывал, его просьбу я выполнил. Затем он тепло со мной распрощался, пожелав мне всех благ на воле. Попрощался я и с Николаем Николаевичем, правда без рукопожатий, думая, что больше его не увижу, но оказалось, что в этот же день мне придется его еще раз увидеть, чтобы обратиться к нему с просьбой.
Электростанцию я быстро передал – Вишневский только этого и ждал, так что передача свелась к написанию акта в трех экземплярах с перечислением оборудования, инвентаря и инструмента. Один экземпляр для Общей части, один Вишневскому и один я захватил с собой на волю. Не встретило возражения со стороны нового заведующего и окончание акта, сделанного мной: «Локомобиль и динамо-машины не требуют просмотра и капитального и текущего ремонта». Этим примечанием я обезопасил себя от возможных ко мне претензий после моего отъезда, которые могли ко мне возникнуть в случае аварии допущенной при управлении электростанции некомпетентным Вишневским, в таком случае, спихнувшим с себя ответственность на неисправное оборудование, якобы оставленное ему мной. И чекисты, даже разыскав меня на воле, с бо́льшим удовольствием привлекли бы меня к ответственности, политзаключенного, чем социально-близкого заключенного-бытовика, к тому же и коммуниста Вишневского, истинного виновника аварии и находящегося под рукой. Еще одна интересная подробность: было приказано датировать акт передачи не днем фактической передачи 9-го июня, а 8-м июня, датой пришедшего распоряжения о моем освобождении из концлагеря.
Сдав акт передачи начальнику общей части, я пошел в УРЧ рассчитаться с концлагерем. При мне выписали «Справку об освобождении» с указанием длительности фактического срока заключения, даты ареста, осуждения по статье 58-й пунктов 8 и 11 уголовного кодекса (УК) РСФСР, срок в десять лет по приговору, замену десяти лет восемью годами по постановлению ЦИК СССР от мая 1934 года и номера личного дела «1912». Мне так и осталось неизвестным был ли этот номер присвоен мне при аресте или попадании в концлагерь. Поскольку перед номером стояла начальная буква моей фамилии, можно заключить, что или по реестру ПП ОГПУ при ЛВО до меня было арестовано 1911 человек с фамилиями начинающимися на эту букву или 1912-м заключенным из попавших в Соловецкий лагерь особого назначения с фамилиями на эту букву оказался я. Мое наивное убеждение о получении немедленно справки на руки, с которой я тотчас же и покину концлагерь, не оправдалось. Начальник УРЧ объяснил мне о порядке передачи справки в ближайшее отделение милиции для получения там паспорта. Затем он меня спросил куда я поеду, получив паспорт, чтобы выписать мне литер на проезд по железной дороге. Впопыхах освобождения я и не подумал на какие деньги я буду брать железнодорожный билет, хотя денег у меня и было порядочно из получаемых мною премиальных. Такая забота обо мне государства, берущего расходы на себя по моей доставке домой, даже тронула меня. Моя мать после долгих скитаний по захолустьям вокруг Ленинграда, когда ее лишили в 1933-м году паспорта на проживание в Ленинграде, обосновалась и работала в городе Новгороде на Волхове, или как в старину его называли Новгород Великий. Я и назвал этот населенный пункт. «Нельзя Вам туда, - ошарашил меня начальник УРЧ, - выбирайте что-нибудь другое, кроме столиц, областных городов» … и последовало то же перечисление категорий населенных пунктов, что накануне довел до моего сведения его помощник. Я стал в тупик, куда же ехать? Освобождение «по чистой» оказалось весьма и весьма условным. Кроме Новгорода остальные города необъятной страны были для меня все одинаковы. При таких условиях я мог ехать куда угодно, все равно нигде у меня никого не было. Я не успел еще покинуть концлагерь, а воля уже сделала мне первую гримасу. Воля выглядела полуволей.
Не дав определенного ответа начальнику УРЧ, я решил пойти посоветоваться в моей нежданной беде с Николаем Николаевичем. Он несколько удивился моему приходу, но принял во мне участие, когда я ему изложил причину своего прихода к нему, подчеркнув о моем желании ехать к матери, которая совершенно одинока и у которой я единственный сын. Начальник очень удивился, узнав о запрете мне ехать в Новгород. «Новгород ведь не областной, а районный центр, - рассуждал вслух Николай Николаевич (и совершенно справедливо, так как бывший губернский город Новгород был тогда районным центром в Ленинградской области и только после второй мировой войны стал областным), - и в 100-километровую зону вокруг Ленинграда не входит, он дальше от Ленинграда чем 100 километров, не понимаю, почему Вас туда не пускают»?! Затем подумав, сказал: « Разве только он стал режимным, надо выяснить»? «Режимными», то есть запретными для высылаемых граждан и бывших заключенных стало много городов, а впоследствии еще больше, причем по какому принципу город становился режимным никто из народа не знал. Это было тоже секретно. В названии «режимный» ярко выразилась любовь, ставшая второй натурой особых секретных чиновников, не называть результат творимых ими в недрах кабинетов деяний ясными, всем понятными, словами. Не «запретный для проживания таких-то и таких-то категорий советских граждан», а «режимный», чтобы кому не положено не понял бы, что это значит. Ох, уж это арго секретной службы: «особый», «специальный», «режимный»! Это арго, чтобы только как-нибудь возвысить над народом своих прихвостней, чтобы отделить народ от аппаратчиков управления и подавления, все больше распространялся большевицкой верхушкой.
Николай Николаевич снял трубку телефона и спросил начальника УРЧ о причине его отказа выдать мне литер до Новгорода. Тот что-то ответил, но ответ не удовлетворил начальника отделения, и он вызвал начальника УРЧ к себе в кабинет. Последний пришел немедленно и, раскрыв папку перед самым носом начальника, так, чтобы я не увидел содержимое ее, ткнул пальцем в какое-то место подшитой бумажки. Начальник отделения сразу же рассекретил начальника УРЧ, сказав во весь голос: «Так тут же не написано запретить, а только не рекомендовать. Нет, (и он назвал мою фамилию) можно туда ехать и сейчас же выпишите литер».
Подшитая бумага была типичным образцом секретных инструкций, издаваемых для подчиненных на разных ступенях секретного аппарата подавления, притом инструкций в пояснение или дополнение других секретных инструкция издаваемых самой верхушкой большевицкой партии в обход закона, ему противоречащих, а потому и засекреченных. Инструкция принесенная начальником УРЧ была еще характерна господствующей среди чиновников разных ступеней секретной службы психологией страха перед высшим начальством и желания выслужиться перед ним. Запретив бывшему политзаключенному въезд в Новгород, такой чиновник ограждал себя от гнева вышестоящего начальника и мог выслужиться за проявленную бдительность. В случае же пострадавший, паче чаяния, найдет лазейку в высшие сферы и обжалует незаконное ущемление своих прав, чиновник издавший инструкцию легко свалит все на исполнителя «превышающего» свои полномочия, по инструкции, где сказано не «запретить», а «не «рекомендовать». Отсутствием ясности, влекущей за собой разные толкования на местах, спускаемые инструкции изобиловали всегда и не понятно, делалось ли это умышленно, чтобы свалить, в случае чего, ответственность на исполнителя подчиненного, или же это был органический порок присущий низкому интеллектуальному развитию составителей инструкция.
Я поблагодарил от души Николая Николаевича, распрощавшись с ним, получил от него доброе напутствие. В УРЧ для меня уже было все сделано и начальник УРЧ пояснил о получении мною всех документов на руки только завтра с утра, чтоб я мог успеть сходить в милицию в село Повенец и там по документам получить паспорт для проживания на воле. Выйдя из здания управления, я задумался, как много значит, при исполнении правил, внутреннее содержание человека поставленного для исполнения этих правил. Два чекиста, начальник отделения и начальник УРЧ, а как они оба по-разному подошли ко мне, оба выполняя инструкцию. Второй поставил мне палки в колеса и ничего больше не хотел знать, первый, не преступая закона, сделал мне величайшее благодеяние.
На электростанции я уложил вещи. Вышел у меня чемодан и мешок, в который я положил тулуп, подушку и одеяло, белье, концлагерное обмундирование, в котором я ходил и которое полагалось в бесплатное пользование пожизненно освобождающемуся: гимнастерка и брюки хлопчатобумажной ткани и телогрейка – все защитного цвета. Черный бушлат пришлось сдать еще до оформления документов каптенармусу, который сделал отметку в моем формуляре. Формуляр я сдал в УРЧ. В чемодан я уложил собственные учебники и справочники. С ними я не хотел расставаться, твердо решив продолжать на воле техническое образование, систематизировать имеющиеся у меня знания и приобрести новые, поступив в заочный институт. Последнее оказалось на воле для меня неосуществимым, так как подготовка к вступительным экзаменам отсрочила мое поступление на год, а там настал 1937-й год, когда об учебе нечего было и думать, находясь в постоянном ожидании нового ареста. Посуду я роздал своим подчиненным, так как у Нее посуды было достаточно.
Переночевав последнюю ночь, с 9-го на 10-е июня на электростанции, к 9-и часам утра я явился в УРЧ и получил кроме литера на проезд запечатанный пятью сургучными печатями большой пакет для передачи в паспортный стол милиции села Повенец. Мое удивление объемом пакета рассеялось, когда армянин, помощник начальника УРЧ, сообщил, что со мной освобождаются еще шесть уголовников, которым на руки документы решено не выдавать, а потому документы положены в пакет, который мне доверено доставить по назначению. Тут же мне передали под конвой этих шестерых социально-близких свободных граждан. Данное мне поручение было парадоксально с точки зрения духа и буквы концлагерного устава, подчеркивавшего на протяжении десятков лет неопасность уголовников и сугубую опасность политзаключенных. Тюремщиков-чекистов долгие годы тренировали на принципах бдительности к врагам и классовой ненависти. И все же умные чекисты, долго прослужившие в концлагерях, отлично знали кто делал побеги, кто постоянно нарушал дисциплину, с кем было больше хлопот – только не с политзаключенными. И вопреки уставу, вопреки тренировке, чекисты в душе доверяли больше политзаключенным, что ярко выразилось в поведении солдата войск ОГПУ, когда в этапе следовавшем из Кемперпункта на «Вегеракшу», он взял к себе в помощники по надзору за освободившимися уголовниками меня, политзаключенного с большим сроком, а не уголовника по надзору за мной, а теперь мне, бывшему политзаключенному, поручили документы уголовников, а не им мои.
Мои подконвойные все были не старше двадцати лет, в живописных лохмотьях концлагерного обмундирования, притом без шапок. Все были мелкими ворами, отсидевшими не полностью по три года и, вероятнее всего, выходящими из концлагеря не надолго до новой кражи. По дороге в Повенец, которую мы прошли пешком, я несколько раз опасался, как бы моя команда не разбежалась еще до получения паспортов. В милиции я сдал пакет начальнику паспортного стола, представил ему всю команду и получил разрешение распустить ее часа на два, чтобы затем явиться в милицию для получения паспортов.
Я побродил по Повенцу, прошелся вдоль шлюза канала и первым пришел в милицию.
Тревога за моих подопечных не покидала меня, хотя юридически я и не мог за них отвечать. Логика подсказывала, что за паспортами они должны явиться, но не исключалась возможность привода их в милицию, пойманных на совершении кражи. Все же все шесть пришли и им были выданы трехмесячные паспорта-бланки. Такому элементу считалось, и вполне обоснованно, излишним на них расходом государства выдавать паспорта книжечкой сроком на пять лет, так как все они, вскоре пойманные на новом преступлении, уже не будут нуждаться в паспорте для проживания на воле и только зря пропадет книжечка. Мне выдали паспорт книжечкой сроком на пять лет и справку об освобождении, хотя на последней было указано, что она действительна в течение десяти дней и видом на жительство служить не может. Доверия ко мне власть имущих оказалось все же больше, чем к уголовникам. Полученный мной паспорт по виду (но только не для работников секретной службы) ничем не отличался от десятков миллионов паспортов выданных вольным людям никогда и никем не «осужденных» на пребывание в концлагерях. Но в строке «основание выдачи паспорта» было вписано «Справка Пушхоза ББК НКВД от 10/VI 36 г». Казалось невинная запись, а на самом деле эта строчка делала паспорт «волчьим», сразу показывая, что владелец паспорта бывший заключенный. Вначале я не разобрался в выданной мне пилюле, но со временем, по отношению ко мне во всех учреждениях, как только мой паспорт попадал в руки, так называемых, спецработников, да и не только спецработников, я видел только неприязнь, отказ в хороших местах, неисчерпаемую дискриминацию.
С паспортом я вернулся в Пушсовхоз, в последний раз пообедал в столовой административно-технических работников и выяснил возможность выезда на попутной грузовой машине на следующий день утром на Медвежью гору. Об этом мне сказал мой бывший однокамерник начальник части технического снабжения политзаключенный Сорокин. Бесплатным проездом я экономил 5 рублей на автобусный билет.
Но не в экономии 5 рублей заключалась моя добровольная отсрочка отъезда на волю. Когда вся процедура моего освобождения из концлагеря закончилась, паспорт был в кармане, передо мной во весь рост стала горечь расставания с Ней. Я перенес свои вещи на Зональную станцию и остаток дня мы провели вместе. ОНА была счастлива за меня, я был подавлен, бессильный чем-либо ей помочь. Мы оба говорили друг другу не то, что думали. На словах мы надеялись скоро свидеться, в мыслях у нас никакой надежды не было. Мы отлично понимали, что видимся в последний раз в этом мире, неумолимая судьба разъединяла нас. ЕЙ оставалось сидеть в концлагере еще пять лет, а это был такой срок, в который все могло случиться, и, как раз, неблагоприятное. Предчувствие нас не обмануло. До середины 1937-го года мы вели переписку. Последнее письмо полученное от Нее не прошло цензуру, по-видимому, кем-то было брошено в почтовый вагон проходившего поезда. ОНА сообщала, что концлагерные условия изменились к худшему до неузнаваемости. ЕЕ переселили в общий барак на сплошные двойные нары. ОНА не писала, чтобы не расстраивать меня, о месте своей работы. Вполне возможно Ее сняли, как политзаключенную буржуйку на тяжелые физические работы. ОНА предупреждала меня, что это последнее от Нее письмо, так как переписка для заключенных ограничена только с одним родственным лицом и то по одному письму в месяц. «Ежовые рукавицы» чувствовались во всем. Через год, проездом через Москву, я побывал на квартире Ее детей. Сын Ее уже год сидел в концлагере по 58-й статье сроком на пять лет. От Нее и Ее сестры уже около года не было никаких известий, а посылки возвращались без объяснения причин отсутствия адресата. Невольно можно было предполагать самое худшее, что обеих сестер нет в живых и какова их кончина можно было только догадываться. Тяжело было себе представлять, как валились они в общий ров с двумя пулями в затылке. Где, когда, почему, так и осталось тайной, той тайной, которая окутывала миллионы кончин в концлагерях и тюрьмах ни в чем неповинных людей, да еще каких людей?!
Последнюю ночь в концлагере я переночевал на лабораторном столе, подослав под себя неизменный тулуп. Рано утром, 11-го июня, еще раз попрощавшись с Ней, унося Ее образ на всю жизнь, я уехал из Пушсовхоза в кузове грузовой автомашины. На вахте меня пропустили без обыска.
На Медвежьей горе на вокзале я подошел к кассе, чтобы обменять литер на железнодорожный билет и узнал, что по Кировской железной дороге прекращено движение поездов из-за колоссальной катастрофы на станции Кемь, где пассажирский поезд столкнулся с товарным и под их обломками погребен путь. Концлагерь, и освобожденного, как будто не хотел отпускать меня со своей территории. Движение было восстановлено только через двое суток, когда я и уехал с Медвежьей горы, с территории Беломорско-Балтийского лагеря, теперь уже не ОГПУ, а НКВД.
На этом мои рассказы о концлагерях ОГПУ-НКВД периода 1929-1936 годов можно было бы и закончить.
Однако и двое суток, проведенные мною на Медвежьей горе, и мой путь в железнодорожном составе Кировской железной дороги, проходивший по территории Белбалтлага и Свирлага, изобиловал характерными для концлагерей черточками, о которых следует упомянуть.
Узнав о невозможности моего выезда с Медвежьей горы, мой друг и однолетка радиотехник с радиостанции Управления ББК, политзаключенный Виктор Штернберг, оставшийся вольнонаемным, приютил меня в своей комнате. Он и вольнонаемный механик радиостанции Валентин Горин, тоже мой однолетка, старались развлечь меня в эти два дня ожидания поезда. Вечера, как в бытность мою на Медвежьей горе, когда с Виктором мы оба были политзаключенными, мы проводили все втроем, ходили в кино. Днем мы все трое вместе ходили обедать в столовую для вольнонаемных сотрудников Управления ББК. В столовой и то было разделение на классы, на степень угодности лиц правящей верхушке. В разных помещениях с разным набором блюд, как в зеркале отразилась неуклонная, все возрастающая дифференциация советского общества, все увеличивающаяся пропасть между управляющими и управляемыми. Была столовая для вольнонаемных кадрового состава, то есть для чекистов, куда не допускались прочие вольнонаемные, присланные на работу в концлагеря специалисты из гражданских учреждений и бывшие заключенные, оставшиеся работать по вольному найму. Для тех и других была другая столовая, где кормили хуже. В эту столовую ходили Виктор и Валентин по праву, я с ними нелегально. В этой столовой я встретился с племянником атамана Каледина, казачьим офицером связи Калединым. С ним я жил в одной комнате на Соловках и с 1932-го года не виделся, с тех пор как его в этапе перебросили на Беломорстрой. Теперь он остался вольнонаемным механиком телефонной станции Управления ББК. Встретились мы очень радушно. Чтобы не подводить своих друзей, за нелегальный провод в столовую, я соврал Каледину, что остался вольнонаемным заведующим электростанцией. При этой встрече я и узнал от Каледина о печальной участи, о которой я уже рассказывал, его двоюродного брата казачьего офицера Данилова, адъютанта Наказного атамана Всевеликого войска донского генерала Богаевского.
Прохаживаясь по поселку Медвежья гора, я встретил жену моего старшего друга и покровителя на протяжении многих концлагерных лет политзаключенного Павла Васильевича Боролина. Она очень обрадовалась мне и поделилась своим горем. Я очень сам расстроился, так как искренно любил ее мужа и уважал его. Павел Васильевич подлежал отправке в Волголаг в район города Углича на Волге. Я знал из отрывочных фраз Павла Васильевича о его трениях с помощником главного инженера ББК, бывшим политзаключенным, оставшимся вольнонаемным, Карлштейном. При слиянии Соловецкого концлагеря с Белбалтлагом Боролин был переведен из Кеми на Медвежью гору с должности главного механика Соллага на должность главного механика ББК, где он и вошел в служебное соприкосновение с Карлштейном. Недалекий, малосведущий инженер, но величайший подхалим, Карлштейн явно боялся опытного, умного, большого масштаба работника, каким был Боролин, и всячески всегда пытался ущемить последнего. Однако Боролин в своих предложениях всегда выходил победителем над Карлштейном и к голосу Боролина с большим вниманием прислушивался главный инженер ББК Вержбицкий, бывший политзаключенный, оставшийся вольнонаемным. Вержбицкий был переведен в Волголаг главным инженером, Карлштейн стал главным инженером ББК и немедленно расстался с опасным соперником. Под видом перевода на строительство Угличской ГЭС Боролин был снят с должности главного механика ББК и включен в этап вместе с уголовниками. Последнее было дело рук Карлштейна, желавшего муками этапа и отомстить Боролину. Неужели за долголетнюю самоотверженную работу политзаключенным на должности главного механика Соллага, а затем ББК Боролин не заслужил персональной отправки в Волголаг с конвоиром или без него? И теперь Боролину предстояло, после четырех лет свободной езды по командировкам в мягком вагоне от Мурманска до Петрозаводска, ехать рядовым заключенным со всякой шпаной в душном столыпинском вагоне для арестантов, где ни сесть, ни встать, а можно только лежать на двойных нарах и терпеть все муки этапа с камерами для пересыльных.
Боролина взяли ночью с квартиры и отвели за проволоку. Жена пыталась повидать его, я пошел с ней, надеясь пройти за проволоку к Павлу Васильевичу. Что его жену в воротах за проволоку не пропустили, я не удивился, так как она была вольным человеком. Но солдат и меня не пропустил. К этому я не привык, состоя в концлагерной элите, обладая в течение многих лет пропуском на выход и вход за проволоку. Меня это ошеломило, потом я вспомнил, что уже четыре дня я вольный, к концлагерю отношения не имею, привилегии мои кончились, я стал никто. Несколько позже нам удалось на расстоянии через проволоку увидеть Павла Васильевича и обменяться с ним несколькими фразами, пока тюремщики не заметили нас и не прогнали и нас и Боролина. Я успел ему сообщить о своем освобождении. Он поздравил меня, сказав, что это единственная приятная для него новость за последние дни. Передача Павлу Васильевичу так и осталась не переданной.
Описанный случай с Боролиным являлся характерной чертой положения заключенного в концлагере, где каждый заключенный, какую бы высокую должность он не занимал, ежечасно по прихоти концлагерного чекистского начальства мог быть переведен на положение рядового заключенного, вне зависимости от статьи, срока, заслуг в выполняемой работе.
Садясь в поезд, я встретился с Львом Марковичем Райцем, с которым я работал в Инспекции ГУЛАГа на Медвежьей горе, где он был заместителем начальника Инспекции. Еврей по национальности, крупный нэпман, владелец обувной фабрики в Москве и сам хороший специалист по коже и производству обуви, Райц был посажен в концлагерь по 58-й статье, пункту 7-у (вредительство) на десять лет, которых полностью не отсидел. Теперь его фигура в элегантном новом плаще излучала непревзойденное самодовольство. Столкнувшись со мной, он только процедил сквозь зубы, с явным пренебрежением ко мне, что и он освобожден из концлагеря «по чистой» и едет прямо в Москву, где он уже принят на работу в ГУЛАГ НКВД. Натан Френкель устроил ему тепленькое местечко. И в то время, как я семенил по направлению к общему вагону, перебросив через плечо связанные деревянный чемодан и мешок, Райц степенно направлялся к мягкому вагону в сопровождении носильщика с его двумя новенькими объемистыми чемоданами. «Чистая» Райца значительно отличалась от моей «чистой». Он ехал прямо в столицу на определенную работу, меня едва пропустили в районный центр, а мое трудоустройство покрыто было мраком неизвестности и сулило мне много обид в дальнейшем.
В вагоне, когда я смотрел в окно, кто-то сильно толкнул меня в плечо. Я обернулся и увидел солдата войск НКВД. Я даже не успел спросить, что ему надо, как он пошел дальше по вагону, всматриваясь в лица. Очевидно, мое лицо не походило на лицо беглеца на фотокарточке, которого разыскивали в поезде, а солдату показалось подозрительным, что я как бы прячу лицо, отвернувшись к окну. Эпизод лишний раз напомнил, что мы, вольные пассажиры, едем по территории концлагерей.
На второй полке ехал чекист-фельдъегерь, везя кожаный мешок с секретной почтой, который он держал под головой. На станциях мы попеременно с ним выходили за покупками съестного и за кипятком. Выходя, он поручал мне блюсти его секретную почту. Очевидно, я внушал ему доверие, но если бы он заглянул в мой паспорт, как бы он выругал себя за притупление бдительности!
С каждым оборотом колеса я продвигался ближе к домашнему уюту. С каждым оборотом колеса я проделывал путь, обратный тому, по которому меня везли в кованом вагоне с решетками на окнах семь лет тому назад. Печальные воспоминания пережитого будили отложившиеся в памяти, выстраданные заключенными, тюремные афоризмы:
«Будь проклят тот отныне и до века
Кто думает тюрьмою исправить человека».
Вхождению «под ключ» и выходу из-под него посвящается второй афоризм, утешающий арестованного первой строфой:
«Приходящий не печалься» …. и предостерегающий второй строфой освобожденного:
«Уходящий не радуйся».
Если первой строфой я никак не мог заставить себя воспользоваться в первый отрезок тюремного стажа, то с тем большей правотой вторая строфа теперь ко мне относилась.
За 2718 дней заключения я видел столько людей ставших заключенными, что невольно вспоминается третий тюремный афоризм:
«Кто не был – тот будет,
Кто был – тот не забудет».
Справедливость второй строфы сохраняется во мне и до сих пор, материальным выражением которой, и явились те мельчайшие подробности в моих рассказах о концлагерях ОГПУ-НКВД.
