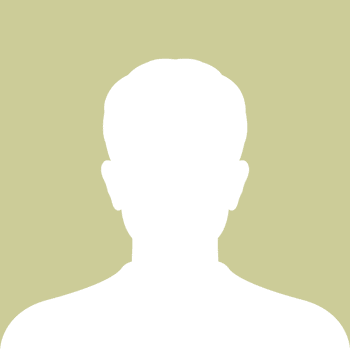
Шляпникова Ирина Александровна
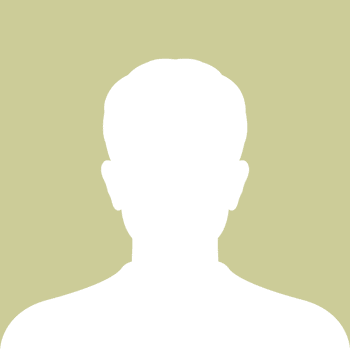
- Фотокартотека
- От родных
- Дополнительная информация
Если Вы располагаете дополнительными сведениями о данном человеке, сообщите нам. Мы рады будем дополнить данную страницу. Также Вы можете взять администрирование страницы и помочь нам в общем деле. Заранее спасибо.
Ирина Александровна Шляпникова, дочь наркома труда первого большевистского правительства А.Г. Шляпникова.
Интервью по случаю выхода книги: Шляпникова И.А. Александр Шляпников и его время. М.: Новый хронограф, 2016. 1054 с.
Беседовал С. Е. Эрлих
— Когда Вашего отца арестовали, сколько Вам было лет?
— 4,5 года.
— Вы что-то помните об отце?
— Об отце помню только то, что он меня любил, ласкал. Чтό ещё я могла о нем помнить? Об отце практически всё я узнаю теперь из архивов, так как у меня была резко отнята память обо всей предыдущей жизни. Детдом, новая жизнь... А всё прошлое ушло, видимо это спасло меня от худшего. Правда, надо отметить, что многое в новой жизни мне доставалось легче, чем другим, а я знаю, что в таких случаях некоторые даже сходили с ума. Когда я об этом сказала одному священнику, тот ответил, что меня защищали ангелы-хранители.
— А мать сразу же арестовали?
— Отца арестовали в ночь с первого на второе января 1935 г. Его тогда не было дома, он был на даче − на Николиной Горе. В это время, вернувшись из ссылки на Беломорско-Балтийский канал, он был без работы и трудился над рукописью «За хлебом и нефтью», которую мне потом вернули из архива ОГПУ-МГБ-КГБ-ФСБ и я, немного отредактировав, потом дала её в «Вопросы истории».
А.Г.Шляпников. 1921.
В марте его осудили, по делу Московского центра рабочей оппозиции, на 5 лет заключения в особом Верхнеуральском политизоляторе, но в декабре, смягчив приговор, направили в ссылку в г. Астрахань. В сентябре 1936 г. дело Московского центра возобновили и отца вернули на окончательное следствие в Москву, где мы дважды имели с ним свидание. Если раньше нам говорили, что отец в командировке, то теперь − что он в больнице.
В начале сентября 1937 г., по окончании следствия, был вынесен приговор: высшая мера наказания (ВМН), который был приведён в исполнение 2-го сентября.
Через пять дней − 7 сентября, арестовали мать. При этом находились дома старший брат Юра и я. Младший − Александр, был в тот момент на даче, с няней. Няня хотела даже официально оформить над ним опеку. Но брата у нее выманили и увезли, якобы, к маме. Короче говоря, украли. В этом был замешан директор ТАСС − Бородин. Дача, видимо, приглянулась ему, и брата увезли для того, чтобы не было владельцев. Если няня взяла бы брата под опеку, то у дачи оставался бы какой-то хозяин.
— Специально выкрали ребенка, чтобы забрать дачу?
— Вероятно − да, поскольку кооператив продал дачу Бородину.
— Когда мать арестовали, вас отдали сразу в детский дом?
—Нас, старших, утром этого же дня привезли в Даниловский детский приёмник, а через день-два туда привезли и совершенно растерявшегося пятилетнего младшего.
Арестовали маму ночью, и спавший в одной с ней комнате старший брат видел, как понятые воровали мелкие вещи. Отцу ведь, когда он работал в «Металлоимпорте», на память дарили сувениры: часы и разные мелочи.
— А где же была ваша квартира?
— Это была кооперативная квартира, которая находилась по адресу: Спасо-Песковский переулок, дом 3/1, квартира 53. Недавно мы установили на ней мемориальную доску.
— А кто жил в этом доме? Госчиновники?
— Нет, в основном научные работники, врачи, инженеры. Они, как и наш отец, покупали эти квартиры на свои средства. Отец, по тому времени, тоже неплохо зарабатывал. Правда, партийным платили меньше, чем специалистам, поскольку у них был партмаксимум − 500 рублей. Кажется, мама зарабатывала больше его. Она − грамотная машинистка, выполняла и первичную редакторскую правку. Кроме того, отец получал гонорары за книги, на которые уходило всё его свободное время. Издано было немало его книг. Последняя вышла в 1931 г. А квартиру он купил то ли в 1929 году, то ли немного раньше. Правда, первая квартира, в которой я родилась в 1930-м году, была меньше той, в которой мы жили потом.
— А почему ему не дали квартиру в Доме на Набережной?
— Я не знаю. Скорее всего, он сам, как и многие старые большевики, не хотел. А может быть и потому, что с 1921 г. началось преследование «рабочей оппозиции».
— Он уже с тех пор был гонимым?
— Да. Но дело не в этом, а отец, как и многие, старался не быть на иждивении государства. Это было первое поколение большевиков, которое старалось сохранить свободу взглядов. Сейчас же это поколение ругают, не разбирая, кто из них во что превратился со временем.
— Вас отправили в Даниловский детский приёмник сразу же, как арестовали мать?
— Да. А оттуда, через шесть дней, нас троих, по путёвкам НКВД г. Москвы, отправили в три разных детдома. Нас считалось нужным обязательно разлучить. Это была обычная практика.
— А вы могли как-то переписываться? Вы знали, кто из вас где находится?
— Первое время мы ничего не знали друг о друге, но мама, когда была ещё в тюрьме в г. Томске, как-то узнала, где я. Наш директор − Дмитриев Иван Николаевич − помог найти братьев и нас связать. Мы с ребятами напрямую не переписывались, связь была налажена через нашего директора и маму.
— Она сидела в тюрьме?
— Первые два года она находилась в Томской тюрьме, затем была в лагере, который располагался в районе станции Яя, Томской железной дороги. Это был женский лагерь.
Она находилась там до 1945 г., работала на швейной фабрике, где шили для армии всё, что могли. Было тяжело. Чтобы получить лишние 150 граммов хлеба, ей нужно было на 50% перевыполнить норму. В результате полного истощения организма (пеллагра), её «списали» как инвалида 2-й группы и, по отбытии срока, задержали около года «на прикреплении», т.е. в ссылке, недалеко от лагеря. Освободившись в 1946 году, мама смогла приехать поближе к нам − в небольшой город Бор, на другом берегу Волги, напротив г. Горького, где старший брат в то время учился в университете.
— Она могла забрать вас из детского дома?
— Нет. Куда она могла нас забрать, раз у неё самой не было ни работы, ни жилья? Она приехала поближе к старшему брату, который жил в университетском общежитии, сняла комнатку в г. Бор, и устроилась на работу вахтёром на химфаке Университета.
— А где находились детские дома, куда вас троих направили из Москвы в 1937 году?
— Старшего брата, как школьника, направили в детдом в г. Горьком. Я попала в дошкольный детский дом в селе Саваслейка (потом кто-то решил переименовать её в Севастлейку), Кулебакского района, в 20-ти км. от Мурома. Это Горьковская область. Младшего брата направили в детский дом в Павлове на Оке. Это тоже Горьковская область.
Наш детдом располагался в бывшей усадьбе графов Уваровых, в двух деревянных домах, принадлежавших ранее обслуживающему имение персоналу. Помню, там ещё был обычный деревенский заборчик и, когда мы были маленькими, ходили вдоль него внутри участка, всегда ходили небольшой кучкой, поскольку всего боялись. Потом мы стали летом ходить в ближний лесок, а затем и вовсе могли свободно ходить в ближайшей сельской местности.
Поскольку наш детдом был дошкольным, через год всех восьмилеток должны были отправить в другой − школьный. Наш директор совсем не хотел отдавать своих замечательных «дошколят» в чужой − школьный, и сумел добиться перевода своего детского дома в разряд школьных. Но не успел вовремя, и часть талантливых ребят ему пришлось отдать в другой детдом. Со следующего года наш детдом стал школьным и мы в нём остались.
— Рядом было село?
— Село находилось приблизительно в полутора километрах.
— Эти детские дома были специально для детей репрессированных?
— Вообще-то нет, но у нас много было таких детей, о чём мы тогда не знали. Наш директор был идеалистом, ему следовало бы поставить памятник. Он твёрдо придерживался правила: «сын за отца не отвечает», и держал в тайне ото всех сведения о родителях воспитанников.
— В детдоме была своя школа?
— Первые два класса мы учились в детдоме. К нам приходил учитель. Потом, в третьем и четвёртом классах, мы стали ходить в сельскую школу. Ходить нам приходилось далеко, примерно два километра. И зимой, и летом. В пятом классе мы уже ходили в новую школу, построенную посредине между селом и мызой, где находился детдом.
— Вы учились в одной школе вместе с сельскими детьми?
— Да, с 3-го класса вместе с сельскими детьми. Между прочим, они нам завидовали, так как до войны мы были хорошо одеты. Помню, как-то, в классе третьем, однажды мы явились все в красных фетровых валенках и посмотреть на нас собралась детвора всего села. Вообще, мы были много лучше обеспечены по сравнению с селянами. Кормили нас нормально, три раза в день, даже когда началась война. В войну нам меньше 400 граммов хлеба не давали. Наш директор заботился о нас и добывал для нас продукты со всего района. Когда поступала заграничная помощь, нам тоже доставалось немало.
— То есть он был действительно настоящий директор, педагог?
— Был ли он педагогом по образованию − не знаю, но человеком был настоящим.
— А кем он был по происхождению? Из дворян?
— Не знаю так же и кем он был по происхождению. Очевидно, из рабочих. Там, в 12-ти километрах от нас в то время располагался крупный Кулебакский металлургический завод. И, между прочим, там было много рабочих из нашего села.
— Он был молодой?
— Ему было меньше 30-ти. Он был холостой и вскоре женился на воспитательнице. Кроме директора, молодыми были: счетовод (по-моему, Григорий Пуговкин, который погиб на Халхин-Голе) и бухгалтер. Общались они с нами по-простому, мы играли вместе в лапту и т.п. Молодыми были ещё и две воспитательницы. У нас было доверительное отношение друг к другу.
— А какой процент репрессированных детей был в вашем детдоме?
— По-моему, репрессированных было большинство, но, кроме директора никто об этом не знал. Были и осиротевшие дети из окрестных мест, о них всё было известно. Мы, например, знали, что у Коли Веснина отец − милиционер, погиб при исполнении служебных обязанностей. От нас он ничем не отличался.
— А сколько всего было человек?
— Доходило до 90 человек.
— А дети в детдоме, они что-то вспоминали про своих родителей?
— Нет, в разговорах не вспоминали, у нас в этом отношении было какое-то молчаливое табу.
— Эта тема была полностью закрытой? Даже близкие люди не делились между собой?
— Просто в этом не было потребности. Большинство детей ничего не знали о родителях, а директор, если и знал, то молчал.
Приведу пример: году в 1938-м к нам привезли группу детей из Кемеровской области, города Сталинск-Кузнецкий: Зою и Надю Чикишевых, Клаву Гузееву и Женю Кемпе. Там тогда расстреляли группу инженеров с заводов и рудников Кузбасса ( в том числе и жён). Через несколько лет, при устройстве на работу Жене Кемпе понадобилось заполнить анкету. Так как о родителях он ничего не знал, то сделали запрос нашему директору, хотя на тот момент он уже не был директором. Иван Николаевич ответил, что он знает, но не скажет. Вот такой у нас был директор. А в 1946 г., за год до того, как мне нужно было покидать детдом, директора арестовали. Его, первого секретаря райкома и председателя лучшего колхоза арестовали по так называемой «бериевской развёрстке». Так тогда было. Его все знали в районе, поскольку он был очень уважаемым человеком, к тому же честным, порядочным и общительным, и отбывал он срок в одной из ближайших колоний.
— А в чём его обвинили?
— Мы этого не знали, но если «постараться» − то многое можно придумать. Например, наши ребята залезли к кому-то в огород, пошалили, похватали кое-чего. Если бы любой крестьянин пожаловался, этого мальчишку отправили бы в детскую колонию. Чтобы этого не случилось, директор взял и показательную порку им устроил. Это ему, возможно, и вменили.
— И за это его арестовали?
— Думаю, что нет. Возможно, сначала арестовали, а потом обвинение «нашли».
Мы протестовали. В то время завучем, по совместительству баянистом и культработником, у нас был человек, прошедший войну, который вернулся, т.к. был ранен в ногу. Мы его очень любили. Он написал письмо в защиту директора и большинство старших ребят его подписали. Я не знаю, куда это письмо отправляли.…. Когда одна из воспитательниц пыталась выяснить, кто организовал это письмо, мы − молчок! Никто никогда об этом не узнал. У нас ябедников терпеть не могли. Да их почти и не было.
— Вам повезло, у Вас был хороший директор.
—. Да. Действительно, повезло.
— А Ваши братья, что рассказывали? Как они?
— У старшего брата были две воспитательницы, которые при любых конфликтах выступали в его защиту − две Екатерины Ивановны − Дугина и Чорба. У первой в 1937 г. расстреляли мужа, а с 1941-го два её сына воевали. Её предки были родом из соседней деревни, они тоже были Шляпниковы. О предках другой воспитательницы мне ничего не известно. Но знаю, если чуть что происходило, они за брата заступались. Мой брат был с характером, отличавшимся от моего. Он никогда ни во что не вмешивался, был отличником, интересовался наукой о природе и всем новым.
В детдоме и школе знали, что его отец − «враг народа», и однажды учительница городской школы принесла книжку З.И. Фазина «Крепость на Волге», о гражданской войне в Астрахани, где отец − председатель реввоенсовета фронта, якобы, продался капиталистам или купцам за балычок и коньячок, или за что-то в этом роде… Там была фраза об отце, когда его отозвали в Москву: «Эта шляпа улетела» − она и послужила поводом к травле, прекратили которую обе Екатерины Ивановны..
— Скажите, а с ним учились уголовники?
— Нет, там были обычные ребята. Для уголовников были колонии.
— А что Вы можете сказать о своём младшем брате?
— Младший попал в дошкольный детдом. Ему достались воспитатели, преданные вождю. Мальчишке было пять лет, его только что вырвали из дома, он был в то время рассеянным, и если он на прогулке отставал от идущей группы детей, то воспитатели с издёвочкой говорили: «Его, наверное, на машине возили». Это был элемент классовой ненависти. Они, мол, простой народ, а мы, так сказать, «новые буржуи». На самом деле, отцу редко удавалось доставать машину. Он же не был из числа главных партийцев. Но, будучи из «вциковских» работников, он иногда мог брать машину, чтобы отвезти на дачу детей, т.к. автобусы в то время со ст. Перхушково к нам не ходили.
Когда младший брат достиг школьного возраста, его вместе с другими перевёли к нам, и мы через два года встретились. В отличие от моего, тогда у него был достаточно спокойный, не конфликтный характер. Я же никогда не оставляла обиду без ответа.
Позднее, когда настало моё время поступать в университет, нас обоих перевели в детдом в г. Горьком, в тот же, где раньше был старший. Я вскоре рассталась с детдомом, поступив в университет, и ушла в его общежитие. Брат же остался и учился в той же школе, что и старший. И та же учительница принесла книжку Фазина. Но, если старший сносил это молча, то младший начал ребятам, которые пытались его дразнить, раздавать оплеухи. В детдоме предупредили маму, чтобы она его забрала, иначе его должны будут отправить в колонию, и ему пришлось перебраться в город Бор, к маме. Там он закончил школу.
— Из воспоминаний о репрессиях известно, что после ареста родителей ребенок в школе должен был публично отречься от них. У вас не было такого?
— Не было. Мы ничего не знали о родителях друг друга. Но помню, что, когда к нам привезли группу из Кузбасса, наш директор мне тихонького сказал, что их родители расстреляны. Иногда он со мной чем-то делился. Об отце он, с сочувствием, сказал: «Большой был человек».
Многим, ребятам, когда они покинули детдом, удалось что-либо узнать о родителях, кому-то удалось даже отыскать матерей…
— Цель отправки вас в детдом состояла в том, чтобы забрать квартиру? У вас, по большому счёту, квартира была кооперативная, не государственная. У вас отобрали её? У вас же есть какие-то родственники, чтобы они могли вас забрать?
— Когда кого-то арестовывали, забирали, как правило, полностью всё имущество и, чаще всего, без всякой описи. Иногда конфисковывали только имущество самого арестованного. Нас ни у кого не могли оставить, т.к. родственники боялись взять нас: это грозило арестом и им. Мы же были как раз теми, кто был в особом списке.
Внесу некоторую ясность: мы находились в «особом списке», включавшем детей «особо опасных врагов» и, по мере взросления, нам предназначалось быть репрессированными. Директоры детдомов регулярно отчитывались о нашем пребывании там. Это была сталинская инициатива. Ему нужно было сломить волю определённых людей, для чего подвергнуть репрессиям их детей; а также просто для того, чтобы другим не повадно было быть непослушными... Из нас первым и был репрессирован Юра.
— Вы после детдома поступили в университет?
— Да. Вообще-то, детей «врагов народа» в Вузы не допускали, но детдомовцев, по закону, были обязаны принять. Первым, поступил в университет старший брат Юрий. Он был старше меня на четыре года.
В 1948 г., когда ему исполнилось 22 года, его арестовали. Маму на тот момент уже освободили и она находилась в городе Бор. Это под Горьким, на другом берегу Волги.
— Её освободили, а сына арестовали?
— Сына арестовали позднее, через два года.
— По статье как сына врага народа?
— Нет, он шёл по статье 58.10, «антисоветская агитация». У него в комнате общежития и на кафедре в университете было по провокатору, которые докладывали о разговорах… Из следственного дела видно, что самое страшное его высказывание, что в Америке инженер получает гораздо больше, чем у нас.
Арестовали брата, когда он уже заканчивал университет: сдал госэкзамены и оставалось защитить диплом.
Чтобы узнать что-либо о брате, я поехала в Москву. В приёмную Калинина. Мама дала мне адрес А.М. Коллонтай, и я с ней познакомилась. Как я понимаю теперь, она была напугана, боялась за судьбу сына, а моё сообщение об аресте брата должно было только усилить её беспокойство.
— Вы приехали в Москву и встретились с Коллонтай? В то время она уже была на пенсии?
— Она была на пенсии и вернулась в Москву. Была, практически, инвалидом.
— Вы к Коллонтай попали по знакомству?
— К Коллонтай я попала через маму.
— Она знала ее прежде?
— Александра Михайловна Коллонтай и мой отец около шести лет (1911-1916 г.) были, как сейчас говорят, гражданскими мужем и женой. Когда Ленин громил на съезде «рабочую оппозицию», он сказал, в виде шутки: «Коллонтай и Шляпников давно спелись», что вызвало весёлый смех в зале, поскольку всем товарищам были известны их отношения.
— И что Коллонтай Вам сказала?
— Что она могла мне, почти ребёнку, толком сказать? Ничего. Мы просто поговорили… Я думаю, что она боялась и говорить.
— То есть она Вас выслушала и ничего Вам не сказала. Она была запугана?
— Полагаю, что она в то время вообще была напугана, т.к. страшно боялась за судьбу сына. Но, кстати, ни сына, ни её не тронули.
Потом я обратилась в приемную к Калинину.
— А в каком году это было?
— Это было в 1948 г., когда арестовали брата.
— Калинин умер в 1946.
— Видимо, в народе приёмная Верховного Совета по-прежнему называлась Калининской, поэтому тогда так и говорили − к Калинину. Мне там объяснили, что никто ничего не может решить, что это не в их власти, рекомендовали обратиться в местные органы МГБ.
Старшему брату присудили десять лет спецлагеря и направили в «Минлаг» ( Инта, Коми АССР), где основная работа была на угольной шахте. Правда, он плохо подходил для такой работы, был тощим, слабым от постоянного недоедания, т.к. на стипендию мало что мог себе позволить, а подрабатывать студенты не больно могли. Да и что он мог бы делать? Грузить что-то на пристани он не смог бы, не осилил бы. Ему просто физически не хватало для этого сил. Поэтому работать в шахте он просто не смог бы. Поскольку он был с образованием, хорошо разбирался в физике, его направили на обслуживания вентиляционных приборов. Не понимая, что происходит, в чём его вина, в первое время он постоянно писал прошения о пересмотре дела, и получал только отказы. Решив, что всё дело в его фамилии, он был готов поменять фамилию Шляпников на Вощинский, − девичью фамилию матери, но безрезультатно. Новый поток обращений о пересмотре дела Юра возобновил с середины 1953-го года, и до февраля 1955 года получал отказы.
В 1950 году забрали и маму, во второй раз. Предполагалось отправить её в Нарым, но за отсутствием туда этапа, привезли в Енисейск, более приличное место, на бессрочное поселение. Работала за городом в одном из подсобных хозяйств, ухаживала за коровами, курами и кроликами. Потом была водовозом в находившейся в то время в Енисейске геологоразведочной экспедиции, возила с речки на лошади воду в бочке. Тогда речка была ещё чистой, а колодцы непригодными. Ранее, когда меня ещё не арестовали, мама прислала деньги на пишущую машинку, которую я успела ей послать. Так она могла подрабатывать.
— А Вас когда арестовали?
— Меня арестовали в середине четвертого курса. Это было 7 февраля 1951 года.
— Вас арестовали прямо в университете?
— Нет, не в университете. Это произошло во время каникул, когда я должна была лечь на операцию в больницу, поскольку страдала сильным косоглазием. И тут пришли за мной. Вначале они пришли к девчонкам в общежитие. Те им сказали, где я. Вот меня и забрали прямо из больницы...
— И Вас отвезли в НКВД?
— В местное управление МГБ, в их «больничку», в одиночную «палату». Камера была в полуподвальном помещении, в ней была кровать и табуретка. Был ли стол, не помню. Я не ела целую неделю, не хотела. Потом ко мне подселили жену расстрелянного в 1938-м бывшего старого большевика-питерца Г.Е. Евдокимова − Ксению Васильевну, отбывшую ранее срок в лагере. Ей было за шестьдесят, она работала поварихой в детском саду в том же селе, где находился наш детдом. Арестовали её повторно, как и многих, кто ранее был в заключении. Причём арестовывали повторно даже тех, кто оставался жить и работать при лагере.
Когда маму арестовали, младший брат остался один, ему тогда ещё не было восемнадцати. Он заканчивал школу в городе Бор. Мама при аресте успела оставить ему немного денег и свои неоплаченные счета за работу. К тому же ему помогали родители одноклассников. Кажется, хозяйка квартиры ничего с него не брала, так как она очень за него переживала, думаю, что и подкармливала…Закончив школу, он хотел завербоваться куда-нибудь подальше, в частности, на Сахалин, но его не взяли − «по анкетным данным». Пришлось завербоваться на стройку, в Москву. Работал такелажником. Зимой на стройку прибыли уголовники, так они спасались от холодов. Жил с ними в общежитии, мирно. Поскольку он закончил десять классов, они ему предлагали: поступай на юридический, закончишь, устроишься, например, в Армавир, будешь работать прокурором. Мы тебе будем помогать, будем тебя снабжать. Но он им ответил: «Меня, наверное, раньше вас арестуют». Тогда он уже знал, что старшего брата арестовали, а насчёт меня ещё ничего не знал.
— Уже тогда происходило сращивание уголовного мира с государством.
— По-видимому, да.
Арестовали младшего брата недели через три после меня. Во время следствия, сидевшие с ним в камере «уголовнички» советовали, чтобы он подписывал всё, что ему предложат, иначе только дольше продержат, но всё равно посадят. Но брат был осторожен в своих ответах и в результате следствия ему смогли только приписать, что мы с ним вели антисоветские беседы. Больше не смогли ничего придумать. Он же говорил мне потом: «Я категорически ничего не подписывал, что касалось тебя». Тем не менее, в деле записано, что он вёл со мной антисоветские разговоры.
— Оба ваших брата сидели до 1956 г.?
— Да. И братья, и мама освобождены в августе 1956 года..
— Вы сказали, что при Ленине было лучше, чем при Сталине. Вас за это осудили?
— Следователь на одном из допросов предъявил мне обвинение в том, что я, будто бы, говорила, что раньше, при Ленине, было лучше, чем при Сталине. Я тогда по неосторожности буркнула: «мама говорила». И следователь, очевидно, так и записал, что мы с мамой вели антисоветские беседы. Возможно, это и стало для следователя предлогом определить мне, как и братьям, статью 58-10 часть 1 и назначить 10 лет лагеря.
Отмечу интересный факт: когда я подписывала протоколы допросов, ни о каких таких разговорах там не упоминалось, а при просмотре архивных материалов я обнаружила, что в протоколе есть эта запись, и мои подписи были абсолютно одинаковыми во всех протоколах, хотя я расписывалась небрежно, как попало, и несколько утолщёнными, как факсимиле…
Я не помню дословно, что мама говорила о Ленине, но что-то в этом духе. Поскольку она могла говорить со мной после 8-летнего пребывания в тюрьме и лагере, вряд ли она произносила вообще имя Сталина, но я не знаю, чтό Ленин делал бы, проживши дольше. После первого инсульта в 1921 году он стал таким озлобленным, что постоянно писал «расстрелять»…
— До инсульта он тоже писал «расстрелять».
—Действительно, он с 1917 года говорил и писал это слово буквально автоматически, видимо не думая, но не было ни одного его приказа об этом.
— Как не думая? Он писал не только учиться, учиться и ещё раз учиться, но и расстрелять, расстрелять, и ещё раз расстрелять.
— Мне за 20 лет работы в архивах это не встречалось. Но может быть, мне это не давали?
— Это не в архивах, а в опубликованном собрании сочинений. Давайте сейчас про Ленина не будем. Вас обвинили в том, что вы сказали, что при Ленине было лучше, а при Сталине хуже?
— . Я не жила при Ленине и не знаю, как тогда жили. Вообще-то, я была обычным советским человеком, выросшим на агитационных легендах. Когда старшего брата арестовали, я даже написала Сталину жалобу, считая, что брата арестовали по ложному обвинению. Глупость своего поступка я поняла, когда мне следователь задал вопрос: кому я писала? И ответила: не помню.
— Когда Вас арестовали, Вас допрашивали?
— Без этого не обошлись.
— Вас избивали на допросах?
— Нет. Более того, вначале следователь вызывал на допросы ночью. Я выразила недовольство. Сказала, что ночью хочу спать. И меня стали вызывать днём. Ему самому, видимо, было так удобнее. Во время так называемого «допроса» он, на самом деле, готовился к политзанятиям.
— То есть энтузиазма, который был в годы Большого террора, у следователей уже не было?
— Они знали, чтό они должны делать.
— Много раз вас вызывали на допросы?
— Если бы я помнила… Вызывали столько, сколько было положено.
— То есть это делалось формально?
— Думаю, что формально. Он всё равно знал, чтό он там, в итоге, напишет. Помню, один раз ему в помощники дали сотрудника с голубыми погонами. Кажется, это был «эмгэбэшник». Он и стал придумывать какие-то глупости −то, чего я не говорила. Если это были мелочи, то я заявляла ему: записывайте, но я этого нигде никогда не говорила. Наверное, их не совсем устраивало то, чтό уже до этого было записано в протоколах допросов.
— Выходит, что они Вас особенно и не допрашивали.
— Действительно, особенно не допрашивали. Я большую часть времени сидела в сторонке, пока следователь занимался своими делами. Но, подчеркну, что он знал, чтό ему следует писать, чтобы меня посадить. Потом, когда я смогла просмотреть дела братьев, мамы и своё, мне их по запросу присылали из Горького в Москву, я в этом могла убедиться.
— Вас осудили на десять лет. Куда вас отправили?
— Вначале было так: перед тем, как ознакомить меня с обвинительным актом, его подписал помощник областного прокурора: «согласен». Когда документы попали к самому прокурору города и области, ознакомившись с ними, он увидел, что ни одна девчонка ничего не сказала на допросе против меня. Одна из них даже пробовала меня защищать, за что её потом из университета исключили, воспользовавшись тем, что её мать, будучи простой буфетчицей, допустила растрату. О какой растрате могла идти речь, не знаю, но эту девочку исключили из университета.
В общем, прокурор г. Горького и области мне поменял статью на одну − очень изумительную. Она мне страшно нравится. Это статья 7-35, которая состоит из двух частей и предусматривает заключение на 5 лет или ссылку на 10 лет. Часть А − для тех, кто сожительствует с иностранцами. Касающаяся меня часть Б − за связь с врагами народа. За какую же связь в моём случае? Определённо, только за кровную, так как, когда отца арестовали мне было всего лишь 4,5 года и ни о чём я с ним не могла даже говорить. Однако, в лагерь по этой статье прокурор меня не направил и назначил пять лет ссылки. Но Особое Совещание при МГБ СССР увеличило срок до десяти лет, т.е. отправили меня в ссылку, но на максимальный срок.
— А когда Вас отправили?
— Из Горького нас отправили в мае, с остановкой в Кировской пересыльной тюрьме для формирования этапа. В это время мама была в Енисейске и писала мне, что там плохо и трудно с работой, поэтому я отказалась от Енисейска, и меня повезли на Ангару, в Мотыгино, в район железных рудников. От Красноярска нас везли на барже по Енисею и Ангаре, и высадив на берегу, нас предоставили самим себе: устраивайтесь, как сумеете. Приехавшую со мной Евдокимову кто-то вскоре взял няней.
Кстати, в Мотыгине находилась лаборатория, и я подала заявление на работу, но мне почему-то не сообщил комендант, что меня были готовы туда взять. Видимо, их ответ до меня просто не дошёл.
Когда нас везли на Ангару, в этапе около четверти из тех, кто плыл с нами на барже, были отбывшими срок уголовниками. Среди политических почти все были направлены в ссылку, также отбыв немалые сроки, и среди них молодёжи было мало. Один из их среды во время переезда заболел, у него была высокая температура, и ему нужно было помочь. Но как? − если не было даже кружки, чтобы его напоить. Пришлось о нём позаботиться. Потом мы с ним подружились и были вместе года два.
В 1951-м году этому парню было 24 года, а он уже успел отбыть в лагере 8 лет как «агент карательных органов», и, следовательно, осудили его по такой страшной статье, которая не подлежит реабилитации − всего в 16 лет. Как это произошло?
Он жил недалеко от Брянска, в небольшом городе Бежице. Ему было четырнадцать лет, когда началась война, а отец был на фронте, и он убежал из дома к партизанам. Попал в отряд С.А. Ковпака и выполнял задания наравне со взрослыми, ходил и в качестве связного в Бежицу. Однажды, когда он направлялся в город, при выходе из леса был задержан немецким патрулем. Поскольку при нём не оказалось ничего подозрительного, а на вид ему было лет 12, то его привели в комендатуру, выпороли ремнём и запретили выходить из города. Вернуться к партизанам ему не удалось, т.к. в таких случаях конспирация была строжайшая.
Когда Бежица была освобождена от немцев, кто-то из соседей донёс, что паренёк был захвачен в лесу немцами, но они его отпустили... Соответствующие органы, не теряя время даром, осудили 16-тилетнего паренька на 8 лет заключения в лагере.
Так и сложилась его судьба… А кто собирался выяснять то, что было на самом деле, если нужно было только ставить «галочки» и отчитываться о «проделанной работе»? По отбытии срока он был направлен в ссылку. Кто учитывал хотя бы его возраст?...
— Он Вас охранял от уголовников?
— Этого просто не требовалось. Я с уголовниками нормально общалась. «Политические», которые были постарше меня, считали, что я чуть ли не из их круга. Но я была детдомовской и могла общаться с другими. Если спокойно и нормально разговариваешь с их старшим, то можно было свободно ходить даже в лес. Никто из них меня и словом не обидел. Но, одна тонкость: если ты не одна.
— В ссылке, куда Вас направили, были уголовники и политические?
—Да, были и те и другие. Большинство составляли те, кто был направлен в ссылку после отбытия тюремного или лагерного срока. Были и ссыльные по приговору, как я, в основном политические.
— Депортированные?
— Были не прямо депортированные, а уже отсидевшие в лагерях представители этой категории. Помню, среди них была Анна Гржибовская, молоденькая девушка из Латвии, приблизительно моего возраста. Она в лагерь попала сразу из гимназии, т.к. была из тех, кто листовки развешивал, когда русские пришли. Помню, что были двое из «бендеровцев».
— Их раньше «бендеровцами» называли?
— Тогда всё время так называли. Потом выяснилось, что их командир был Бандера, а не Бендера. В общем, у нас было их двое: женщина и мужчина, которые воевали. Они были малообщительными. Но женщина очень хорошо вязала, и мы на этой почве стали с ней постепенно общаться. У неё где-то совсем недалеко, в Сибири, были депортированные родители. Может быть, потом она и уехала к ним.
— Вы на шахте не работали?
— Нет. Нас никто не заставлял там работать. Сначала мне пришлось поработать на ручном бурении в месте залежей талька.
— Это где, в шахте?
— Нет, не в шахте. Снаружи нужно было вручную бурить скважины до глубины двадцать метров.
— Вначале Вы занимались бурением, а потом что вы делали?
— А потом, когда у меня появился старший сын, грибов кому-то соберешь по заказу, или продашь их, и т.п. Когда он пошёл в садик, я работала с геодезистами.
— У вас уже ребенок родился?
— Это уже был конец 1952-го г.
— Вы замужем не были? Так это тот парень, который был партизаном?
— Да, это был он. Позднее, мы расстались, т.к. мне, как он, так и другие, действительно никто не был нужен. Мне была нужна свобода, я же независимая детдомовская «шпана».
—— Вас уже не заставляли работать, когда ребенок появился?
— Работать нас никогда не заставляли. Привезли − и устраивайся, как можешь! Если бы мне тогда дали ответ, то я бы, конечно, пошла работать в лабораторию. Как я вам уже говорила, я подавала заявление, но мне комендант не сообщил. Почему так получилось, я не знаю.
— А до какого года Вы там находились?
—В начале 1954 г., после того как родился второй сын, я перевелась в Енисейск, где находилась до конца января 1955 года, до реабилитации и освобождения от ссылки. Работала в лаборатории у геологов.
Меня реабилитировали раньше многих репрессированных, поскольку, как всегда, я поступила не как все, не по стандартным правилам. Так как формально все мы были комсомольцами, я взяла да и обратилась за помощью в ЦК ВЛКСМ, и с его помощью, в ноябре 1954 года была реабилитирована, а в январе 1955-го, когда пришли все мои документы, была освобождена. Вернулась в Горький, и со второго семестра 4-го курса продолжила учёбу. Дети остались с мамой.
— У вас уже было двое детей? Они в ссылке родились?
— Да.
— Вы с тем партизаном больше не виделись?
— Нет, больше не виделись. Причём, уехав, я даже адреса своего не оставила.
— И он Вас не искал?
— Он не умел искать. К тому же я их адрес знала, а они моего знать не могли.
— Когда Вас арестовали, Вас не исключили из комсомола?
— А меня никто не спрашивал, комсомолка я или нет.
Вернувшись в Горький, с лета 1955 г. я начала хлопотать о реабилитации мамы и братьев, обращаясь во все высшие инстанции. Помню, что в декабре этого года получила ответ, что мой старший брат осуждён правильно… Но потом я ещё много писала во все инстанции… Тогда уже Хрущёв был, но я, скорее всего, писала просто на ЦК КПСС, а конкретно ему не писала.
Реабилитировали моих всех в один день − 19 мая 1956 года.
— Это когда уже всех освобождали?
— Нет, не знаю, может быть и всех. Но моих, троих, освободили конкретно по моим заявлениям и всех сразу; но пока всё с документами решилось, пока они доехали… только в августе они вернулись.
— Все приехали в Горький?
— Нет.
— Они все вместе и сразу приехали в Москву? Это не было запрещено?
— В Горький, доучиваться, приехал только Юрий. Мама и Александр приехали в Москву.
— Её реабилитировали?
— Её же реабилитировали вместе с братьями.
— Поэтому она могла приехать в Москву?
— Да, она могла приехать в Москву. Причём, даже как бы «с почётом» всё получилось: кто-то из возвратившихся ранее посоветовал ей обратиться в ЦК КПСС, и ей дали место в его общежитии.
— Где работала ваша мать после ссылки?
— В отделе учета и распределения жилплощади, видимо, при Моссовете.
Вернувшись в Горький, старший брат за год заново сделал дипломную работу, сдал экзамены и, получив диплом, остался работать в Горьком.
Я к этому времени, окончила университет и устроилась на работу в г. Жуковский. При обращении относительно возвращения жилья в Москве, мне дали комнату в Жуковском в коммунальной квартире.
Александр жил в комнате со мной и готовился к поступлению в институт.
Я и мама продолжали хлопотать о жилье в Москве, но всем нам, кроме мамы, поначалу было отказано, т.к. мы не москвичи и на момент ареста там не жили… Маме же предлагали одной − комнату в коммуналке, около кладбища и по соседству с семьёй, в которой дети учились в музыкальной школе…
Пришлось опять обивать пороги ЦК. Наконец, благодаря моим «неустанным» обращениям в ЦК и усилиям мамы, работавшей в одном из отделов Моссовета, нам всё же, в конце 1957 года или в начале 1958-го, дали на шестерых трёхкомнатную квартиру площадью в 45 кв.м., правда, со смежными комнатами.
— Маме дали квартиру?
— Дали маме, но на всех нас, и старший брат вскоре тоже приехал в Москву и поступил на работу в Институт химической физики. Года через два и я перевелась на работу в тот же институт, где был и Юра.
— Когда Вы получали квартиру, Вам была оказана какая-то помощь со стороны бывших товарищей отца по партии? Было такое, что они помогали после смерти Сталина или такого не было?
— Помню, что нам один раз помог А И. Микоян. Поскольку нам не возвратили кооперативную дачу, а вернули только взнос за неё (в 6 раз меньший стоимости её к тому времени), мы просили его помочь нам получить хотя бы землю. Дело в том, что, когда отец был председателем акционерного общества «Металлоимпорт», он был в подчинении у Наркома торговли Микояна, потому мы к нему и обратились, и он помог.
— Для реабилитированных были предусмотрены какие-то денежные компенсации или что-то ещё?
— Когда возвращались, полагалась двухмесячная зарплата с последнего места работы. А вот двухмесячную стипендию нам не дали. Стипендия − это же не зарплата.
— Мы представили вкратце историю репрессий вашей семьи. Это очень важно, поскольку многие люди сегодня не верят, что при Сталине людей расстреливали, сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря и в ссылки по надуманным обвинениям. Теперь давайте перейдем ко второй части вопросов. Расскажите, почему Вы решили писать книгу о вашем отце? Но прежде скажите, почему вашего отца не реабилитировали при Хрущеве?
— Они никого из «оппозиционеров», практически, тогда не реабилитировали полностью. Всё было в руках ЦК партии. Сколько мы пытались туда писать, но для них наш отец все равно был врагом партии. А раз враг партии…
Тогда мы поставили вопрос о простой реабилитации, как это тогда называлось, «в гражданском порядке». Маме кто-то помог выйти на связь с Хрущевым. Кто-то там у него работал по этому профилю. Мы написали ему, и в январе 1963 г. отца реабилитировали в «советском порядке». Подчеркну, что не в партийном, а именно в советском. Мы потом ещё много раз обращались в ЦК, так как без партийной реабилитации нам невозможно было попасть в архив и хотя бы что-то узнать о своём отце, узнать истину, а не изгаженные квази-историками сведения. Столько бумажек-отписок у меня осталось, вплоть до того, как мне помогли решить вопрос партийной реабилитации при М.С. Горбачеве. Это был 1988 г. С тех пор мне разрешалось работать в архивах.
Правда, я взялась за работу по розыскам сведений о жизни и деятельности отца задолго до его реабилитаций − ещё в 1958 году, когда доступными мне были только библиотеки. Но резкую активизацию моих усилий в борьбе за честное имя отца вызвал факт издания уже в 1986-м году книги Георгия Холопова «Грозный год». Это книга про Астрахань 1918 года. В ней пишется, что мой отец, будучи председателем РВС фронта умышленно разлагал его работу, препятствовал снабжению армии, потворствовал расхищению присылаемых запасов и своими действиями радовал противников. По версии автора, отец был грубым, жестоким бюрократом, руководившим фронтом, не выходя из кабинета, и т.п.
— По советской версии истории гражданской войны ваш отец уже в 1918 году был «двурушником»?
— Да. «Двурушником», вернее даже «врагом народа», отец в исторической литературе был изображен, в основном, начиная с 1935 года, а в «художественной» литературе первой была книга З.И. Фазина, вышедшая ранее 1943 года, о которой я говорила раньше.
— То есть первым побуждением к написанию вашей книги об отце было то, что его память была оклеветана в литературе.
Да, но где можно было найти истину, если даже в «спецхраны» библиотек не было доступа. Пришлось довольствоваться тем, что было доступно. Собирала я сведения об отце, по большей части в библиотеке им. Ленина, и начала с открытых источников, с литературы о Гражданской войне.
После выхода книги Холопова, я написала свою «контр-версию» событий, страничек на семьдесят, основываясь на том, что вычитала, что узнала из книг, в которых тогда ещё так не лгали, т.е. в книгах, изданных до 1930-го года.
— Вы опровергали Холопова?
—Я направила эту конгр-версию в ЦК КПСС, когда в должности заведующего политотделом ЦК был А.Н. Яковлев. Он распорядился направить мой материал в «Военно-исторический журнал» для установления истины и публикации. Но Яковлев вскоре перешёл на другую работу, а новый заведующий не мог ничего определённого ответить на запрос редакции, нужно ли публиковать моё опровержение?
— Они не стали опровергать Холопова?
— К тому времени в журнале, после тщательного ознакомления специалиста с литературой, уже была его положительная рецензия на мой материал, но, не имея указания из ЦК, в апреле 1987 г., в № 4 журнала опубликовали только небольшую статью об искажении исторических событий (статья от редакции).
Одновременно я решила обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить дело о клевете. Из прокуратуры вначале мне ответила, что Холопов переиздал эту книгу 11 раз, начиная с 1956 года, и срок давности привлечения к ответственности истёк. После длительной переписки с различными инстанциями, партийное руководство поручило прокуратуре Ленинграда заняться моим вопросом. Приехавшая оттуда представительница поинтересовалась, кто из историков может дать заключение о книге. Согласились два доктора наук: В.Д. Поликарпов, В.Т. Логинов и историк кандидат наук И.П. Донков. В качестве «болваночки» я, для ознакомления, дала им мой материал. Познакомившись с литературой и архивным материалом, историки пришли к заключению, что образ Шляпникова, созданный Холоповым, находится в противоречии с историческими данными. На вопрос прокуратуры о мотивах такого изображения Шляпникова, Холопов ответил, что он написал так, потому что его мать пострадала на Каспийско-Кавказском фронте: когда они бежали с Кавказа в Астрахань, у неё поездом отрезало или повредило ногу. А Шляпников, видите ли, в этом виноват. Получив заключение историков, из прокуратуры мне ответили, что Холопов не имел права так писать и сообщили, что его книгу больше публиковать не будут.
— Мы как раз подводим наше интервью к Вашей только вышедшей книге об отце. Вы начали с того, что решили опровергнуть клевету. Почему тогда Вы всё же решили писать многотомное исследование?
— Я этого просто не ожидала. Первые два уже написанных тома как-то сами получились толстыми. Я решила описать жизнь отца задолго до того, как узнала о клевете Холопова. С 1958 г. я стала ходить в «ленинку», искала, смотрела, что можно найти, связанное с отцом.
— Вы расспрашивали у матери об отце?
— Вы знаете, я не могла ее расспрашивать. У меня язык не поворачивался это делать. Она, как и многие родственники осуждённых «на 10 лет без права переписки», продолжала его ждать. Я больше расспрашивала старшего брата, т.к. он иногда беседовал с ней.
— Вы не хотели её беспокоить?
— Конечно. Специально я её никогда не расспрашивала, только, если она сама начинала… В основном, это были бытовые картины воспоминаний. Помню, она рассказывала о своей приятельнице, Симе Рыжовой, с которой работала в Петрограде ещё в 1918 году. Они вместе в комсомол вступали… и даже в партию. Молодые были… Эта приятельница потом работала секретарём у Ежова. Она помогала маме, как могла. Тайно помогал и Ежов, если мог…Но потом её расстреляли.
— Ее расстреляли, когда арестовали Ежова?
—. Нет, позднее, − в январе 1940-го (арестовали в 1938-м).
— А чтό мать об отце рассказывала?
— Практически ничего. Знаю, что они вместе были во Франции. Фотография была с открытия советского посольства... Мама стоит себе в сторонке, а рядом с отцом стоит и что-то говорит какая-то молоденькая девушка. Кто-то даже подумал, что это жена, но нет, мама тихо себе в сторонке стояла.
— Значит, мать Вы ни о чём не расспрашивали, а пошли в библиотеку?
— Библиотеку я посещала только в выходные, потому что в другие дни работала. С 1958 до 1985 г. я работала в Институте химической физики. Потом институт разделился, образовалось ещё два института. Один из них занимался разработкой атомной бомбы. Кстати, моя бывшая начальница ездила в Семипалатинск на полигон, работала в лаборатории и получила сильное облучение.
— До 1988 г. Вы ходили только в библиотеку, а с 1988 г. Вам уже разрешили ходить в архив?
— Когда я ходила в библиотеку, я успела написать две статьи. Одна из них была с критикой того, как в течение ряда лет трансформировалось описание деятельности Русского Бюро ЦК в феврале 1917 года историком Е.Д. Черменским. Она опубликована в № 4 журнала «История СССР» за 1988 год. В «Вопросы Истории» в 1988 году я направила статью по фронту в Астрахани − критику ряда книг и, в частности, доклада Г.К. Орджоникидзе в Совнарком от 10 июля 1919 г., опубликованного в 1939 г. под названием: «Год гражданской войны на Северном Кавказе». Отмечу, что часть этого доклада, относительно плохого снабжения фронта, краже и разбазаривании присылаемых из центра грузов, дословно приводится в книге Холопова.
После публикации, мне выдали справку, подтверждающую, что в журнале есть моя работа, и я смогла получить доступ в ГАРФ. В Центральный Партийный Архив (сейчас РГАСПИ) я смогла попасть только после партийной реабилитации отца, т.е. после октября 1988 года.
В архивах мне начал попадаться очень интересный материал об участии отца в революции 1905 года, о пребывании в эмиграции с 1907 года и др. Я поняла, что если я буду писать об отце, то нужно обязательно давать сведения и об его окружении и условиях, в которых он жил и работал; по-другому никак не получается. Когда же я описывала какое-либо событие, допустим, когда мой отец находился за границей и собирался ехать в Россию, я должна была описать всё, что было в то время в России, потом уже − как он приехал, вошёл в курс дела и т. п. Так всё и собиралось, обрабатывалось, а потом писалось. Вот так и набирается немало материала.
Интереснейшее занятие − читать письма эмигрантов. Департамент полиции все это подбирал…
— Перлюстрированные письма вашего отца тоже есть в департаменте полиции?
— Нет, его письма были забраны и переданы в партийный архив − теперь РГАСПИ. Там были как письма Ленину, которые писал отец из-за границы, так и письма Ленина к нему. Отец пытался сохранить все письма к нему, но часть из них пропала. Не при аресте в 1935 г. а при возвращении в Россию осенью 1916 г..
— Вы представили широкий исторический фон, т.е. не только документы, связанные с отцом, но и то, что происходило в то время в стране.
— Ничего не обсуждая при этом и не оценивая события, я просто излагала их ход. Причём, я старалась подобрать и представить материал так, чтобы обычным простым людям, не специалистам, было понятно и интересно его читать, потому что научные исторические статьи я и сама не очень-то могу читать.
— Второй и третий тома уже написаны?
— Я вторую книгу разделила на две части. Первая часть второй книги, которая охватывает период с апреля по 1 октября 1917 года, отдана в издательство, но для издания нужны средства, а я пока не могу реализовать даже часть имеющейся в моём распоряжении первой книги. Нет ни спонсора, ни гранта; а я же никто − нищий человек «с улицы».
Остаток материала от второго тома (часть 2), требует ещё доработку. Он должен охватить весь октябрь 1917 года (правда, по старому стилю).
— А вторую часть второго тома вы ещё пишете?
— Надеюсь относительно скоро закончить.
— Успеете его издать до столетней годовщины Октябрьской революции? А когда Вы следующий том будете писать?
— И то и другое не знаю, мне пока сложно сказать. Всё зависит от здоровья. Насчёт издания же, всё зависит от финансов.
— А сколько всего будет томов?
— Тем более, не знаю. Опять же, всё зависит от того, насколько мне здоровья хватит. Собранного материала у меня немало.…
— Ясно. В общем, труд ещё долгий.
— Долгий, это не то слово…
— Материал у Вас уже собран?
— Собран, конечно, не полностью. Не обработан материал по Гражданской войне. Но, скорее всего, нужно будет ещё поработать в архиве. Не знаю, по моей ли просьбе или по другим причинам, но был открыт третий фонд архива Троцкого. Первые два фонда я уже смотрела, а третий ещё не видела. Есть материал по А.О. Металлоимпорту, по Рабочей оппозиции.
— Вы ещё в архиве будете работать?
— Да. Я сейчас вынуждена буду досмотреть газеты за октябрь 1917-го для того, чтобы закончить доработку второй части книги 2, затем мне следует вкратце осветить начало деятельности Наркомата труда, не смотрела документы по работе отца во Франции (если дадут), и другие.
— Я понял, что предстоит большая работа. Давайте, вернёмся к теме Ленина. Ваше отношение к Сталину я понимаю и разделяю. Мы с вами не считаем его положительным героем русской истории. А каково Ваше отношение к Ленину?
— Понимаете, в чём дело, я ведь не ленинец, никогда им не была и поэтому подробно его жизнь не изучала. У меня нет кумира. Но, с другой стороны, деятельность Ленина в 1917 году сыграла не маленькую роль в судьбе нашей страны, и не только…. Ни Керенский, ни кадеты с промышленниками, ни генералы не могли объединить народ и, хотя история не терпит сослагательного наклонения, полагаю, что страна потерпела бы поражение от немцев.
— Считаете, что Ленин навёл порядок? Точно так же говорят и сталинисты. Сталин, по их мнению, да, жестко, но всё же навёл порядок в стране. В чём вы усматриваете разницу между ними?
— Разница между ними в основном состоит в том, что у них были разные отклонения психологии от нормы, разные «фобии». Но, лично сам Ленин не подписывал ни одного смертного приговора. Если кто-то был против него, то он таких людей просто отстранял от себя, и всё.
— То есть, товарищей по партии он увольнял, но не расстреливал.
— Он никого не расстреливал.
— Он расстреливал, заложников.
— Так было принято обеими враждебными сторонами − отвечать на гибель их сторонников. Расстреливали повсеместно, и без всяких приказов. В этом отношении разница между красными и белыми состояла в том, что красные расстреливали, а белые вешали. Но Ленин никого не расстреливал…
— Как он не расстреливал, если он давал приказы захватывать заложников?
— Я таких приказов не знаю. По моему, без конца бросаемые им призывы − «расстреливать» буржуев, помещиков и пр. эксплуататоров, использовались им, в основном как агитационные, в целях привлечения на свою сторону неимущих. И поэтому Ленину верил народ, поддерживал его.
— Сталину народ тоже верил.
— А верил уже позднее и потому, что всё в стране было поставлено на бесприкословном подчинении, так требовалось и было безопасно. Вождизм начался уже при Ленине. Повторю, что я − не ленинец, и с бόльшим уважением отношусь к Л.Д. Троцкому.
— Вы видите плюс Ленина в том, что он товарищей по партии не расстреливал, а увольнял. В этом плане он был большим гуманистом?
— В сравнении со многими другими − бόльшим гуманистом.
Вообще, я почти полностью согласна с характеристикой, данной В.И. Ленину в 1919 г. находившимся в Омске при власти Колчака Ауслендером, человеком с университетским образованием, который, желая понять, что представляет собою В.И. Ленин, специально ходил слушать его выступления:
«В нём может совмещаться многое, как в человеке − и мягкость и бесчеловечная бездушность, и добросовестность в работе и явная неслыханная преступность для достижения нужной ему цели.
Он вне жизни, он весь в отвлечённости, в формулах, таких стройных и чётких на доске лаборатории и таких жутких, когда воплощаются они в жизнь.
Но последнее ему почти не видно. Настоящий учёный должен быть несколько маньяк своих идей. Это не только в вульгарных комедиях профессора бывают рассеянны, слепы и глухи ко всему жизненному.
Так должно быть. Для профессора ассирийских древностей ничего, кроме клинообразных надписей, не должно существовать важного и драгоценного в жизни; всё остальное − мелочи, досадные помехи для отвлечённых научных опытов.
Настоящий учёный может быть человеком нежнейшей души и может бесстрастно замучить в своей лаборатории тысячи животных, или, если ему позволить, людей для подтверждения своей точной отвлечённой мысли. Он просто не заметит предсмертных судорог, не услышит хриплых стонов − ему мускулы и клеточки.
Несомненно, в Ленине есть нечто от этой подлинной, жуткой отвлечённости. <∙∙∙>
С умом отвлечённым, холодным, узким, он, конечно не настоящий учёный, а только полу-учёный, полу-тёмный делец, конспиратор, подпольный интриган.
Сочетание чудовищное и такое роковое для России. Он проделывает свой страшный опыт над Россией, он вонзает свой не вполне искусный ланцет в живое тело. Может быть, опыт не вполне будет удачен, может быть, пациент умрёт, но разве это важно − важно проверить математическую формулу. Миллионы гибнущих для него только кролики, глупые, бессмысленные кролики, для того и созданные, чтобы их и можно было разрезать, даже не усыпляя хлороформом.
Уже тогда, в мае месяце, в его словах звучали сильные ноты равнодушия, пессимизма. Может быть, ничего не выйдет, опыт не удался, что ждёт Россию, что ждёт рабочих и крестьян, вождём которых он себя зовёт − не всё ли равно.
Он искренно бесстрастен, искренно глубоко равнодушен, умрут или нет кролики, над которыми он производил свой опыт.
Так спокойно и отчётливо этот тучный, лысый человек, со скучным лицом говорил о вещах страшных, что голод, братоубийственная война − всё это неизбежно, всё это предвидел, что всё это входит в его математические расчёты.
И ни разу я не почувствовал, чтобы живое человеческое чувство вспыхнуло в нём, всё были выкладки, сухие, логически чёткие, отвратительно отвлечённые.
Но в нём есть сила, он умеет заразить своим спокойствием, своим бесстрастием, умеет заставить поверить (пока его слушаешь) в химеры страшные. <···>
Ленин − это мозг большевизма, изворотливый, хитрый, твёрдый мозг, который найдёт точные логические формулы для всего самого отвратительного, который сумеет оправдать самое отвратительное и безумное. <···> Ленин, всё-таки, пусть безумный маньяк, готовый на преступление для достижения своих целей (ведь он верит твёрдо, что истину-то, формулу, математически неопровержимую, он знает), всё-таки это человек мысли и идеи. <···>
У Ленина есть всё-таки доля благоразумия, рассудительности, он, не задумываясь, разрежет кролика, необходимого для опыта, но он не будет с садическим упоением убивать бесцельно, мучить бесполезно. Если он окончательно убедится, что опыт не удался, он, быть может, найдёт в себе капельку честности, чтобы громко заявить об этом».
— То есть Ленин был гибкий. Как вы считаете: правильно, что большевики сделали революцию или без этой революции русская история пошла бы по более благоприятному пути?
— Не знаю, что было бы. Понимаете − к сожалению, шла война и думаю, что немцы одолели бы Керенского с его генералами.
— Надо было делать революцию?
Я долго занималась изучением того времени и, в конце концов, пришла к выводу, что без этого Россия не смогла бы победить в войне и, скорее всего, в любом случае дело дошло бы до гражданской войны. И всё равно победил бы в ней вооружённый народ.
— Но немцы в любом случае проиграли войну. Россия не была бы под немцами долго.
— Это уже другой вопрос: а кто этому помог, посодействовал? Считаю, что инициированное Лениным братание солдат сыграло огромную роль в немецкой революции.
Я же говорю, что я не ленинец. Ленин безобразно относился ко всем, кто был хоть в чём-то с ним не согласен. Об этом, в частности, писала в дневнике и А.М. Коллонтай, которая пришла к таким выводам на примере отношения его к Шляпникову, поддержавшему в 1916 году Евгению Бош, Г. Пятакова и Н.И. Бухарина в вопросах издания ими журнала «Коммунист». Теперь мы это видим и по имеющимся в архивах письмам.
— Вы читали дневники Коллонтай?
— Да. Надо заметить, что в них иногда не хватает целых листов, встречаются и вырезанные части страниц, есть и замазанные чернилами отдельные слова или целые строчки. Надо полагать, что, вернувшись домой, Александра Михайловна старалась убрать из дневников всё, что касалось не только моего отца, но и других «врагов народа», а также любые критические замечания, т.к. боялась, что всё, о чём она думала и писала, дойдет до Сталина. Ещё бы! Она очень боялась за сына, который работал во Внешторге. Тем более, она знала, что у Молотова забрали жену, а у Микояна сыновей. Но, к счастью, её сына не тронули.
Сейчас думаю, что исходное содержание «порезанных» ею дневников сохранено. Мне рассказали, что при возвращении А.М. Коллонтай в Москву ей не сразу отдали два чемодана с дневниками, а только месяца через два. Думаю, что за это время над ними трудились спецорганы, они не могли не сделать копии…Уверена, что фотокопии этих дневников должны быть. Но как сейчас добраться до них? Они же тоже одна из страниц истории…
— Благодарю Вас. Это было очень интересное интервью.
Короткие или отрывочные сведения, а также возможные ошибки в тексте — это не проявление нашей или чьей-либо небрежности. Скорее, это обращение за помощью. Тема репрессий и масштаб жертв настолько велики, что наши ресурсы иногда не позволяют полностью соответствовать вашим ожиданиям. Мы просим вашей поддержки: если вы заметили, что какая-то история требует дополнения, не проходите мимо. Поделитесь своими знаниями или укажите источники, где встречали информацию об этом человеке. Возможно, вы захотите рассказать о ком-то другом — мы будем вам благодарны. Ваша помощь поможет нам оперативно исправить текст, дополнить материалы и привести их в порядок. Это оценят тысячи наших читателей!


